Рорти P. Философия и зеркало природы
Подождите немного. Документ загружается.


кардинально ошибочной. В работе „Историография философии: четыре *
жанра"
4
Рорти обсуждает понятие „канона" в истории философии,
полагая, что выстраивание последовательности философов прошлого в
соответствии с предполагаемой проблемой, которую они пытались
разрешить, является лишь приемом философа, который свою точку
зрения пытается обосновать традицией, путем выбора себе предше-
ственников, не имея на то полностью „объективного" основания.
Рорти далее полагает, что сам предмет „эпистемология" родился
довольно недавно, в основном стараниями неокантианцев, как раз для
целей научности философии, и установлением критерия прогресса в
ней путем усматривания одних и тех же проблем во всей истории
философии. И поскольку эпистемология говорит нам, что такое зна-
ние, в некотором смысле она претендует на выделенное положение в
культуре: ведь для гарантии того, что некоторая ветвь культуры
действительно приобретает знание, нужен вердикт теории познания.
Рорти отметает такое представление о выделенном положении эписте-
мологии и, как следствие, о выделенном положении философов в
современной культуре. Неудивительно, что многие критические от-
клики философов на книгу подспудно имеют в виду и это обстоя-
тельство.
Отсутствие общих проблем в ходе истории философии Рорти увя-
зывает с философией Куна. „Несоизмеримость" проблем философии
прошлого и настоящей философии занимает в аргументации Рорти
особо важное место. Но смене парадигм в науке, согласно Куну,
Рорти предпочитает „избавление от великих проблем", отказ от них
как от псевдопроблем, порожденных некоторой частной картиной
мира. Рорти не претендует на то, чтобы изобразить такого рода
подход в качестве универсального. Наоборот, он считает, что в истории
философии превалировал подход противоположный. Тут Рорти прибе-
гает к авторитету позднего Виттгенштейна, который выступил в
качестве „сатириста" по отношению к традиционной философии —
включая собственный „Логико-философский трактат" — и тем самым
позволил избавиться от псевдопроблем. В этом отношении Виттген-
штейн находится в одной и той же компании с Ницше и Хайдеггером,
которые считали, что философии стоит отказаться от ее претензий на
установление истины, претензий, как они представлены у Канта или
Рассела.
Если Кант и Рассел имеют цель найти основания знания или
морали, цель возведения здания всего знания, цель приведения в
систему всего культурного наследия человечества, то Ницше и Хай-
деггер таковой цели перед философией не ставят. Их философия
скорее является реакцией на традиционную философию, поскольку
они исходят из другой концепции — а именно, как ее определяет
Рорти, концепции философии как „наставления", как вклада в обра-
зование. В определенной степени такие философы являются раз-
Русский перевод В. Целищева помещен в качестве приложения к изданию
Рассела (Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1994).
xiii

рушителями, и не случайно Рорти с пониманием относится к программе
деконструкции философии Ж. Деррида. Если отказаться от научной
философии, тогда жанр самой философии становится расплывчатым, и
опять-таки не случайно Рорти уже одобрительно относится к тезису того же
Деррида, что философия представляет собой просто один из видов
беллетристики.
Следует заметить, что „наставительная" философия не должна
мыслиться как новая эпистемология. Скорее она напоминает герменевтику в
своей попытке поддерживать постоянный разговор в рамках культуры или
осуществляя уже упомянутый „разговор человечества". Сопоставление
герменевтики и эпистемологии завершает книгу Рорти, сопоставление, в
котором, вопреки сложившемуся мнению, не отдается предпочтения какой-
то одной из традиций. По большому счету многие из положений
„Философии и зеркала природы" нашли свое продолжение в дальнейших
работах, где обсуждается „постфилософская культура". Основной вопрос
для Рорти заключается в том, является ли эта культура столь хорошей,
чтобы ее попробовать.
Перевод книги Рорти является крайне своевременным по той причине,
что „постфилософская культура" находится уже на пороге и ознакомление с
ней необходимо для понимания тех процессов, которые выражены
названием одного из известных сборников философских работ
постмодернистов — „После философии".
Перевод на русский язык работ, подобных книге „Философия и зеркало
природы", поднимает много проблем. Прежде всего, это терминологические
решения, которые приходится принимать, исходя из совершенно различных
соображений, которые между собой не всегда согласуются. Конечно,
хочется, чтобы сохранялась традиция перевода философских текстов,
которая создана трудами многих весьма квалифицированных переводчиков.
Однако новизна „постфилософских" текстов, подобных указанной книге,
обусловленная многочисленными исследованиями в столь различных
областях философии, таких как аналитическая философия и герменевтика,
философия науки и историко-философские изыскания, вводящими в оборот
множество неоднозначных терминов и понятий, диктует необходимость
введения новых терминов и нового прочтения известных. Другим
обстоятельством является то, что терминология должна соответствовать
духу философского направления, которому принадлежит переводимый труд.
Скажем, аналитическая философия, представленная переводами на русский
язык, находится в особо трудном положении, поскольку традиция перевода
философских текстов на русский язык сложилась в условиях господства
традиции немецкой классической философии и марксистской философии.
Переводя, скажем, с английского на русский термины для понятий,
имеющих совсем различную коннотацию в англо-американской философии
по сравнению с немецкой, переводчик рискует исказить смысл
переводимого текста.
Особенно это относится к цитированию в трудах на английском языке
авторов книг, которые были написаны на французском или немецком
языках (скажем, Декарта или Канта). Опыт переводчика этой книги
показывает, что зачастую „канонические" переводы на
xiv
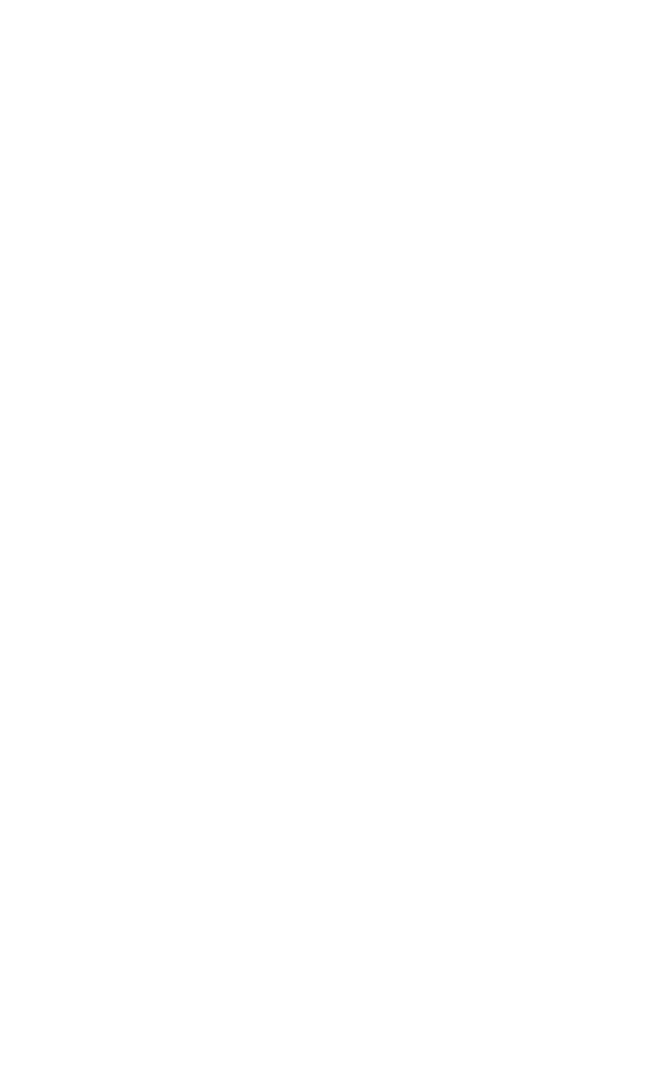
русский язык тех же Декарта или Канта осуществленные, скажем,
издательством „Мысль" (серия „Философское наследие"), не всегда
отвечают содержанию, которое вкладывается авторами трудов на
английском языке, цитирующих немцев или французов. Ясно, что
дело тут не в „правильности" или „адекватности" перевода, а в
контексте философского направления, который следует учитывать
прежде всего.
Обе проблемы — перевод терминов и цитирование иноязычных
по отношению к английскому и русскому языкам источников —
являются взаимосвязанными. Даже такие устоявшиеся переводы на
русский язык, как переводы Канта, подвержены весьма критическим
оценкам многих исследователей. Сошлюсь при этом на видного спе-
циалиста А. Гулыгу, который приводит впечатляющий перечень „не-
точностей, иногда существенно искажающих смысл" при переводе
Канта на русский язык
5
. Другая сторона этой проблематичной ситу-
ации превосходно передана В. П. Рудневым в предисловии к переводу
книги Н. Малькольма
6
. Не могу удержаться, чтобы не привести
обширную цитату Руднева по этому поводу, добавленную им к пре-
дисловию в качестве примечания переводчика: „Здесь и далее во всех
случаях цитаты даются в переводе с английского языка, то есть с
языка, на котором читал эти произведения автор книги. Такая
позиция может вызвать возражения, поэтому мы коротко постараемся
ее обосновать. Для американского философа-аналитика существует
всегда только один язык — английский, филологические тонкости
оригинала, существенные для феноменолога или герменевта для него
совершенно несущественны. Поэтому гораздо более естественным и
адекватным представлялось давать цитаты не из абстрактных Декарта,
Канта или Платона, переведенных в разное время советскими пере-
водчиками, а Декарта, Канта и Платона глазами англоязычного
американца Нормана Малькольма, сохраняя тем самым его языковую
картину восприятия этих мыслителей со всеми возможными дефор-
мациями, которые тоже входят в эту картину. Жертвуя мнимой
филологической точностью перевода, мы выигрываем в целостности
переводческой концепции. Проиллюстрируем последний тезис на при-
мере „от противного". Когда в библиографии книги, опубликованной
по-английски в 1959 году встречаются вдруг позиции типа собрания
сочинений Канта или Аристотеля, изданных в 70-е годы по русски
издательством „Мысль", нам это представляется такой же абсурдной
условностью, как обязательные еще [недавно] труды „основополож-
ников" в списке литературы к любой книге по философии." (с. 32).
Прекрасно аргументированная установка при переводе почти не тре-
бует комментария. От себя добавим лишь, что хотя Р. Рорти гораздо
более внимателен к филологическим тонкостям, указанная установка
вполне оправданна, учитывая сочность его языка и многочисленные
5
См. его очерк „Кант сегодня" в работе: Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.
6
Малькольм Н. Состояние сна. М.: Прогресс, 1993. Пер. В. П. Руднева.
XV

вольности речи. Кроме того, при обсуждении философов типа Канта
и Декарта Рорти часто прибегает к терминологии, которая появилась
гораздо позже времени, когда творили эти философы (например,
термин „учреждающий ум" по Канту, вошедший в моду с Гуссерлем).
Наконец, переводчик представляемой книги Рорти много раз слышал
от англоязычных философов о том, что у них нет „канонического"
издания работ Канта или кого-либо еще из великих философов
прошлого на английском языке. По этой причине каждый философ
цитирует философов, писавших не на английском языке, переводя
зачастую соответствующие пассажи сам. Именно так делает Рорти.
По этой причине при цитировании многих переводов на английский
язык пассажей неанглоязычных философов мною часто приводится
„канонический" перевод на русский язык (если он существует), а
также мой перевод с английского перевода, дабы сохранить адекват-
ность передаваемой Рорти мысли.
Поскольку книга в значительной степени посвящена чисто тех-
ническим результатам в области теории познания, не удалось избежать
введения ряда технических терминов. В первую очередь, это касается
центрального понятия, передаваемого термином „репрезентация",
который уже давно получил „гражданство" в литературе по
философии ума и искусственному интеллекту. Бурные дискуссии
вокруг эпистемологии, явившиеся частично результатом
интенсивного ее развития за последние полвека (и которые, как
отмечено в предисловии Рорти к русскому изданию книги, обошли
стороной русскоязычного читателя) потребовали весьма радикального
обновления словаря. Именно этому обстоятельству перевод обязан
появлением множества специальных терминов, что характерно для
развитого состояния соответствующего раздела науки. Следует
отметить сочность языка Рорти, свободно вводящего в философский
обиход слова из обыденного языка, что вообще свойственно англо-
американской традиции. Эта особенность была сохранена в книге в
той степени, в какой это было максимально возможно.
Переводчик встретился не только с терминологическими трудно-
стями. Дело в том, что книга Рорти является последним срезом
целого пласта философских исследований, дискуссий, достижений,
неудач, перспективных и тупиковых поисков, что свойственно в осо-
бой степени книгам с полемическим уклоном. Поэтому в ней много
материала, который должен пониматься „по умолчанию", т. е., пред-
полагается, известен читателю, последний в этом случае должен быть
весьма подготовленным. По известным причинам трудно рассчитывать
на подобную осведомленность у русскоязычного читателя. По просьбе
переводчика профессор Р. Рорти дал разъяснения многим трудным
местам (в тексте они даны как примечания к русскому изданию),
Я чрезвычайно признателен Ричарду Рорти за внимание, которое
он проявил к изданию на русском языке своей книги „Философия и
зеркало природы". Для русского издания им специально написано
предисловие; кроме того, он содействовал переговорам с Princeton
University Press о покупке прав на русское издание книги. Я также
благодарен Мэри и Ричарду Рорти за гостеприимство в их доме в
xvi

Шарлотсвилле (Вирджиния, США) во время моих визитов 1993 и
1995 гг., которые позволили прояснить немало весьма важных поло-
жений в философии Ричарда Рорти, использованных при переводе
этой монументальной критической работы. Наконец, Ричард Рорти
проявил подлинное долготерпение в процессе перевода книги, чрез-
вычайно оперативно (по электронной почте) отвечая на возникающие
у переводчика вопросы.
Я признателен Комитету по печати Российской Федерации за
содействие в выполнении проекта перевода книги. Как и прежде, я
многим обязан моему старому другу профессору Василию Викторовичу
Петрову, без помощи и моральной поддержки которого проект не
был бы осуществим. Издательство Новосибирского университета взяло
на себя смелость и тяжкий труд издания знаменитых и очень нужных
книг, которые — парадоксально, но факт — в нынешние времена
издавать невыгодно. Остается лишь надеяться, что усилия в реали-
зации проекта перевода книги (переведенной на все европейские, а
также китайский и японские языки) на русский язык будут оценены
читателем; главное же заключается в том, чтобы до читателя дошли
усилия Ричарда Рорти по реформированию современной философии.
В. В. Целищев
Ноябрь, 1996 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Привычка откладывать дело со дня на день имеет некоторые
преимущества. Время от времени я натыкался в философских жур-
налах на сложные и запутанные проблемы — из разряда тех, которые
возбуждают огромный интерес и в то же время столь незнакомы, что
я не знал, что и думать о них. Я чувствовал, что мой моральный долг
— познакомиться со встретившейся проблемой и разработать свой,
альтернативный, способ ее разрешения. Иногда чувство вины за
неисполненное продолжало мучить меня на протяжении пяти—
десяти лет, хотя я так ничего и не делал, чтобы облегчить это
чувство. В конце концов, однако, я часто обнаруживал, что проблема,
которую я игнорировал, испытывая муки совести, исчезла с фило-
софской сцены, что никто из моих коллег больше не работает над ее
решением и что нет никакого упоминания о ней в философских
журналах. Тогда я поздравлял себя с разумной предусмотрительностью
и приходил к мнению, что поступал достаточно мудро, ожидая исчез-
новения проблемы, правильно угадав ее эфемерность.
Во времена коммунистического режима русские философы про-
пустили массу восхитительных, новых, ярких переходных философ-
ских проблем. Одни из них зарождались в рамках феноменологической
традиции (например, об ощущении внутреннего времени). Другие
возникали в рамках хайдеггеровской традиции (например, о соотно-
шении между первым и вторым разделениями Sein и Zeit). Много
проблем поднималось в рамках традиции XX века, которой следовало
наибольшее число философов, наиболее динамичной и восторгавшейся
по собственному поводу, — англофильской аналитической традиции.
Проблемы анализа контрфактических суждений, уместность подста-
новочной квантификации, возможность физикалистской теории ука-
зания и многие другие проблемы принимали в сознании аналитических
философов преувеличенные размеры, но вскоре переставали вообще
казаться такими уж значимыми. Большинство российских философов,
хотя, конечно, не все, познакомились с этими проблемами (если
вообще слышали о них) как раз в то время, когда они перестали
обсуждаться.
XViii

Российские философы теперь могут поразмышлять и спросить
себя, что достойно внимания из того, что сохранилось от различных
традиций в нероссийской философии, от которой они были в зна-
чительной степени отрезаны из-за исторических случайностей 1925—
1985 гг. Они могут обойтись без множества проблем, которыми в
противном случае занимались бы. Они стали жертвами переноса во
времени, но сейчас в состоянии оценить случайные преимущества
прошлой ситуации — преимущества задержки по времени.
Я надеюсь, что они найдут эту книгу полезной для приобретения
чувства того, что в аналитической традиции сейчас живо, а что
мертво. Моя Философия и зеркало природы — это слегка циничная,
слегка завистливая, в чем-то предубежденная попытка подведения
итогов того, что случилось в аналитической философии приблизи-
тельно в 1930—1970 гг. Она написана человеком, который был вос-
питан в русле более старой, историко-ориентированной философии,
предшествовавшей приходу аналитической философии в США, и
который никогда не чувствовал себя в своей тарелке при встрече с
манерами и методами аналитических философов. Хотя я посещал
лекции Рудольфа Карнапа в возрасте 19 лет, большая часть моей
подготовки в области философии предполагала обычную последова-
тельность философов (Платон—Аристотель—Декарт—Лейбниц—Спи-
ноз а—Локк—Юм—Кант—Гегель), а также такие фигуры XX века,
как Бергсон, Уайтхед и Дьюи. Но к тому времени, когда я стал
присматривать себе работу в качестве преподавателя (конец 50-х),
аналитическая философия почти полностью вытеснила своих пред-
шественников; сделать карьеру в философии означало в то время
посвятить себя проблемам, поставленным аналитическими филосо-
фами.
Аналитические философы, такие как Карнап и Айер, гордились
открытием того, что многие из проблем метафизической традиции
оказались „псевдопроблемами" — проблемами, созданными выбором
словаря, которые могли бы быть устранены путем изменения способа
их формулировки. Я склонен подозревать, что множество проблем в
самой аналитической философии были „псевдопроблемами" в том же
самом смысле. Некоторые из этих подозрений впоследствии подт-
вердились, когда Уиллард Куайн (в статье Две догмы эмпиризма,
опубликованной в 1951 г.) выступил против различения аналитических
и синтетических истин. Подозрения в отношении таких проблем
подтвердились, когда Уилфред Селларс (в своей эпохальной работе
Эмпиризм и философия ума, опубликованной в 1956 г.) атаковал
идею эмпиристов о „чувственных данных". Это подтверждал также
сарказм Виттгенштейна (в его Философских исследованиях, опуб-
ликованных в 1954 г.) по поводу идеи того, что „логика является чем-
то возвышенным" — убеждение, которое было столь важным для его
ранней работы Логико-философский трактат и множества других
работ в русле аналитической философии.
Философия и зеркало природы представляет, как я сказал во
введении, попытку дать обзор развития философии в последнее время,
xix
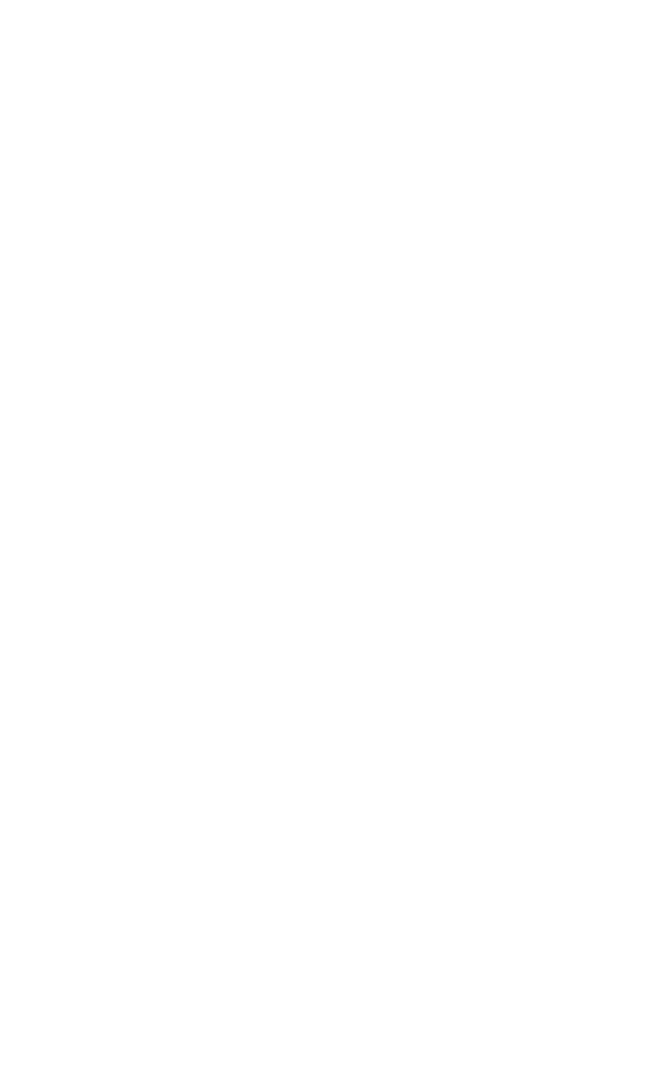
с точки зрения антикартезианской и антикантианской революции —
революции, которая была инициирована проницательными поисками
Куайна, Селларса и Виттгенштейна. Что бы ни думали в конце
концов русские философы об общей ценности аналитической традиции
в философии, я надеюсь, они согласятся со мною, что эти три
философа заслуживают, чтобы их изучали уже только за то, что они
решились на критику догм своего времени и осуществили ее с экстра-
ординарной мощью и тщанием.
Если бы я писал эту книгу сегодня, я бы в гораздо большей
степени использовал идеи трех современных аналитических филосо-
фов, чьи работы я приравниваю по значимости к работам Куайна и
Селларса, а именно Дональда Дэвидсона, Роберта Брендома и
Даниэля Деннета. Дэвидсон в серии блестящих статей (часть из
которых перепечатана в сборнике — D. Davidson, Inquires into Meaning
and Truth, 1984, а многие другие, ожидается, будут собраны в сле-
дующих сборниках) использовал проницательные прозрения Куайна
еще в большей степени, чем сам Куайн. Он произвел на свет тщательно
продуманную натуралистическую философию ума и языка, которые,
с моей точки зрения, представляют наиболее впечатляющий интел-
лектуальный синтез в последнее время. Брендом в своей монумен-
тальной книге (Brandom, Making It Explicit, 1994) пошел в исполь-
зовании прозрений Селларса еще дальше, чем сам Селларс, и его
работа дополняет работу Дэвидсона в отношении весьма важных
положений. Деннет, который начал с развития следствий антикар-
тезианства, явным образом выраженного Райлом в его Концепции ума
(Ryle, The Concept of Mind) и неявным образом в Философских
исследованиях Виттгенштейна, стал ведущим философом ума нашего
времени. Его книги (особенно The Intentional Stance, Consciousness
Explained and Darwin's Dangerous Idea) представляют собой исклю-
чительно ясные, прекрасно аргументированные объяснения того, как
совместить феномен ментального с дарвиновским объяснением про-
исхождения человеческих существ.
Хотя аналитическая философия с самого начала называла себя
„логическим эмпиризмом" и на ранней стадии соединяла идолопоклон-
ническую позицию в отношении символической логики с удивитель-
ным доверием к британскому эмпиризму (движение, которое можно
было бы считать достаточно опровергнутым такими давними фило-
софами, как Томас Рид и Т. Г. Грин), в настоящее время не является
ни существенно логической, ни существенно эмпиристской. Она отка-
залась от понимания развития философии посредством „лингвистиче-
ского метода" (нечто обманчивое, принятое слишком серьезно в моей
работе The Linguistic Turn, 1967). Аналитическая философия стала (по
сравнению с теми временами, когда я был студентом) удивительно
недогматичной. Короче, она достигла зрелости.
Русские философы могут выиграть от того, что пропустили стадию
становления аналитического движения. Они могут также выиграть от
понимания того, что пренебрежение историей философии, тради-
ционно характерное для аналитических философов (благодаря не-
XX

удачному примеру Куайна, чье презрение к изучению истории философии
никогда не скрывалось и имитировалось многими), было случайным и
переходным явлением. Брендом, блестяще писавший о Гегеле и Хайдеггере,
является примером философа, который соединяет пристальное внимание к
недавним работам в области аналитической философии с глубиной
исторического знания, на что, среди других аналитических философов, был
способен только Селларс.
Я могу представить себе (и определенно надеюсь на это), что историки
философии в конце XXI века, оглядываясь на аналитическое движение в
философии, будут рассматривать его как движение, которое родилось и
умерло в качестве специфического для XX века феномена, — как движение,
которое не обладало ясной самотождественностью. Самое удачное для этого
движения — приправка его другими течениями. В настоящее же время
дебаты между Ролзом и Хабермасом рассматриваются как редкая стычка,
проведенная с воодушевлением философами, между которыми огромная
пропасть
1
. Я полагаю, что несколькими десятилетиями позднее дебаты
между последователями обоих философов будут просто рутинными. Опять-
таки, я надеюсь, что попытки свести вместе Дэвидсона и Деррида скоро
будут рассматриваться не как ловкий трюк, как это обычно делается сейчас,
а как поучительное сравнение и сопоставление. Взаимная непостижимость,
которая отделяла англофильских от немецких, французских, испанских и
итальянских философов в течение нескольких поколений, будет, если все
пойдет хорошо, рассматриваться как неудачная интерлюдия.
В своих последних книгах (в частности, Contingency, Irony and Solidarity,
1989 и Essays on Heidegger and Others, 1991) я сделал все от меня зависящее,
чтобы сплести вместе особенности французской и немецкой философии с
особенностями аналитической философии. Например, я сравниваю Деррида
с Дэвидсоном, Хайдеггера с Виттгенштейном. Я аргументирую (как делал
это также, в качестве предварительного намерения, в Зеркале), что
антикартезианские и антикантианские элементы у всех этих фигур
перевешивают различия в стиле, сфере ссылок и философских мотивациях,
которые разделяют их. Я хотел бы думать, что историки философии в конце
следующего столетия согласятся со мной в том, что восстание против
Декарта и Канта, осуществленное широко известными философами XX века,
ознаменовало истинное продвижение в философии.
Я, с некоторым извинением, признаю, что отдельные споры, бывшие
предметом обсуждения в Зеркале, сами по себе устарели и что,
ретроспективно размышляя, я, вероятно, уделил им большее внимание, чем
они заслуживали. С другой стороны, я подозреваю, что если бы я не
участвовал в этих в чем-то узких и эфемерных спорах, Зеркало никогда не
привлекло бы внимания публики. Я надеюсь,
Такие дебаты приведены на страницах The Journal of Philosophy, v. xcii, n. 3,
1995.
xxi

что русские читатели не увязнут в тех спорах, которые уже принад-
лежат прошлому, и будут следовать скорее духу, нежели букве книги,
— более ее метафилософскому взгляду, нежели защите версии
материализма, более — предположениям о дрейфе истории недавней
философии, нежели объяснению соотношения между психологией и
философией
2
. Хотя мой друг Виталий Целищев (которому я очень
благодарен) добросовестно и тщательно перевел пустяковые сноски,
я надеюсь, что читатель этого перевода будет игнорировать детали
ради большей картины. Многие из споров, упомянутые в ссылках (и
на самом деле, в тексте книги) не стоят того, чтобы разбирать их. Но
я хотел бы думать, что глобальный дрейф этой книги все еще значим
для современных рассмотрений.
Ричард Рорти
Сентябрь 3, 1995 г.
В частности, я полагаю, что мое обсуждение соотношения ума и тела в этой
книге менее тонко и ясно, чем предложенное Деннетом в книгах, которые я упомянул
выше. Я полагаю, что обсуждение философии языка в главе шестой вполне значимо
само по себе, но что Дэвидсон и Брендом продвинули целую область философии
языка гораздо дальше, чем это сделано в моей книге.
