Шохин В.К. Стратификации реальности в онтологии адвайта-веданты
Подождите немного. Документ загружается.

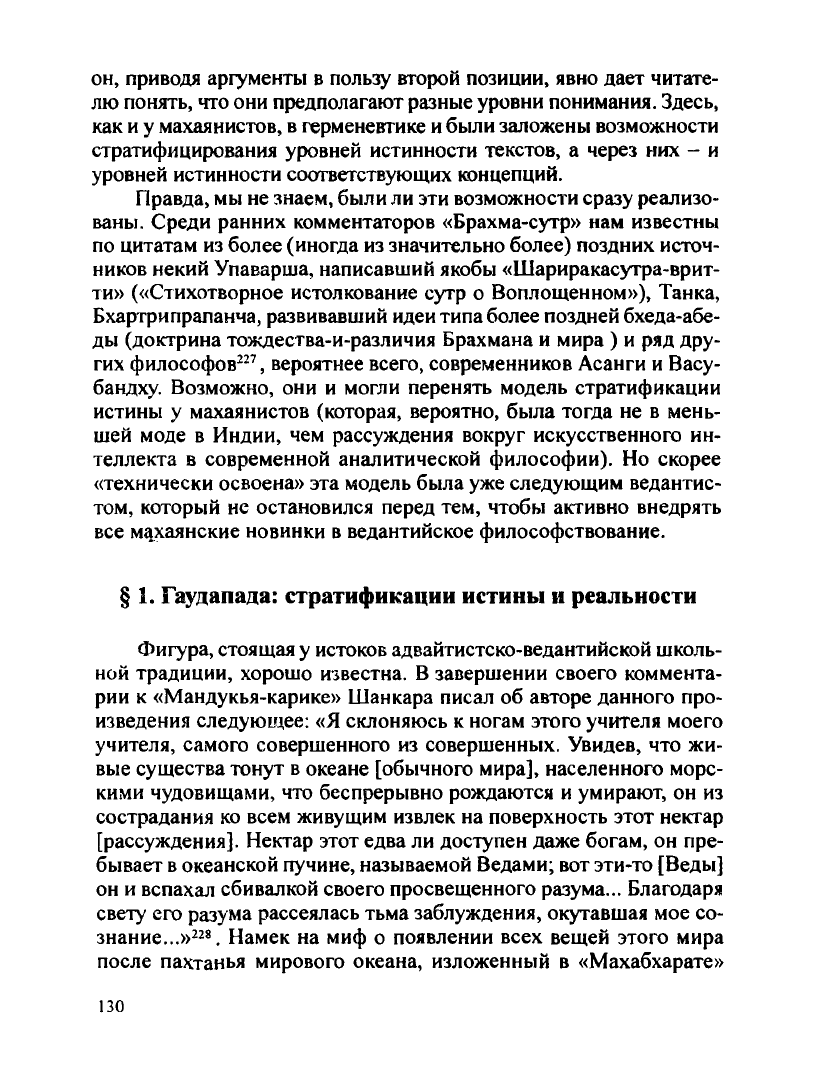
он,
приводя аргументы в пользу второй позиции, явно
дает
читате-
лю понять, что они предполагают разные уровни понимания. Здесь,
как
и у махаянистов, в герменевтике и были заложены возможности
стратифицирования уровней истинности текстов, а через них - и
уровней истинности соответствующих концепций.
Правда, мы не знаем, были ли эти возможности сразу реализо-
ваны.
Среди ранних комментаторов
«Брахма-сутр»
нам известны
по
цитатам из более (иногда из значительно более) поздних источ-
ников
некий Упаварша, написавший якобы «Шариракасутра-врит-
ти» («Стихотворное истолкование
сутр
о Воплощенном»), Танка,
Бхартрипрапанча, развивавший идеи типа более поздней
бхеда-абе-
ды (доктрина тождества-и-различия Брахмана и мира ) и ряд дру-
гих философов
227
, вероятнее всего, современников Асанги и
Васу-
бандху.
Возможно, они и могли перенять модель стратификации
истины у махаянистов (которая, вероятно, была
тогда
не в мень-
шей моде в
Индии,
чем рассуждения вокруг искусственного ин-
теллекта в современной аналитической философии). Но скорее
«технически освоена» эта модель была уже следующим ведантис-
том, который не остановился перед тем, чтобы активно внедрять
все махаянские новинки в ведантийское философствование.
§
1. Гаудапада: стратификации истины и реальности
Фигура, стоящая у истоков адвайтистско-ведантийской школь-
ной
традиции, хорошо известна. В завершении своего коммента-
рии
к «Мандукья-карике» Шанкара писал об авторе данного про-
изведения следующее: «Я склоняюсь к ногам этого учителя моего
учителя, самого совершенного из совершенных. Увидев, что жи-
вые существа тонут в океане [обычного мира], населенного морс-
кими
чудовищами, что беспрерывно рождаются и умирают, он из
сострадания ко всем живущим извлек на поверхность этот нектар
[рассуждения]. Нектар этот едва ли доступен
даже
богам, он пре-
бывает в океанской пучине, называемой Ведами; вот эти-то
[Веды]
он
и вспахал сбивалкой своего просвещенного разума... Благодаря
свету
его разума рассеялась тьма заблуждения, окутавшая мое со-
знание...»
228
. Намек на миф о появлении
всех
вещей этого мира
после пахтанья мирового океана, изложенный в
«Махабхарате»
130
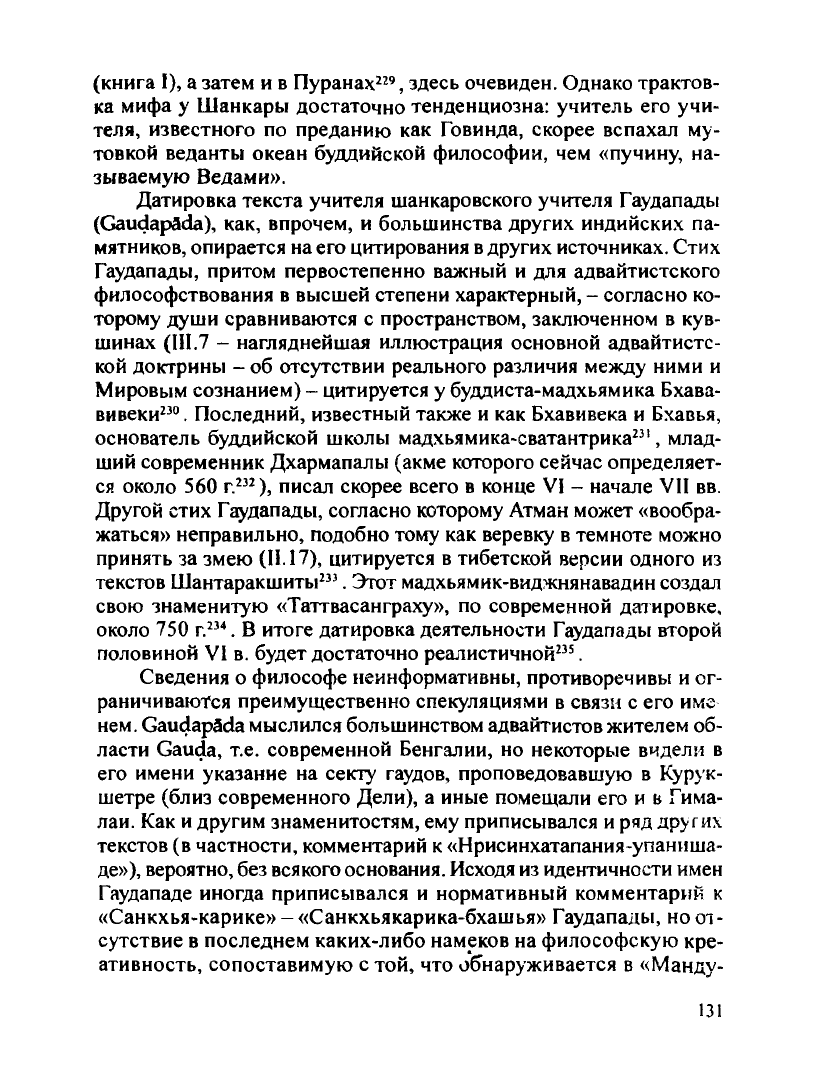
(книга
I), а затем и в Пуранах
229
, здесь очевиден. Однако трактов-
ка
мифа у Шанкары достаточно тенденциозна: учитель его учи-
теля, известного по преданию как Говинда, скорее вспахал му-
товкой веданты океан буддийской философии, чем
«пучину,
на-
зываемую Ведами».
Датировка текста учителя шанкаровского учителя Гаудапады
(Gaudapada),
как, впрочем, и большинства
других
индийских па-
мятников,
опирается на его цитирования в
других
источниках. Стих
Гаудапады, притом первостепенно важный и для адвайтистского
философствования
в высшей степени характерный, - согласно ко-
торому души сравниваются с пространством, заключенном в кув-
шинах
(III.7
- наглядненшая иллюстрация основной адвайтистс-
кой
доктрины - об отсутствии реального различия
между
ними и
Мировым
сознанием) - цитируется у буддиста-мадхьямика Бхава-
вивеки
230
.
Последний, известный также и как Бхавивека и Бхавья,
основатель буддийской школы мадхьямика-сватантрика
231
, млад-
ший
современник Дхармапалы (акме которого сейчас определяет-
ся
около 560 г.
232
), писал скорее всего в конце VI - начале VII вв.
Другой стих Гаудапады, согласно которому Атман может «вообра-
жаться»
неправильно, подобно тому как веревку в темноте можно
принять
за змею
(II.
17), цитируется в тибетской версии одного из
текстов Шантаракшиты
2
". Этот мадхьямик-виджнянавадин создал
свою знаменитую
«Таттвасанграху»,
по современной датировке,
около
750
г.
234
.
В итоге датировка деятельности Гаудапады второй
половиной
VI в.
будет
достаточно реалистичной
235
.
Сведения о философе неинформативны, противоречивы и ог-
раничиваются преимущественно спекуляциями в связи с его имг
нем.
Gaudapada мыслился большинством адвайтистов жителем об-
ласти Gauda, т.е. современной Бенгалии, но некоторые видели в
его имени указание на секту
гаудов,
проповедовавшую в Курук-
шетре (близ современного Дели), а иные помещали его и в Гима-
лаи.
Как и другим знаменитостям, ему приписывался и ряд
других
текстов (в частности, комментарий к «Нрисинхатапания-упаниша-
де»), вероятно, без всякого основания. Исходя из идентичности имен
Гаудападе
иногда приписывался и нормативный комментарий к
«Санкхья-карике» — «Санкхьякарика-бхашья» Гаудапады, но от-
сутствие в последнем каких-либо намеков на философскую кре-
ативность, сопоставимую с той, что обнаруживается в «Манду-
131
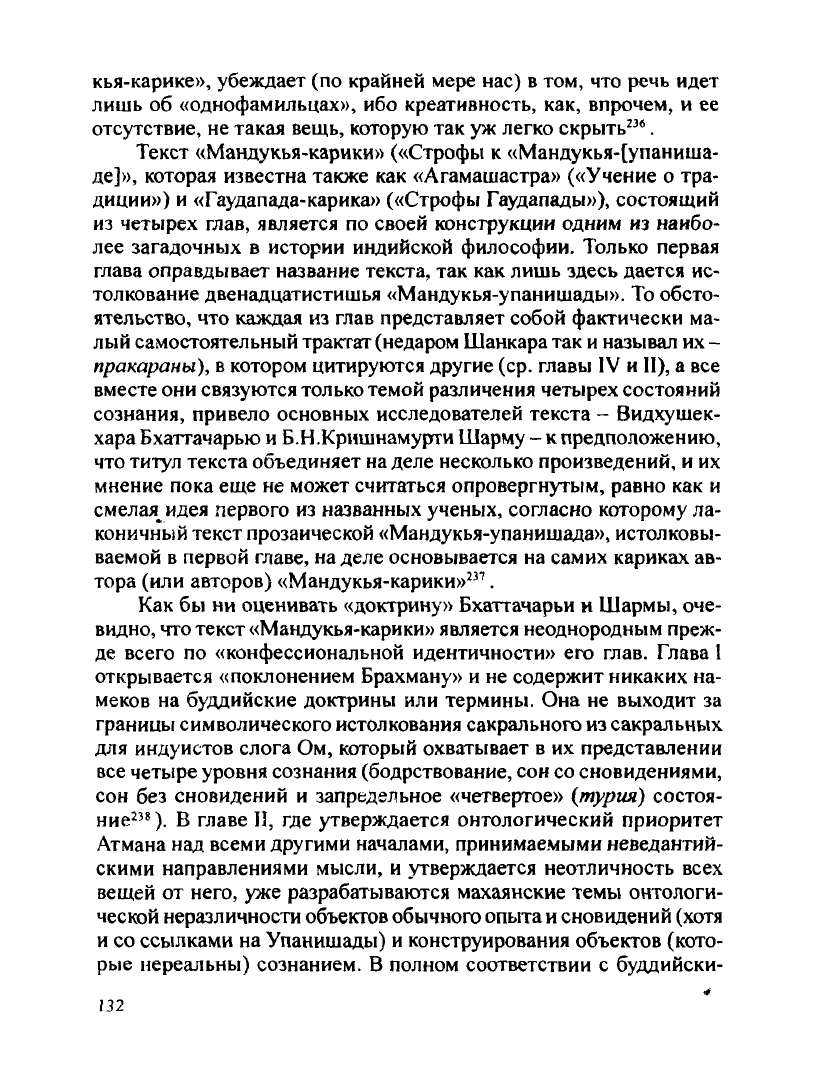
кья-карике»,
убеждает
(по крайней мере нас) в том, что речь идет
лишь
об «однофамильцах», ибо креативность, как, впрочем, и ее
отсутствие, не такая вещь, которую так уж легко скрыть
236
.
Текст «Мандукья-карики» («Строфы к «Мандукья-[упаниша-
де]», которая известна также как
«Агамашастра»
(«Учение о тра-
диции») и «Гаудапада-карика» («Строфы Гаудапады»), состоящий
из
четырех глав, является по своей конструкции одним из наибо-
лее загадочных в истории индийской философии. Только первая
глава оправдывает название текста, так как лишь здесь дается ис-
толкование двенадцатистишья «Мандукья-упанишады». То обсто-
ятельство, что каждая из глав представляет собой фактически ма-
лый самостоятельный трактат (недаром Шанкара так и называл их -
пракараны),
в котором цитируются
другие
(ср. главы IV и II), а все
вместе они связуются только темой различения четырех состояний
сознания,
привело основных исследователей текста - Видхушек-
хара
Бхаттачарью и Б.Н.Кришнамурти Шарму - к предположению,
что
титул
текста объединяет на
деле
несколько произведений, и их
мнение
пока еще не может считаться опровергнутым, равно как и
смелая идея первого из названных ученых, согласно которому ла-
коничный
текст прозаической «Мандукья-упанишада», истолковы-
ваемой в первой главе, на
деле
основывается на самих кариках ав-
тора (или авторов) «Мандукья-карики»
237
.
Как
бы ни оценивать
«доктрину»
Бхаттачарьи и Шармы, оче-
видно,
что текст «Мандукья-карики» является неоднородным преж-
де всего по «конфессиональной идентичности» его глав. Глава I
открывается «поклонением Брахману» и не содержит никаких на-
меков на буддийские доктрины или термины. Она не выходит за
границы
символического истолкования сакрального из сакральных
для индуистов слога Ом, который охватывает в их представлении
все четыре уровня сознания (бодрствование, сон со сновидениями,
сон
без сновидений и запредельное
«четвертое»
(турия) состоя-
ние
238
). В главе II, где утверждается онтологический приоритет
Атмана над всеми другими началами, принимаемыми неведантий-
скими
направлениями мысли, и утверждается неотличность
всех
вещей от него, уже разрабатываются махаянские темы онтологи-
ческой неразличности объектов обычного опыта и сновидений (хотя
и
со ссылками на Упанишады) и конструирования объектов (кото-
рые нереальны) сознанием. В полном соответствии с буддийски-
j
132
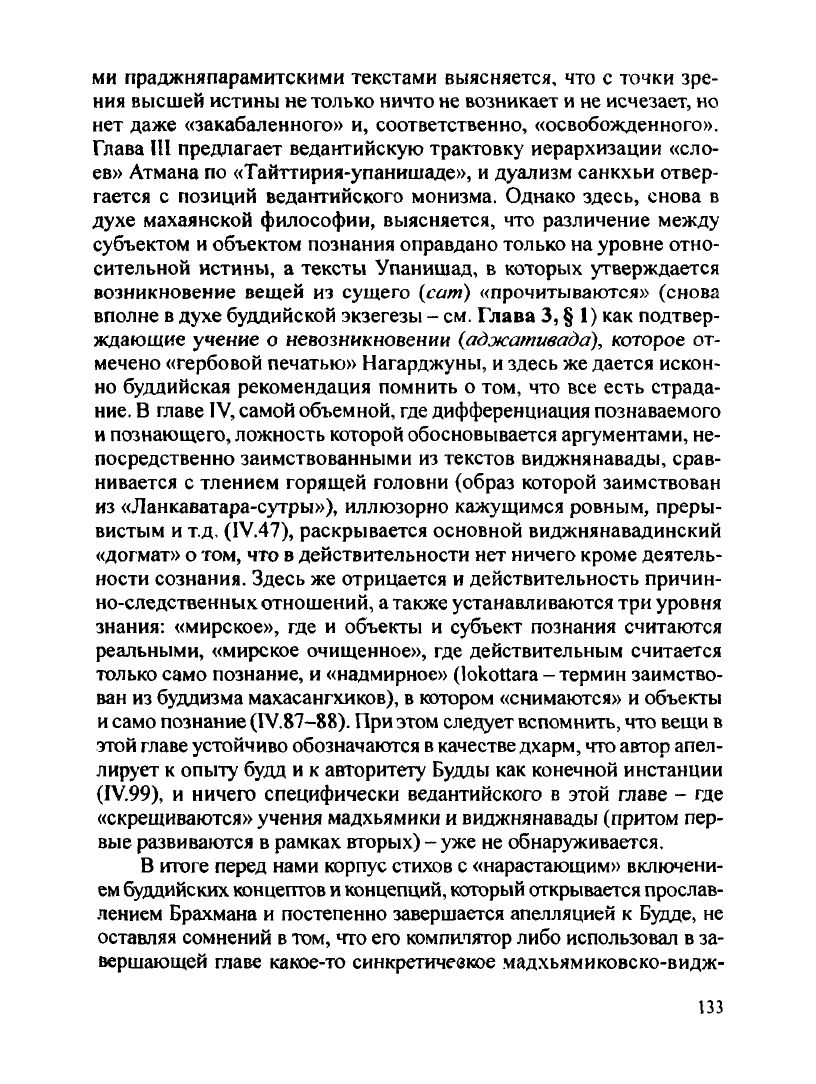
ми
праджняпарамитскими текстами выясняется, что с точки зре-
ния
высшей истины не только ничто не возникает и не исчезает, но
нет
даже
«закабаленного» и, соответственно, «освобожденного».
Глава III предлагает ведантийскую трактовку иерархизации «сло-
ев» Атмана по «Тайттирия-упанишаде», и дуализм санкхьи отвер-
гается с позиций ведантийского монизма. Однако здесь, снова в
духе
махаянской философии, выясняется, что различение
между
субъектом и объектом познания оправдано только на уровне отно-
сительной истины, а тексты Упанишад, в которых утверждается
возникновение
вещей из сущего (cam) «прочитываются» (снова
вполне в
духе
буддийской экзегезы - см. Глава 3, § 1) как подтвер-
ждающие учение о невозникновении
(аджативада),
которое от-
мечено «гербовой
печатью»
Нагарджуны, и здесь же дается искон-
но
буддийская рекомендация помнить о том, что все есть страда-
ние.
В главе IV, самой объемной, где дифференциация познаваемого
и
познающего, ложность которой обосновывается аргументами, не-
посредственно заимствованными из текстов виджнянавады, срав-
нивается с тлением горящей головни (образ которой заимствован
из
«Ланкаватара-сутры»), иллюзорно кажущимся ровным, преры-
вистым и т.д. (IV.47), раскрывается основной виджнянавадинский
«догмат»
о том, что в действительности нет ничего кроме деятель-
ности
сознания. Здесь же отрицается и действительность причин-
но-следственных отношений, а также устанавливаются три уровня
знания:
«мирское», где и объекты и субъект познания считаются
реальными, «мирское очищенное», где действительным считается
только само познание, и «надмирное» (lokottara - термин заимство-
ван
из буддизма махасангхиков), в котором «снимаются» и объекты
и
само познание
(IV.87-88).
При этом
следует
вспомнить, что вещи в
этой
главе устойчиво обозначаются в качестве дхарм, что автор апел-
лирует к опыту
будд
и к авторитету Будды как конечной инстанции
(IV.99), и ничего специфически ведантийского в этой главе - где
«скрещиваются» учения мадхьямики и виджнянавады (притом пер-
вые развиваются в рамках вторых) -уже не обнаруживается.
В итоге перед нами корпус стихов с «нарастающим» включени-
ем буддийских концептов и
концепций,
который открывается прослав-
лением Брахмана и постепенно завершается апелляцией к Будде, не
оставляя сомнений в том, что его компапятор либо использовал в за-
вершающей главе какое-то синкретическое мадхьямиковско-видж-
133
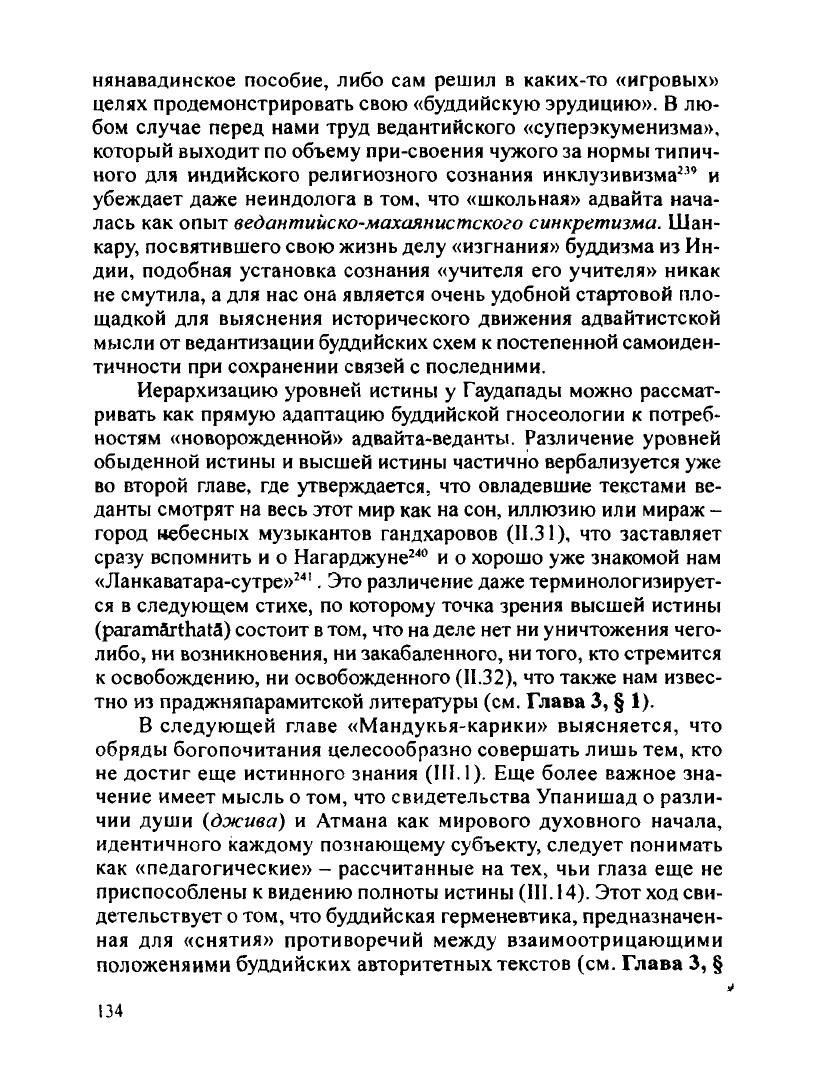
нянавадинское
пособие, либо
сам
решил
в
каких-то
«игровых»
целях продемонстрировать свою «буддийскую эрудицию».
В лю-
бом случае перед нами
труд
ведантийского «суперэкуменизма»,
который
выходит
по
объему при-своения чужого
за
нормы типич-
ного
для
индийского религиозного сознания инклузивизма
239
и
убеждает
даже неиндолога
в
том,
что
«школьная» адвайта нача-
лась
как
опыт
ведантииско-махаянистского
синкретизма.
Шан-
кару, посвятившего свою жизнь
делу
«изгнания» буддизма
из
Ин-
дии,
подобная установка сознания «учителя
его
учителя»
никак
не
смутила,
а для нас она
является очень удобной стартовой
пло-
щадкой
для
выяснения исторического движения адвайтистской
мысли
от
ведантизации буддийских схем
к
постепенной самоиден-
тичности
при
сохранении связей
с
последними.
Иерархизацию уровней истины
у
Гаудапады можно рассмат-
ривать
как
прямую адаптацию буддийской гносеологии
к
потреб-
ностям
«новорожденной» адвайта-веданты. Различение уровней
обыденной истины
и
высшей истины частично вербализуется
уже
во второй главе,
где
утверждается,
что
овладевшие текстами
ве-
данты смотрят
на
весь этот мир
как на
сон, иллюзию
или
мираж
-
город небесных музыкантов гандхаровов (11.31),
что
заставляет
сразу вспомнить
и о
Нагарджуне
240
и о
хорошо
уже
знакомой
нам
«Ланкаватара-сутре»
241
. Это различение даже терминологизирует-
ся
в
следующем стихе,
по
которому точка зрения высшей истины
(paramarthata) состоит
в
том,
что
на деле
нет
ни уничтожения чего-
либо,
ни
возникновения,
ни
закабаленного, ни того,
кто
стремится
к
освобождению,
ни
освобожденного (11.32),
что
также
нам
извес-
тно
из
праджняпарамитской литературы (см.
Глава 3, § 1).
В следующей главе «Мандукья-карики» выясняется,
что
обряды богопочитания целесообразно совершать лишь тем,
кто
не
достиг
еще
истинного знания
(Ш.1).
Еще
более важное
зна-
чение имеет мысль
о
том,
что
свидетельства Упанишад
о
разли-
чии
души (джива)
и
Атмана
как
мирового духовного начала,
идентичного каждому познающему субъекту,
следует
понимать
как
«педагогические»
-
рассчитанные
на тех, чьи
глаза
еще не
приспособлены
к
видению полноты истины (III. 14). Этот
ход
сви-
детельствует
о
том,
что
буддийская герменевтика, предназначен-
ная
для
«снятия» противоречий между взаимоотрицающими
положеняими
буддийских авторитетных текстов (см.
Глава 3, §
134
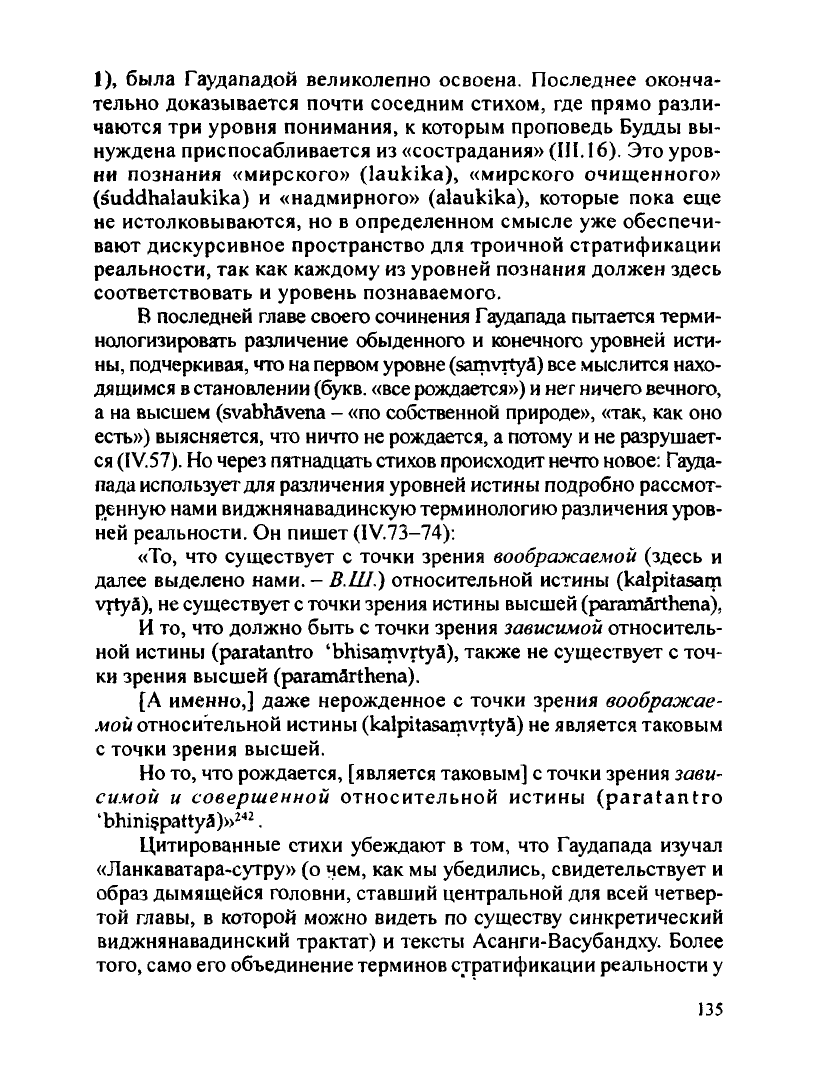
1),
была Гаудападой великолепно освоена. Последнее оконча-
тельно доказывается почти соседним стихом, где прямо разли-
чаются три уровня понимания, к которым проповедь Будды вы-
нуждена приспосабливается из «сострадания» (Ш.16). Это уров-
ни
познания «мирского» (laukika), «мирского очищенного»
(suddhalaukika) и «надмирного» (alaukika), которые пока еще
не
истолковываются, но в определенном смысле уже обеспечи-
вают дискурсивное пространство для троичной стратификации
реальности, так как каждому из уровней познания должен здесь
соответствовать и уровень познаваемого.
В последней главе своего сочинения
Гаудапада
пытается терми-
нологизировать различение обыденного и конечного уровней исти-
ны,
подчеркивая, что на первом уровне
(samvrtya)
все мыслится нахо-
дящимся
в становлении (букв,
«все
рождается») и нет ничего вечного,
а на высшем
(svabhavena
- «по собственной природе»,
«так,
как оно
есть»)
выясняется, что ничто не рождается, а потому и не разрушает-
ся
(IV. 57). Но через пятнадцать стихов происходит нечто новое:
Гауда-
пада использует для различения уровней истины подробно рассмот-
ренную нами виджнянавадинскую терминологию различения уров-
ней
реальности. Он пишет
(IV.73-74):
«То, что
существует
с точки зрения
воображаемой
(здесь и
далее выделено нами. - В.Ш.) относительной истины (kalpitasam
vrtya), не
существует
с точки зрения истины высшей (paramarthena),
И
то, что должно быть с точки зрения
зависимой
относитель-
ной
истины (paratantro 'bhisamvrtya), также не
существует
с точ-
ки
зрения высшей (paramarthena).
[А именно,]
даже
нерожденное с точки зрения
воображае-
мой относительной истины (kalpitasamvrtya) не является таковым
с точки зрения высшей.
Но
то, что рождается, [является таковым] с точки зрения зави-
симой
и
совершенной
относительной истины (paratantro
'bhinispattya)»
242
.
Цитированные
стихи
убеждают
в том, что
Гаудапада
изучал
«Ланкаватара-сутру»
(о чем, как мы убедились, свидетельствует и
образ дымящейся головни, ставший центральной для всей четвер-
той главы, в которой можно видеть по
существу
синкретический
виджнянавадинский
трактат) и тексты
Асанги-Васубандху.
Более
того, само его объединение терминов стратификации реальности у
135
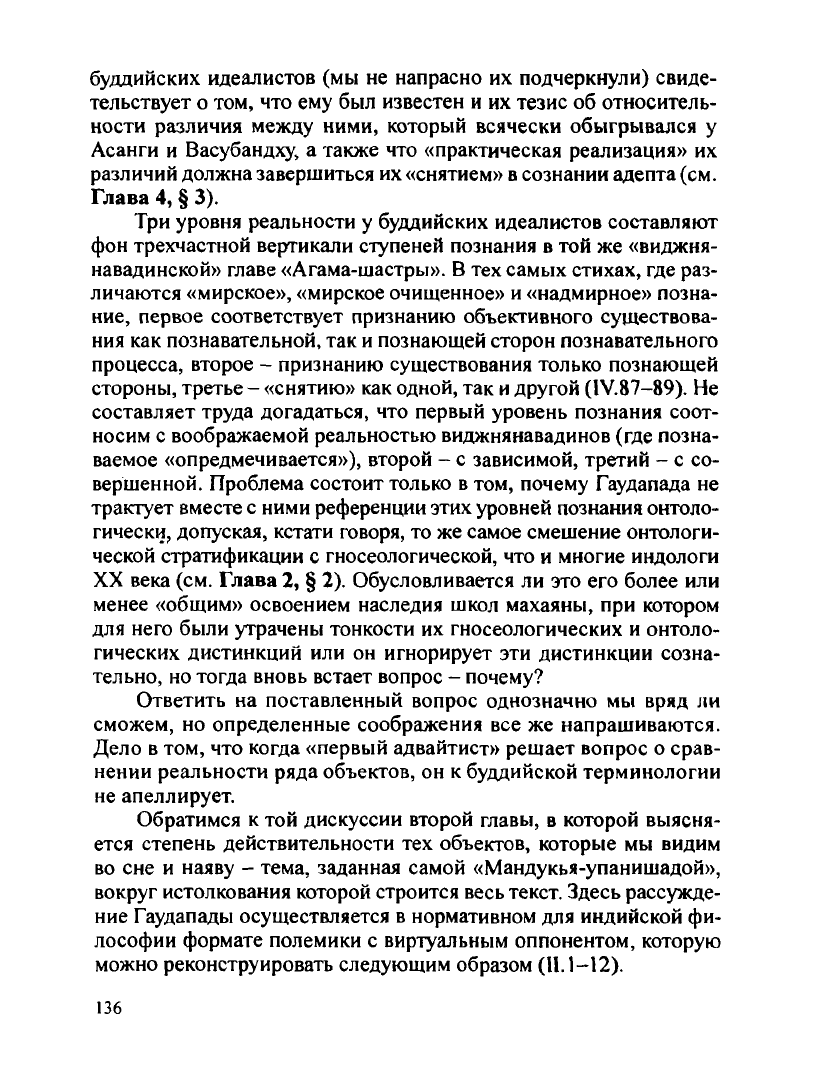
буддийских идеалистов (мы не напрасно их подчеркнули) свиде-
тельствует
о том, что ему был известен и их тезис об относитель-
ности
различия
между
ними, который всячески обыгрывался у
Асанги и
Васубандху,
а также что «практическая реализация» их
различий должна завершиться их «снятием» в сознании адепта (см.
Глава
4, § 3).
Три
уровня реальности у буддийских идеалистов составляют
фон
трехчастной вертикали ступеней познания в той же «виджня-
навадинской» главе
«Агама-шастры».
В тех самых
стихах,
где раз-
личаются «мирское», «мирское очищенное» и «надмирное» позна-
ние,
первое соответствует признанию объективного существова-
ния
как познавательной, так и познающей сторон познавательного
процесса, второе - признанию существования только познающей
стороны,
третье - «снятию» как одной, так и
другой
(IV.87-89).
Не
составляет
труда
догадаться, что первый уровень познания соот-
носим
с воображаемой реальностью виджнянавадинов (где позна-
ваемое «опредмечивается»), второй - с зависимой, третий - с со-
вершенной.
Проблема состоит только в том, почему
Гаудапада
не
трактует вместе с ними референции этих уровней познания онтоло-
гически,
допуская, кстати говоря, то же самое смешение онтологи-
ческой стратификации с гносеологической, что и многие индологи
XX века (см.
Глава
2, § 2). Обусловливается ли это его более или
менее
«общим»
освоением наследия школ махаяны, при котором
для него были утрачены тонкости их гносеологических и онтоло-
гических дистинкций или он игнорирует эти дистинкции созна-
тельно, но
тогда
вновь встает вопрос - почему?
Ответить на поставленный вопрос однозначно мы вряд ли
сможем, но определенные соображения все же напрашиваются.
Дело в том, что когда «первый адвайтист» решает вопрос о срав-
нении
реальности ряда объектов, он к буддийской терминологии
не
апеллирует.
Обратимся к той дискуссии второй главы, в которой выясня-
ется степень действительности тех объектов, которые мы видим
во сне и наяву - тема, заданная самой «Мандукья-упанишадой»,
вокруг истолкования которой строится весь текст. Здесь рассужде-
ние
Гаудапады осуществляется в нормативном для индийской фи-
лософии
формате полемики с виртуальным оппонентом, которую
можно реконструировать следующим образом
(II.
1-12).
136
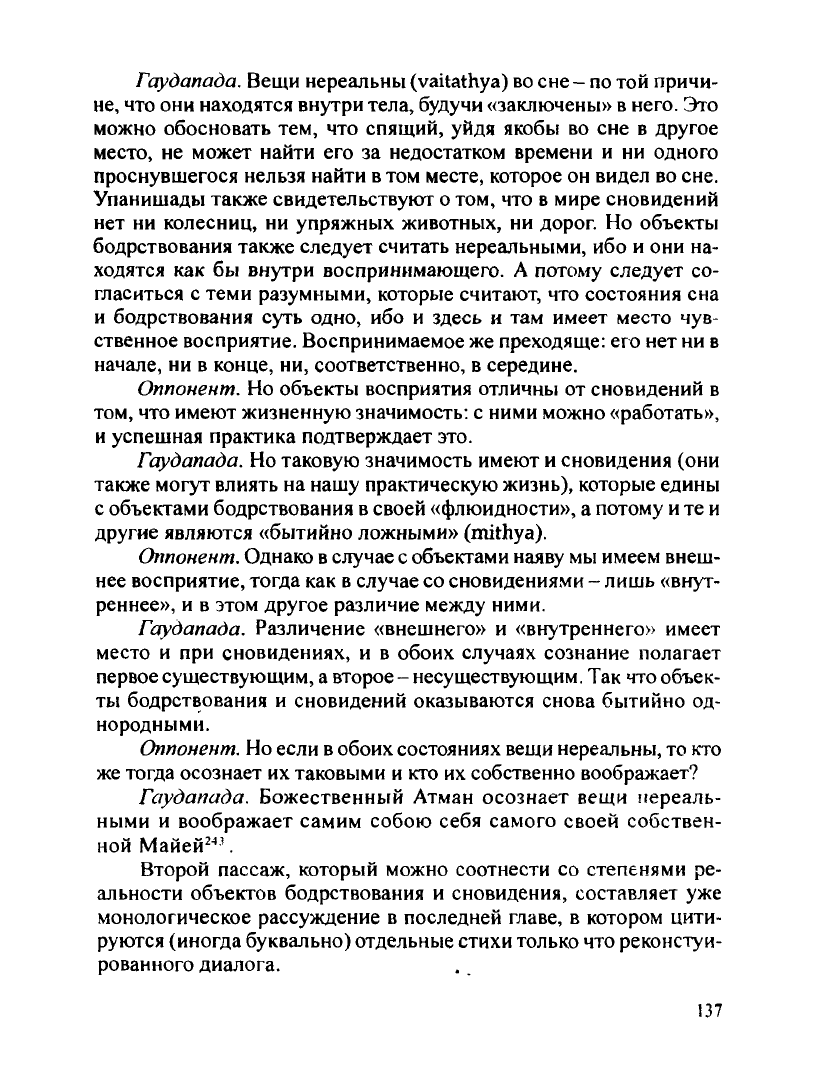
Гаудапада,
Вещи нереальны (vaitathya) во сне - по той причи-
не,
что они находятся внутри тела,
будучи
«заключены» в него. Это
можно обосновать тем, что спящий, уйдя якобы во сне в
другое
место, не может найти его за недостатком времени и ни одного
проснувшегося нельзя найти в том месте, которое он видел во сне.
Упанишады также свидетельствуют о том, что в мире сновидений
нет ни колесниц, ни упряжных животных, ни дорог. Но объекты
бодрствования также
следует
считать нереальными, ибо и они на-
ходятся как бы внутри воспринимающего. А потому
следует
со-
гласиться с теми разумными, которые считают, что состояния сна
и
бодрствования суть одно, ибо и здесь и там имеет место чув-
ственное восприятие. Воспринимаемое же преходяще: его нет ни в
начале, ни в конце, ни, соответственно, в середине.
Оппонент.
Но объекты восприятия отличны от сновидений в
том, что имеют жизненную значимость: с ними можно
«работать»,
и
успешная практика подтверждает это.
Гаудапада.
Но таковую значимость имеют и сновидения (они
также
могут
влиять на нашу практическую жизнь), которые едины
с объектами бодрствования в своей «флюидности», а потому и те и
другие являются «бытийно ложными» (mithya).
Оппонент.
Однако в случае с объектами наяву мы имеем внеш-
нее восприятие, тогда как в случае со сновидениями - лишь
«внут-
реннее», и в этом
другое
различие между ними.
Гаудапада.
Различение «внешнего» и «внутреннего» имеет
место и при сновидениях, и в обоих случаях сознание полагает
первое существующим, а второе - несуществующим. Так что объек-
ты бодрствования и сновидений оказываются снова бытийно од-
нородными.
Оппонент.
Но если в обоих состояниях вещи нереальны, то кто
же тогда осознает их таковыми и кто их собственно воображает?
Гаудапада.
Божественный Атман осознает вещи нереаль-
ными
и воображает самим собою себя самого своей собствен-
ной
Майей
24
'.
Второй пассаж, который можно соотнести со степенями ре-
альности объектов бодрствования и сновидения, составляет уже
монологическое рассуждение в последней главе, в котором цити-
руются (иногда буквально) отдельные стихи только что реконстуи-
рованного диалога.
137
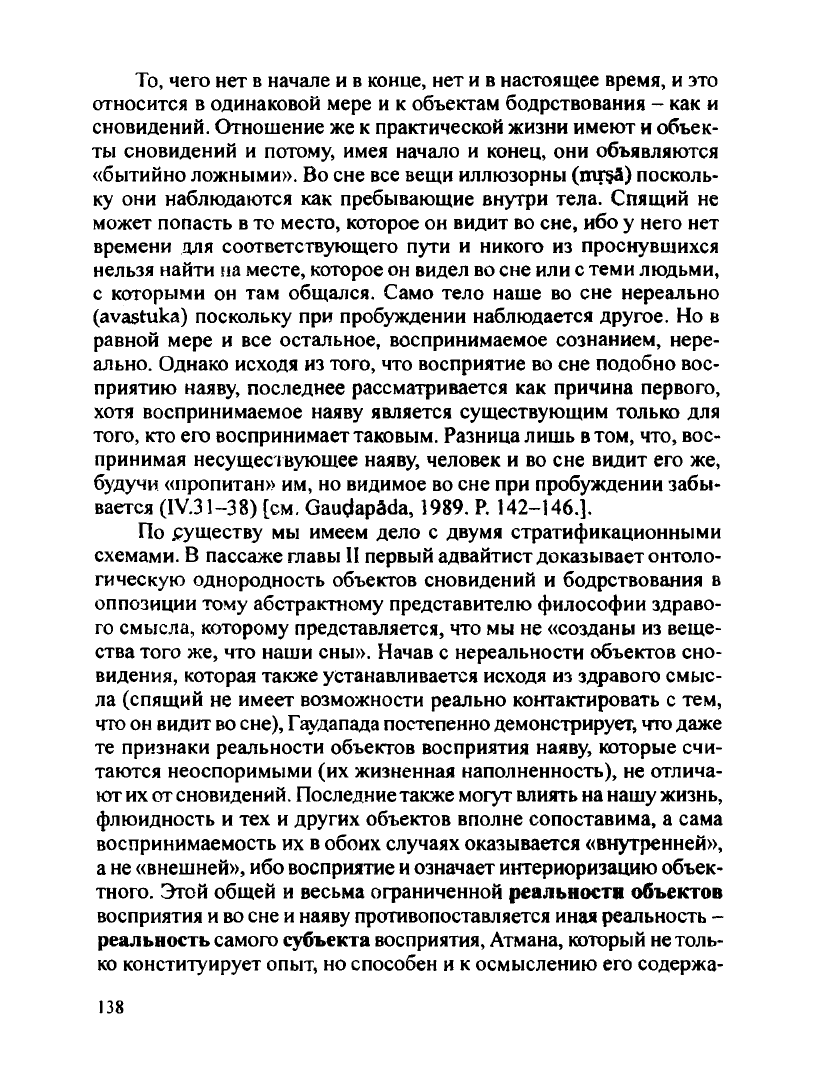
То,
чего
нет в
начале
и в
конце,
нет и в
настоящее время,
и это
относится
в
одинаковой мере
и к
объектам бодрствования
- как и
сновидений.
Отношение
же к
практической жизни имеют
и
объек-
ты сновидений
и
потому, имея начало
и
конец,
они
объявляются
«бытийно ложными».
Во сне все
вещи иллюзорны
(тг§3)
посколь-
ку
они
наблюдаются
как
пребывающие внутри тела. Спящий
не
может попасть
в то
место, которое
он
видит
во
сне,
ибо у
него
нет
времени
для
соответствующего пути
и
никого
из
проснувшихся
нельзя
найти
на
месте, которое
он
видел
во
сне или
с
теми людьми,
с которыми
он там
общался. Само тело наше
во сне
нереально
(avastuka)
поскольку
при
пробуждении наблюдается
другое.
Но в
равной
мере
и все
остальное, воспринимаемое сознанием, нере-
ально.
Однако исходя
из
того,
что
восприятие
во сне
подобно
вос-
приятию
наяву, последнее рассматривается
как
причина первого,
хотя воспринимаемое наяву является существующим только
для
того,
кто его
воспринимает таковым. Разница лишь
в
том,
что, вос-
принимая
несуществующее наяву, человек
и во сне
видит
его же,
будучи
«пропитан»
им, но
видимое
во сне при
пробуждении забы-
вается
(IV.31-38)
[см. Gautfapada,
1989. Р.
142-146.].
По
существу
мы
имеем дело
с
двумя стратификационными
схемами.
В
пассаже главы
II
первый адвайтист доказывает онтоло-
гическую однородность объектов сновидений
и
бодрствования
в
оппозиции
тому абстрактному представителю философии здраво-
го смысла, которому представляется,
что мы не
«созданы
из
веще-
ства того
же, что
наши сны». Начав
с
нереальности объектов
сно-
видения,
которая также устанавливается исходя
из
здравого смыс-
ла (спящий
не
имеет возможности реально контактировать
с тем,
что он видит
во
сне),
Гаудапада
постепенно демонстрирует, что
даже
те признаки реальности объектов восприятия наяву, которые
счи-
таются неоспоримыми
(их
жизненная наполненность),
не
отлича-
ют
их от
сновидений. Последние также
могут
влиять
на
нашу жизнь,
флюидность
и тех и
других
объектов вполне сопоставима,
а
сама
воспринимаемость
их в
обоих случаях оказывается «внутренней»,
а
не
«внешней», ибо восприятие
и
означает интериоризацию объек-
тного. Этой общей
и
весьма офаниченной
реальности объектов
восприятия
и во сне и
наяву противопоставляется иная реальность
-
реальность
самого
субъекта
восприятия, Атмана, который не толь-
ко
конституирует опыт,
но
способен
и к
осмыслению
его
содержа-
138
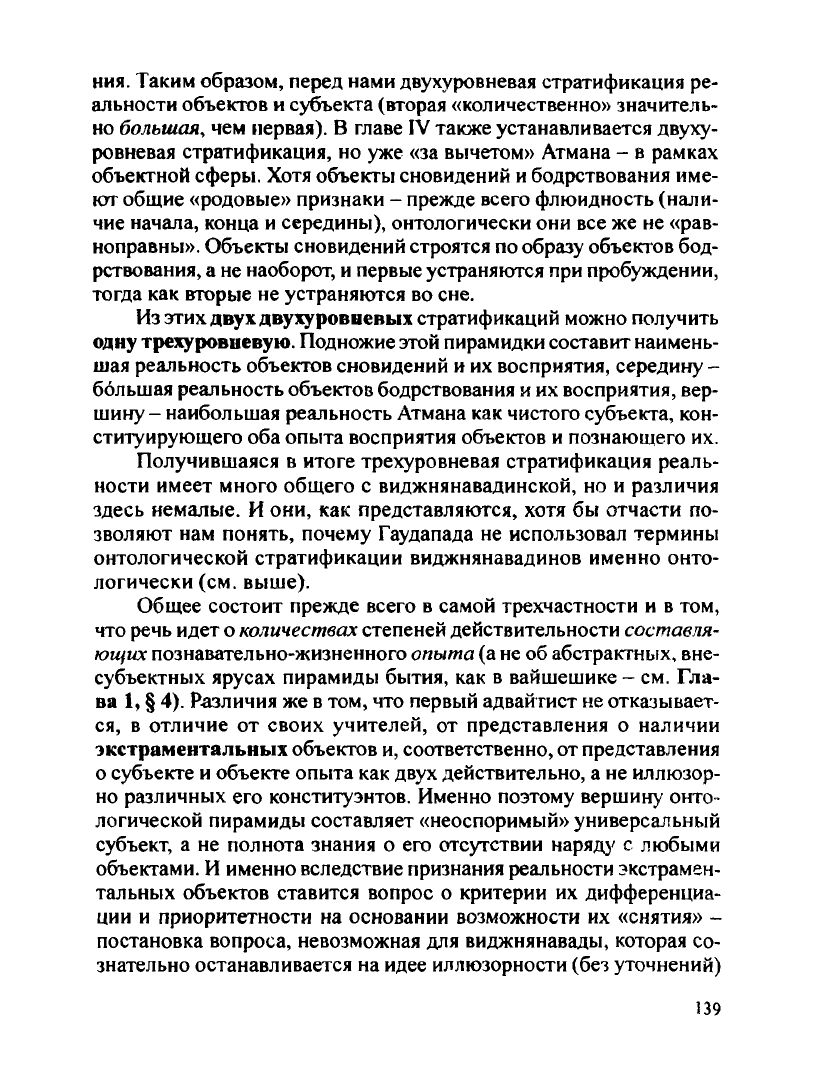
ния.
Таким образом, перед нами двухуровневая стратификация ре-
альности объектов и субъекта (вторая «количественно» значитель-
но
большая,
чем первая). В главе IV также устанавливается
двуху-
ровневая стратификация, но уже «за вычетом» Атмана - в рамках
объектной сферы. Хотя объекты сновидений и бодрствования име-
ют общие
«родовые»
признаки - прежде всего флюидность (нали-
чие начала, конца и середины), онтологически они все же не «рав-
ноправны». Объекты сновидений строятся по образу объектов бод-
рствования,
а не наоборот, и первые устраняются при пробуждении,
тогда
как вторые не устраняются во сне.
Из
этих
двух
двухуровневых
стратификации можно получить
одну
трехуровневую.
Подножие этой пирамидки составит наимень-
шая
реальность объектов сновидений и их восприятия, середину -
большая реальность объектов бодрствования и их восприятия, вер-
шину
- наибольшая реальность Атмана как чистого субъекта, кон-
ституирующего оба опыта восприятия объектов и познающего их.
Получившаяся в итоге трехуровневая стратификация реаль-
ности
имеет много общего с виджнянавадинской, но и различия
здесь немалые. И они, как представляются, хотя бы отчасти по-
зволяют нам понять, почему
Гаудапада
не использовал термины
онтологической стратификации виджнянавадинов именно онто-
логически (см. выше).
Общее состоит прежде всего в самой трехчастности и в том,
что речь идет о
количествах
степеней действительности
составля-
ющих
познавательно-жизненного
опыта
(а не об абстрактных, вне-
субъектных ярусах пирамиды бытия, как в вайшешике - см. Гла-
ва 1, § 4). Различия же в том, что первый адвайгист не отказывает-
ся,
в отличие от своих учителей, от представления о наличии
экстраментальных
объектов и, соответственно, от представления
о
субъекте и объекте опыта как
двух
действительно, а не иллюзор-
но
различных его конституэнтов. Именно поэтому вершину онто-
логической пирамиды составляет «неоспоримый» универсальный
субъект, а не полнота знания о его отсутствии наряд)' с любыми
объектами. И именно вследствие признания реальности экстрамен-
тальных объектов ставится вопрос о критерии их дифференциа-
ции
и приоритетности на основании возможности их «снятия» -
постановка вопроса, невозможная для виджнянавады, которая со-
знательно останавливается на идее иллюзорности (без уточнений)
139
