Сидорцов В.Н., Нечухрин А.Н., Яскевич Я.С. и др. Методологические проблемы истории
Подождите немного. Документ загружается.

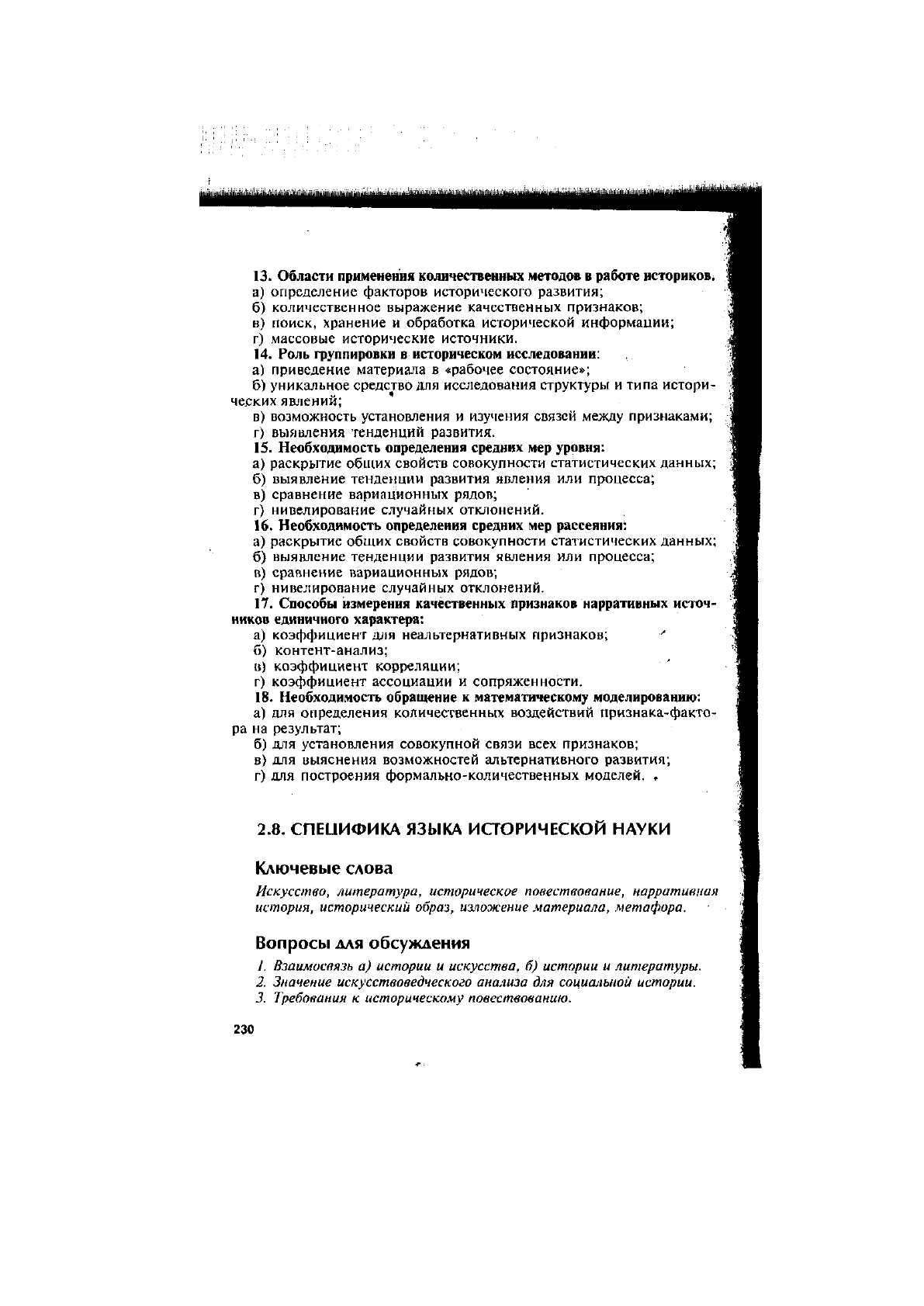
13. Области применения количественных методов в работе историков.
а) определение факторов исторического развития;
б) количественное выражение качественных признаков;
в) поиск, хранение и обработка исторической информации;
г) массовые исторические источники.
14. Роль группировки в историческом исследовании:
а) приведение материала в «рабочее состояние»;
б) уникальное средство для исследования структуры и типа истори-
ческих явлений;
в) возможность установления и изучения связей между признаками;
г) выявления тенденций развития.
15. Необходимость определения средних мер уровня:
а) раскрытие общих свойств совокупности статистических данных;
б) выявление тенденции развития явления или процесса;
в) сравнение вариационных рядов;
г) нивелирование случайных отклонений.
16. Необходимость определения средних мер рассеяния:
а) раскрытие общих свойств совокупности статистических данных;
б) выявление тенденции развития явления или процесса;
в) сравнение вариационных рядов;
г) нивелирование случайных отклонений.
17. Способы измерения качественных признаков нарративных источ-
ников единичного характера:
а) коэффициент для неальтернативных признаков;
б) контент-анализ;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент ассоциации и сопряженности.
18. Необходимость обращение к математическому моделированию:
а) для определения количественных воздействий признака-факто-
ра на результат;
б) для установления совокупной связи всех признаков;
в) для выяснения возможностей альтернативного развития;
г) для построения формально-количественных моделей. ,
2.8. СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Ключевые слова
Искусство,
литература,
историческое повествование,
нарративная
история, исторический
образ,
изложение материала,
метафора.
Вопросы для обсуждения
1.
Взаимосвязь
а)
истории
и
искусства,
б)
истории
и
литературы.
2.
Значение искусствоведческого анализа
для
социальной истории.
3.
Требования
к
историческому повествованию.
230
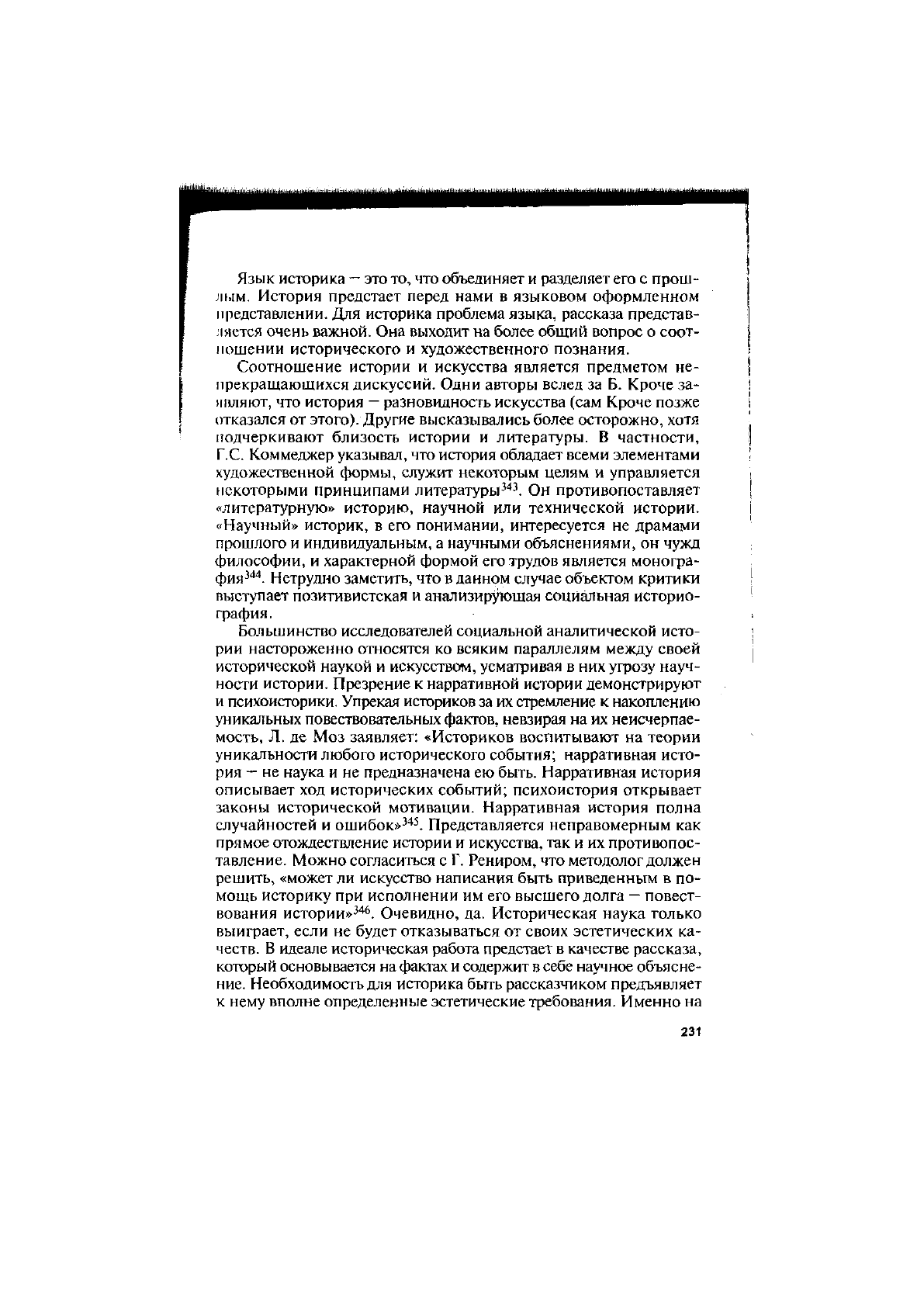
Язык историка
—
это то, что объединяет и разделяет его с прош-
лым. История предстает перед нами в языковом оформленном
представлении. Для историка проблема языка, рассказа представ-
ляется очень важной. Она выходит на более общий вопрос о соот-
ношении исторического и художественного познания.
Соотношение истории и искусства является предметом не-
прекращающихся дискуссий. Одни авторы вслед за Б. Кроче за-
являют, что история
—
разновидность искусства (сам Кроче позже
отказался от этого). Другие высказывались более осторожно, хотя
подчеркивают близость истории и литературы. В частности,
Г.С. Коммеджер указывал, что история обладает всеми элементами
художественной формы, служит некоторым целям и управляется
некоторыми принципами литературы
343
. Он противопоставляет
«литературную» историю, научной или технической истории.
«Научный» историк, в его понимании, интересуется не драмами
прошлого и индивидуальным, а научными объяснениями, он чужд
философии, и характерной формой его трудов является моногра-
фия
344
. Нетрудно заметить, что в данном случае объектом критики
выступает позитивистская и анализирующая социальная историо-
графия.
Большинство исследователей социальной аналитической исто-
рии настороженно относятся ко всяким параллелям между своей
исторической наукой и искусством, усматривая в них угрозу науч-
ности истории. Презрение к нарративной истории демонстрируют
и психоисторики. Упрекая историков за их стремление к накоплению
уникальных повествовательных фактов, невзирая на их неисчерпае-
мость, Л. де Моз заявляет: «Историков воспитывают на теории
уникальности любого исторического события; нарративная исто-
рия
—
не наука и не предназначена ею быть. Нарративная история
описывает ход исторических событий; психоистория открывает
законы исторической мотивации. Нарративная история полна
случайностей и ошибок»
345
. Представляется неправомерным как
прямое отождествление истории и искусства, так и их противопос-
тавление. Можно согласиться с Г. Рениром, что методолог должен
решить, «может ли искусство написания быть приведенным в по-
мощь историку при исполнении им его высшего долга
—
повест-
вования истории»
346
. Очевидно, да. Историческая наука только
выиграет, если не будет отказываться от своих эстетических ка-
честв. В идеале историческая работа предстает в качестве рассказа,
который основывается на фактах
и
содержит в себе научное объясне-
ние. Необходимость для историка быть рассказчиком предъявляет
к нему вполне определенные эстетические требования. Именно на
231
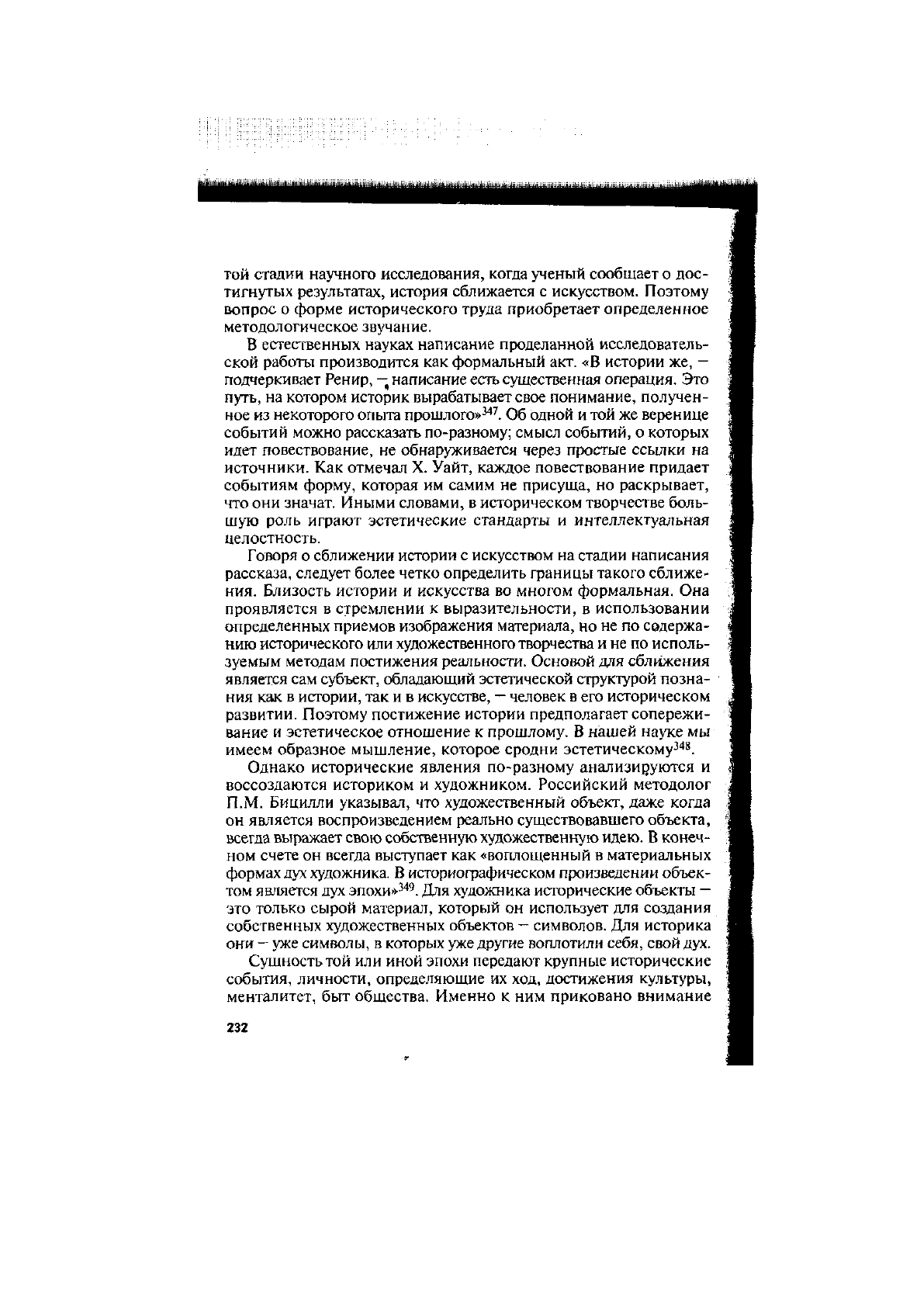
той стадии научного исследования, когда ученый сообщает о дос-
тигнутых результатах, история сближается с искусством. Поэтому
вопрос о форме исторического труда приобретает определенное
методологическое звучание.
В естественных науках написание проделанной исследователь-
ской работы производится как формальный акт. «В истории же,
—
подчеркивает Ренир,
—
написание есть существенная операция. Это
путь, на котором историк вырабатывает свое понимание, получен-
ное из некоторого опыта прошлого»
347
. Об одной и той же веренице
событий можно рассказать по-разному; смысл событий, о которых
идет повествование, не обнаруживается через простые ссылки на
источники. Как отмечал X. Уайт, каждое повествование придает
событиям форму, которая им самим не присуща, но раскрывает,
что они значат. Иными словами, в историческом творчестве боль-
шую роль играют эстетические стандарты и интеллектуальная
целостность.
Говоря о сближении истории с искусством на стадии написания
рассказа, следует более четко определить границы такого сближе-
ния. Близость истории и искусства во многом формальная. Она
проявляется в стремлении к выразительности, в использовании
определенных приемов изображения материала, но не по содержа-
нию исторического или художественного творчества и не по исполь-
зуемым методам постижения реальности. Основой для сближения
является сам субъект, обладающий эстетической структурой позна-
ния как в истории, так и в искусстве,
—
человек в его историческом
развитии. Поэтому постижение истории предполагает сопережи-
вание и эстетическое отношение к прошлому. В шшей науке мы
имеем образное мышление, которое сродни эстетическому
348
.
Однако исторические явления по-разному анализируются и
воссоздаются историком и художником. Российский методолог
П.М. Бицилли указывал, что художественный объект, даже когда
он является воспроизведением реально существовавшего объекта,
всегда выражает свою собственную художественную идею.
В
конеч-
ном счете он всегда выступает как «воплощенный в материальных
формах
дух
художника. В историографическом произведении объек-
том является дух эпохи»
349
. Для художника исторические объекты
—
это только сырой материал, который он использует для создания
собственных художественных объектов
—
символов. Для историка
они
—
уже символы, в которых
уже
другие воплотили себя, свой дух.
Сущность той или иной эпохи передают крупные исторические
события, личности, определяющие их ход, достижения культуры,
менталитет, быт общества. Именно к ним приковано внимание
232
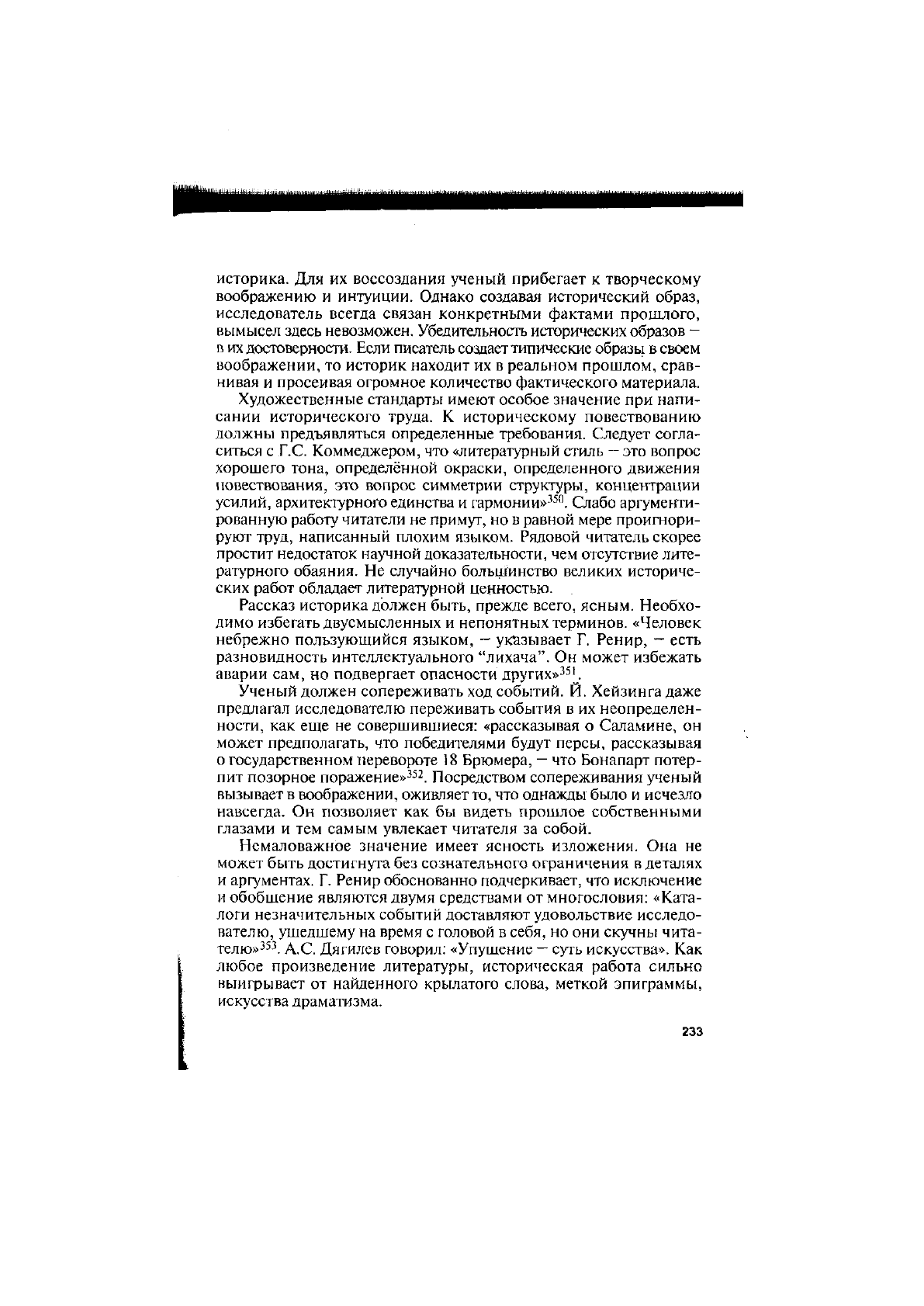
историка. Для их воссоздания ученый прибегает к творческому
воображению и интуиции. Однако создавая исторический образ,
исследователь всегда связан конкретными фактами прошлого,
вымысел здесь невозможен. Убедительность исторических образов
—
в
их
достоверности. Если писатель создает типические образы в своем
воображении, то историк находит их в реальном прошлом, срав-
нивая и просеивая огромное количество фактического материала.
Художественные стандарты имеют особое значение при напи-
сании исторического труда. К историческому повествованию
должны предъявляться определенные требования. Следует согла-
ситься с Г.С. Коммеджером, что «литературный стиль - это вопрос
хорошего тона, определённой окраски, определенного движения
повествования, это вопрос симметрии структуры, концентрации
усилий, архитектурного единства и гармонии»
350
. Слабо аргументи-
рованную работу читатели не примут, но в равной мере проигнори-
руют труд, написанный плохим языком. Рядовой читатель скорее
простит недостаток научной доказательности, чем отсутствие лите-
ратурного обаяния. Не случайно большинство великих историче-
ских работ обладает литературной ценностью.
Рассказ историка должен быть, прежде всего, ясным. Необхо-
димо избегать двусмысленных и непонятных терминов. «Человек
небрежно пользующийся языком,
—
указывает Г. Ренир,
—
есть
разновидность интеллектуального "лихача". Он может избежать
аварии сам, но подвергает опасности других»
35
^.
Ученый должен сопереживать ход событий. Й. Хейзинга даже
предлагал исследователю переживать события в их неопределен-
ности, как еще не совершившиеся: «рассказывая о Саламине, он
может предполагать, что победителями будут персы, рассказывая
о государственном перевороте 18 Брюмера,
—
что Бонапарт потер-
пит позорное поражение»
352
. Посредством сопереживания ученый
вызывает в воображении, оживляет то, что однажды было и исчезло
навсегда. Он позволяет как бы видеть прошлое собственными
глазами и тем самым увлекает читателя за собой.
Немаловажное значение имеет ясность изложения. Она не
может быть достигнута без сознательного ограничения в деталях
и аргументах. Г. Ренир обоснованно подчеркивает, что исключение
и обобщение являются двумя средствами от многословия: «Ката-
логи незначительных событий доставляют удовольствие исследо-
вателю, ушедшему на время с головой в себя, но они скучны чита-
телю»
353
. A.C. Дягилев говорил: «Упущение
—
суть искусства». Как
любое произведение литературы, историческая работа сильно
выигрывает от найденного крылатого слова, меткой эпиграммы,
искусства драматизма.
233
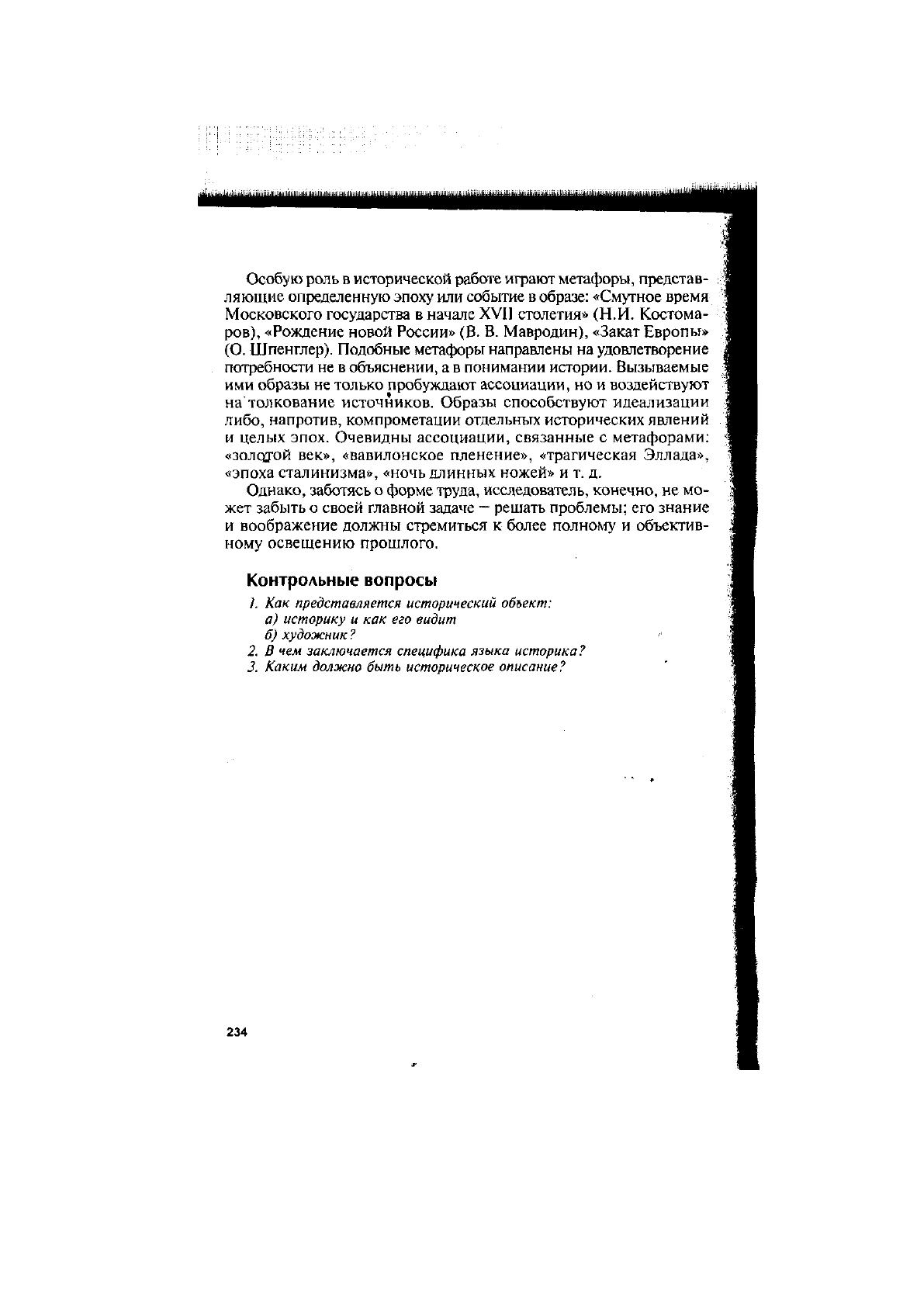
Особую роль в исторической работе играют метафоры, представ-
ляющие определенную эпоху или событие в
образе:
«Смутное время
Московского государства в начале XVII столетия» (Н.И. Костома-
ров), «Рождение новой России» (В. В. Мавродин), «Закат Европы»
(О. Шпенглер). Подобные метафоры направлены на удовлетворение
потребности не в объяснении, а в понимании истории. Вызываемые
ими образы не только пробуждают ассоциации, но и воздействуют
на толкование источников. Образы способствуют идеализации
либо, напротив, компрометации отдельных исторических явлений
и целых эпох. Очевидны ассоциации, связанные с метафорами:
«золсиой век», «вавилонское пленение», «трагическая Эллада»,
«эпоха сталинизма», «ночь длинных ножей» и т. д.
Однако, заботясь о форме труда, исследователь, конечно, не мо-
жет забыть о своей главной задаче
—
решать проблемы; его знание
и воображение должны стремиться к более полному и объектив-
ному освещению прошлого.
Контрольные вопросы
1. Как
представляется исторический объект:
а)
историку
и как его
видит
б)
художник ?
2. В
чем заключается специфика
языка
историка ?
3.
Каким должно быть историческое описание?
234
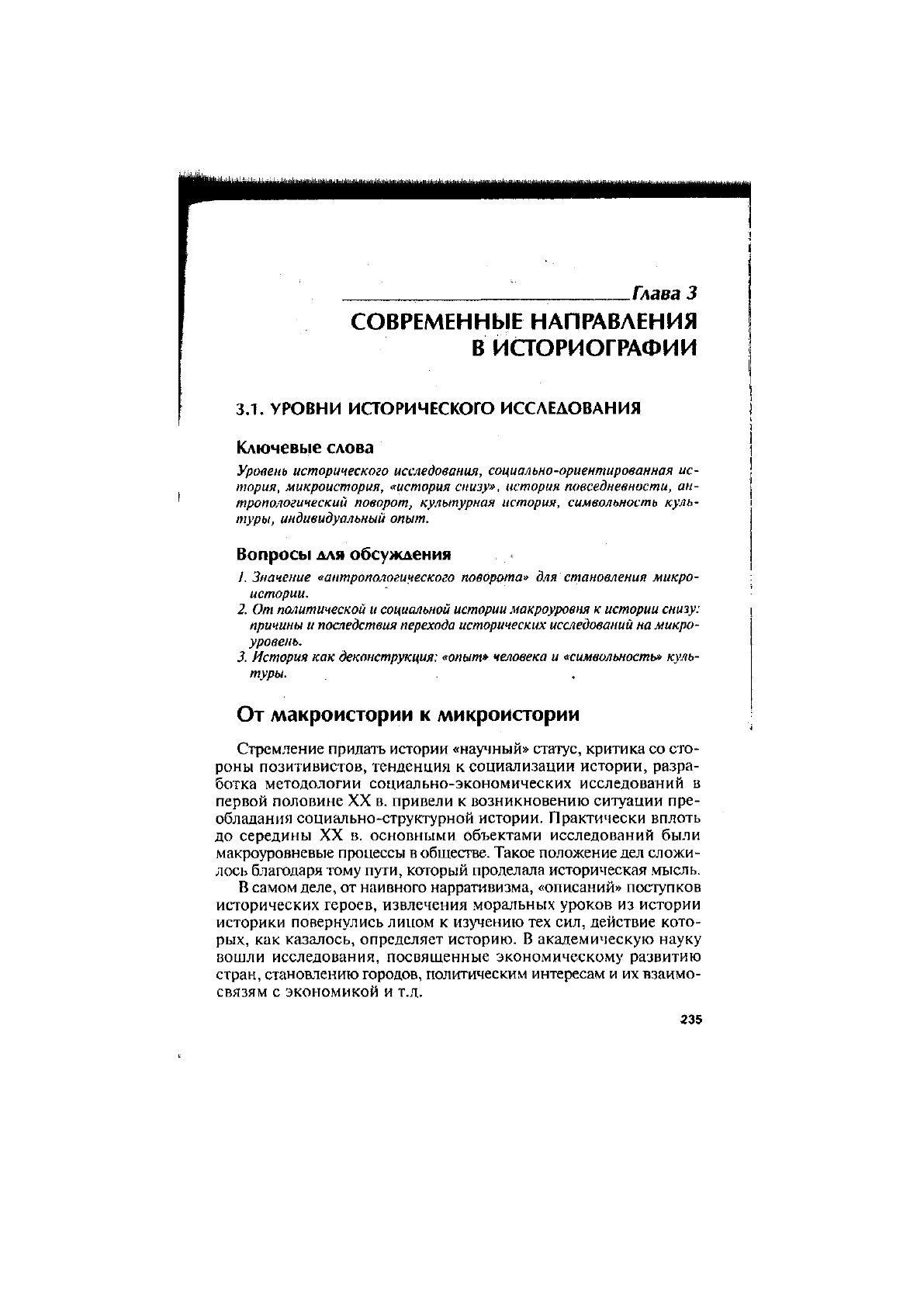
Глава
3
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ИСТОРИОГРАФИИ
3.1. УРОВНИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова
Уровень исторического исследования, социально-ориентированная
ис-
тория, микроистория, «история снизу», история повседневности,
ан-
тропологический
поворот,
культурная история, символьность
куль-
туры,
индивидуальный опыт.
Вопросы для обсуждения
1.
Значение «антропологического поворота»
для
становления
микро-
истории.
2.
От политической и социальной истории макроуровня
к
истории снизу:
причины и последствия перехода исторических исследований на микро-
уровень.
3.
История
как
деконструкция: «опыт» человека
и
«символьность»
куль-
туры.
От макроистории к микроистории
Стремление придать истории «научный» статус, критика со сто-
роны позитивистов, тенденция к социализации истории, разра-
ботка методологии социально-экономических исследований в
первой половине XX в. привели к возникновению ситуации пре-
обладания социально-структурной истории. Практически вплоть
до середины XX в. основными объектами исследований были
макроуровневые процессы в обществе. Такое положение дел сложи-
лось благодаря тому пути, который проделала историческая мысль.
В
самом деле, от наивного нарративизма, «описаний» поступков
исторических героев, извлечения моральных уроков из истории
историки повернулись лицом к изучению тех сил, действие кото-
рых, как казалось, определяет историю. В академическую науку
вошли исследования, посвященные экономическому развитию
стран, становлению городов, политическим интересам и их взаимо-
связям с экономикой и т.д.
235
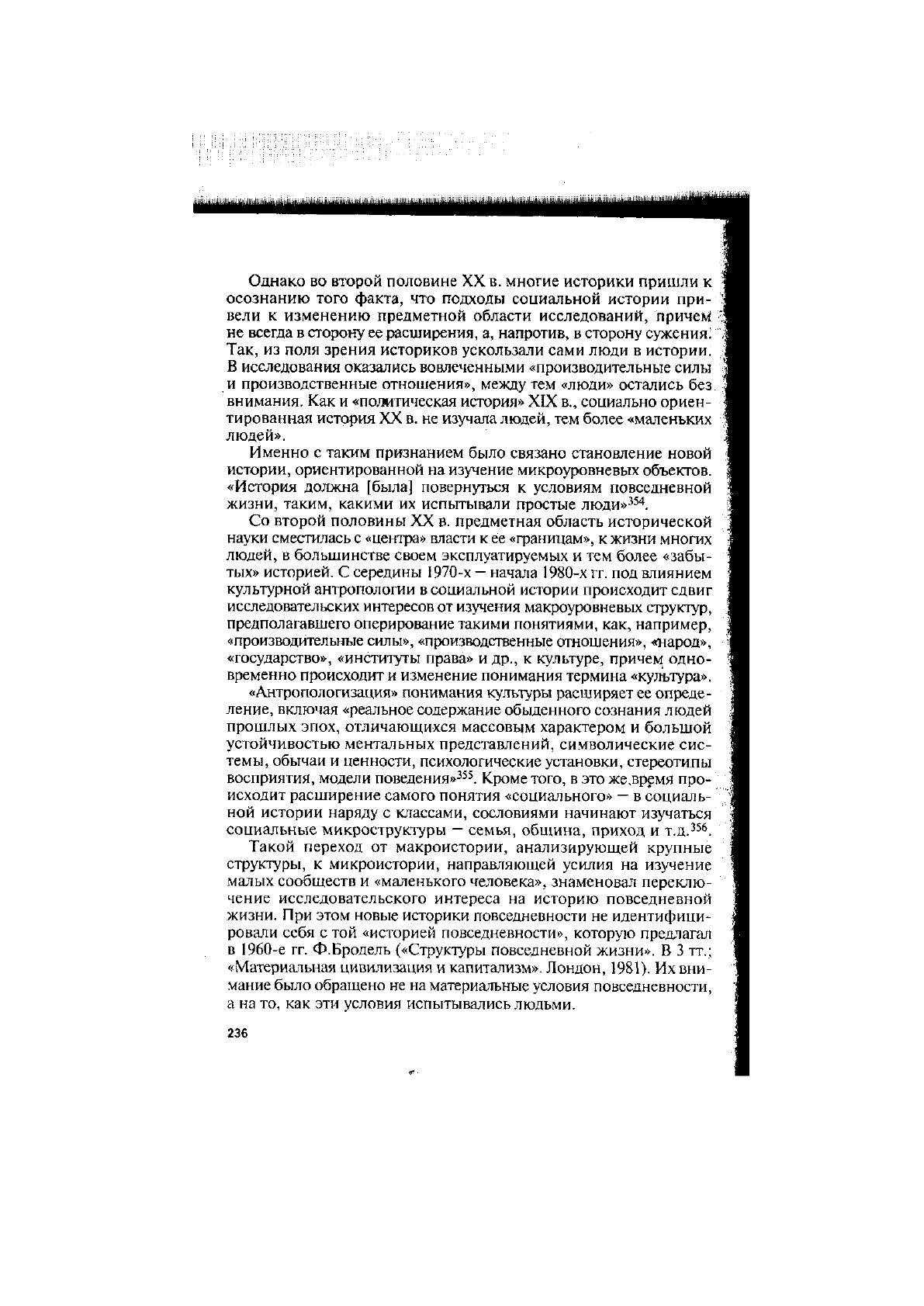
Однако во второй половине XX в. многие историки пришли к
осознанию того факта, что подходы социальной истории при-
вели к изменению предметной области исследований, причем
не всегда в сторону ее расширения, а, напротив, в сторону сужения.
Так, из поля зрения историков ускользали сами люди в истории.
В
исследования оказались вовлеченными «производительные силы
и производственные отношения», между тем «люди» остались без
внимания. Как и «политическая история» XIX в., социально ориен-
тированная история XX в. не изучала людей, тем более «маленьких
людей».
Именно с таким признанием было связано становление новой
истории, ориентированной на изучение микроуровневых объектов.
«История должна [была] повернуться к условиям повседневной
жизни, таким, какими их испытывали простые люди»
354
.
Со второй половины XX в. предметная область исторической
науки сместилась с «центра» власти к
ее
«границам», к жизни многих
людей, в большинстве своем эксплуатируемых и тем более «забы-
тых» историей. С середины 1970-х
—
начала 1980-х гг. под влиянием
культурной антропологии в социальной истории происходит сдвиг
исследовательских интересов от изучения макроуровневых структур,
предполагавшего оперирование такими понятиями, как, например,
«производительные силы», «производственные отношения», «народ»,
«государство», «институты права» и др., к культуре, причем одно-
временно происходит и изменение понимания термина «культура».
«Антропологизация» понимания культуры расширяет ее опреде-
ление, включая «реальное содержание обыденного сознания людей
прошлых эпох, отличающихся массовым характером и большой
устойчивостью ментальных представлений, символические сис-
темы, обычаи и ценности, психологические установки, стереотипы
восприятия, модели поведения»
355
. Кроме того, в это же.время про-
исходит расширение самого понятия «социального»
—
в социаль-
ной истории наряду с классами, сословиями начинают изучаться
социальные микроструктуры
—
семья, община, приход и т.д.
356
.
Такой переход от макроистории, анализирующей крупные
структуры, к микроистории, направляющей усилия на изучение
малых сообществ и «маленького человека», знаменовал переклю-
чение исследовательского интереса на историю повседневной
жизни. При этом новые историки повседневности не идентифици-
ровали себя с той «историей повседневности», которую предлагал
в 1960-е гг. Ф.Бродель («Структуры повседневной жизни». В 3 тт.;
«Материальная цивилизация и капитализм». Лондон, 1981). Их вни-
мание было обращено не на материальные условия повседневности,
а на то, как эти условия испытывались людьми.
236
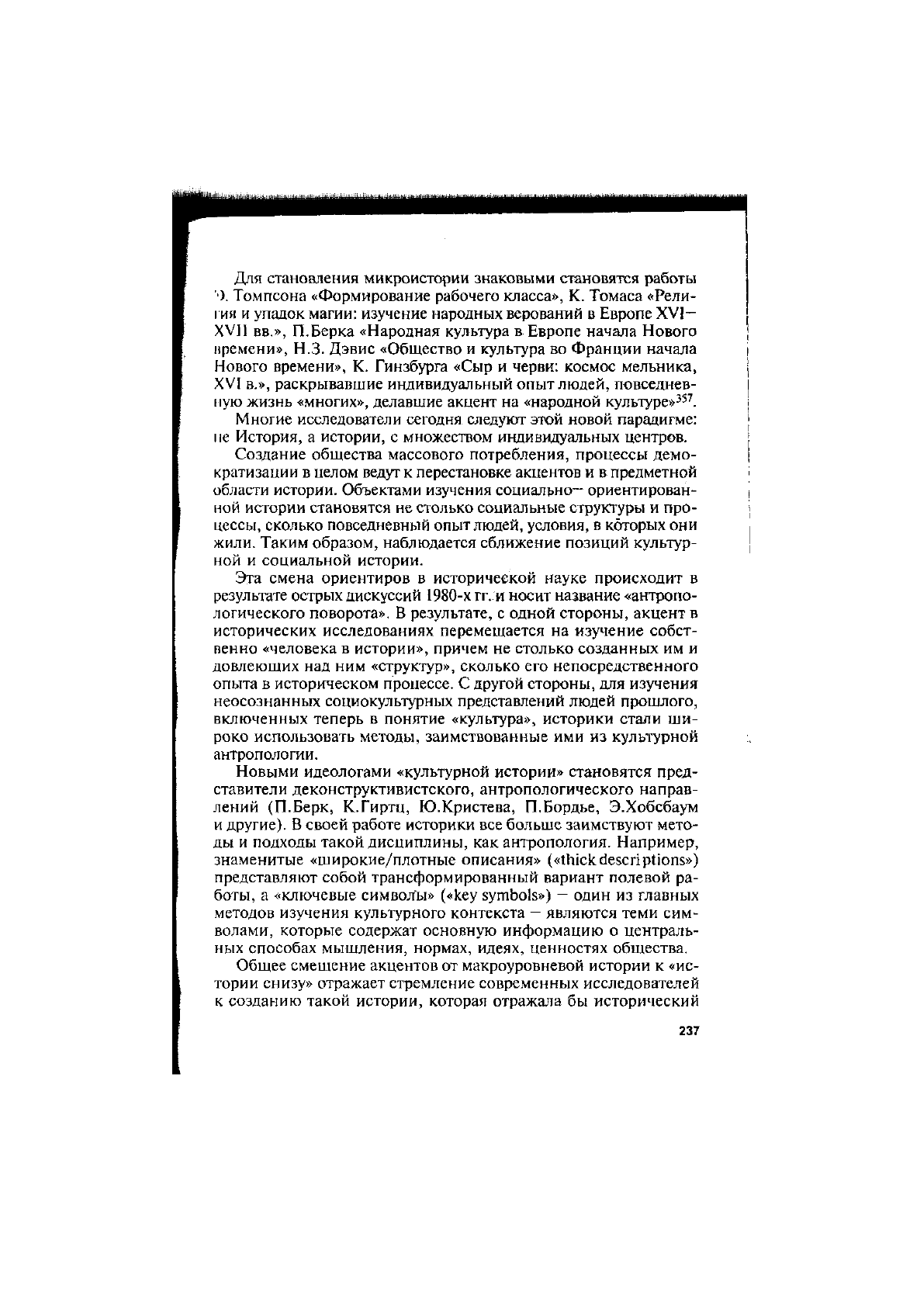
Для становления микроистории знаковыми становятся работы
'•). Томпсона «Формирование рабочего класса», К. Томаса «Рели-
гия и упадок магии: изучение народных верований в Европе XVI—
XVII вв.», П.Берка «Народная культура в Европе начала Нового
времени», Н.З. Дэвис «Общество и культура во Франции начала
Нового времени», К. Гинзбурга «Сыр и черви: космос мельника,
XVI в.», раскрывавшие индивидуальный опыт людей, повседнев-
ную жизнь «многих», делавшие акцент на «народной культуре»
357
.
Многие исследователи сегодня следуют этой новой парадигме:
не История, а истории, с множеством индивидуальных центров.
Создание общества массового потребления, процессы демо-
кратизации в целом ведут к перестановке акцентов и в предметной
области истории. Объектами изучения социально— ориентирован-
ной истории становятся не столько социальные структуры и про-
цессы, сколько повседневный опыт людей, условия, в которых они
жили. Таким образом, наблюдается сближение позиций культур-
ной и социальной истории.
Эта смена ориентиров в исторической науке происходит в
результате острых дискуссий 1980-х
гг.
и носит название «антропо-
логического поворота». В результате, с одной стороны, акцент в
исторических исследованиях перемещается на изучение собст-
венно «человека в истории», причем не столько созданных им и
довлеющих над ним «структур», сколько его непосредственного
опыта в историческом процессе. С другой стороны, для изучения
неосознанных социокультурных представлений людей прошлого,
включенных теперь в понятие «культура», историки стали ши-
роко использовать методы, заимствованные ими из культурной
антропологии.
Новыми идеологами «культурной истории» становятся пред-
ставители деконструктивистского, антропологического направ-
лений (П.Берк, К.Гиртц, Ю.Кристева, П.Бордье, Э.Хобсбаум
и другие). В своей работе историки все больше заимствуют мето-
ды и подходы такой дисциплины, как антропология. Например,
знаменитые «широкие/плотные описания» («thickdescriptions»)
представляют собой трансформированный вариант полевой ра-
боты, а «ключевые символы» («key symbols»)
—
один из главных
методов изучения культурного контекста
—
являются теми сим-
волами, которые содержат основную информацию о централь-
ных способах мышления, нормах, идеях, ценностях общества.
Общее смещение акцентов от макроуровневой истории к «ис-
тории снизу» отражает стремление современных исследователей
к созданию такой истории, которая отражала бы исторический
237
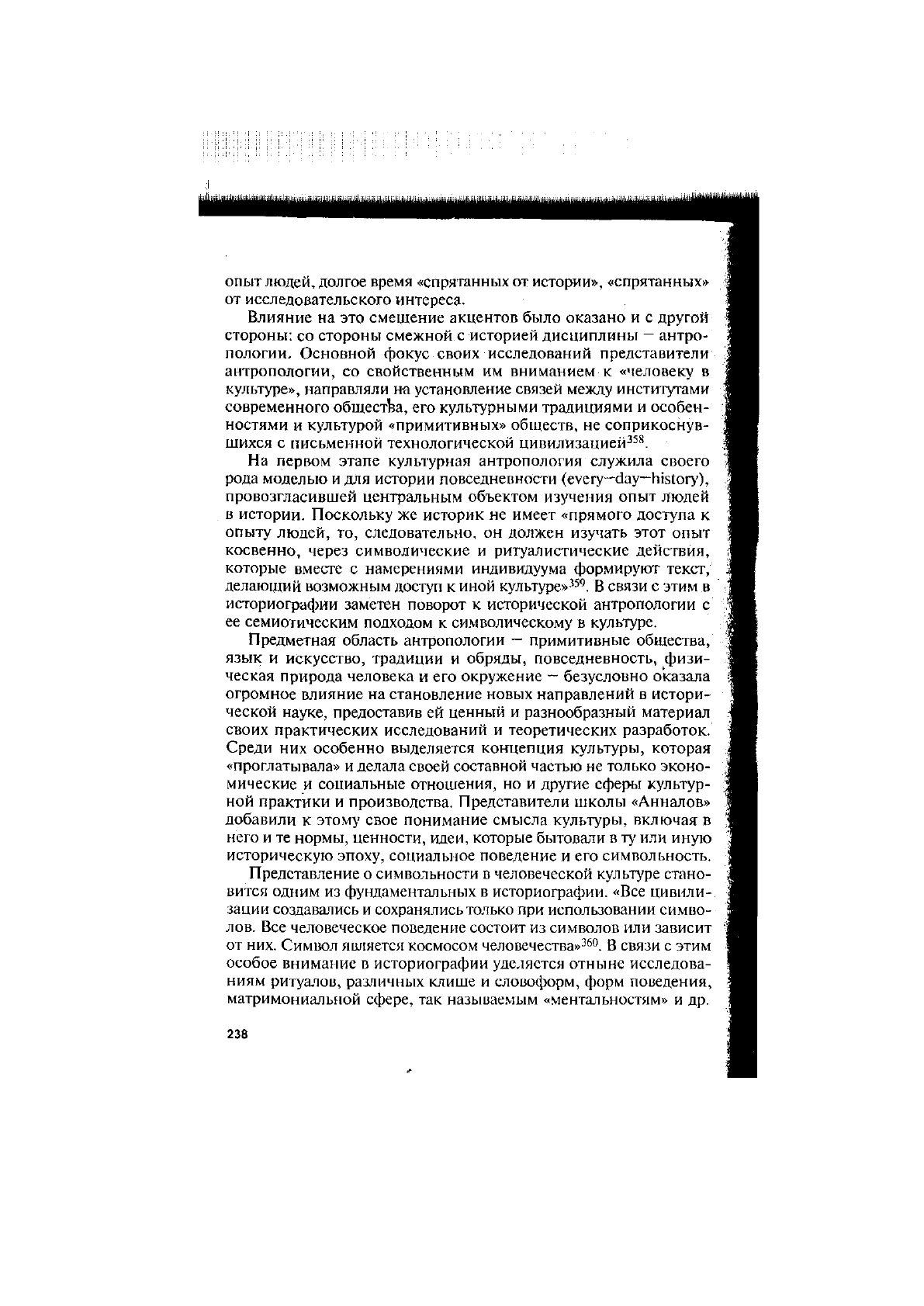
опыт людей, долгое время «спрятанных от истории», «спрятанных»
от исследовательского интереса.
Влияние на это смещение акцентов было оказано и с другой
стороны: со стороны смежной с историей дисциплины
—
антро-
пологии. Основной фокус своих исследований представители
антропологии, со свойственным им вниманием к «человеку в
культуре», направляли на установление связей между институтами
современного общества, его культурными традициями и особен-
ностями и культурой «примитивных» обществ, не соприкоснув-
шихся с письменной технологической цивилизацией
358
.
На первом этапе культурная антропология служила своего
рода моделью и для истории повседневности (every—day—history),
провозгласившей центральным объектом изучения опыт людей
в истории. Поскольку же историк не имеет «прямого доступа к
опыту людей, то, следовательно, он должен изучать этот опыт
косвенно, через символические и ритуалистические действия,
которые вместе с намерениями индивидуума формируют текст,
делающий возможным доступ к иной культуре»
359
.
В
связи с этим в
историографии заметен поворот к исторической антропологии с
ее семиотическим подходом к символическому в культуре.
Предметная область антропологии - примитивные общества,
язык и искусство, традиции и обряды, повседневность, физи-
ческая природа человека и его окружение
—
безусловно оказала
огромное влияние на становление новых направлений в истори-
ческой науке, предоставив ей ценный и разнообразный материал
своих практических исследований и теоретических разработок.
Среди них особенно выделяется концепция культуры, которая
«проглатывала» и делала своей составной частью не только эконо-
мические и социальные отношения, но и другие сферы культур-
ной практики и производства. Представители школы «Анналов»
добавили к этому свое понимание смысла культуры, включая в
него и те нормы, ценности, идеи, которые бытовали в ту или иную
историческую эпоху, социальное поведение и его символьность.
Представление о символьности в человеческой культуре стано-
вится одним из фундаментальных в историографии. «Все цивили-
зации создавались и сохранялись только при использовании симво-
лов. Все человеческое поведение состоит из символов или зависит
от них. Символ является космосом человечества»
360
.
В
связи с этим
особое внимание в историографии уделяется отныне исследова-
ниям ритуалов, различных клише и словоформ, форм поведения,
матримониальной сфере, так называемым «ментальностям» и др.
238
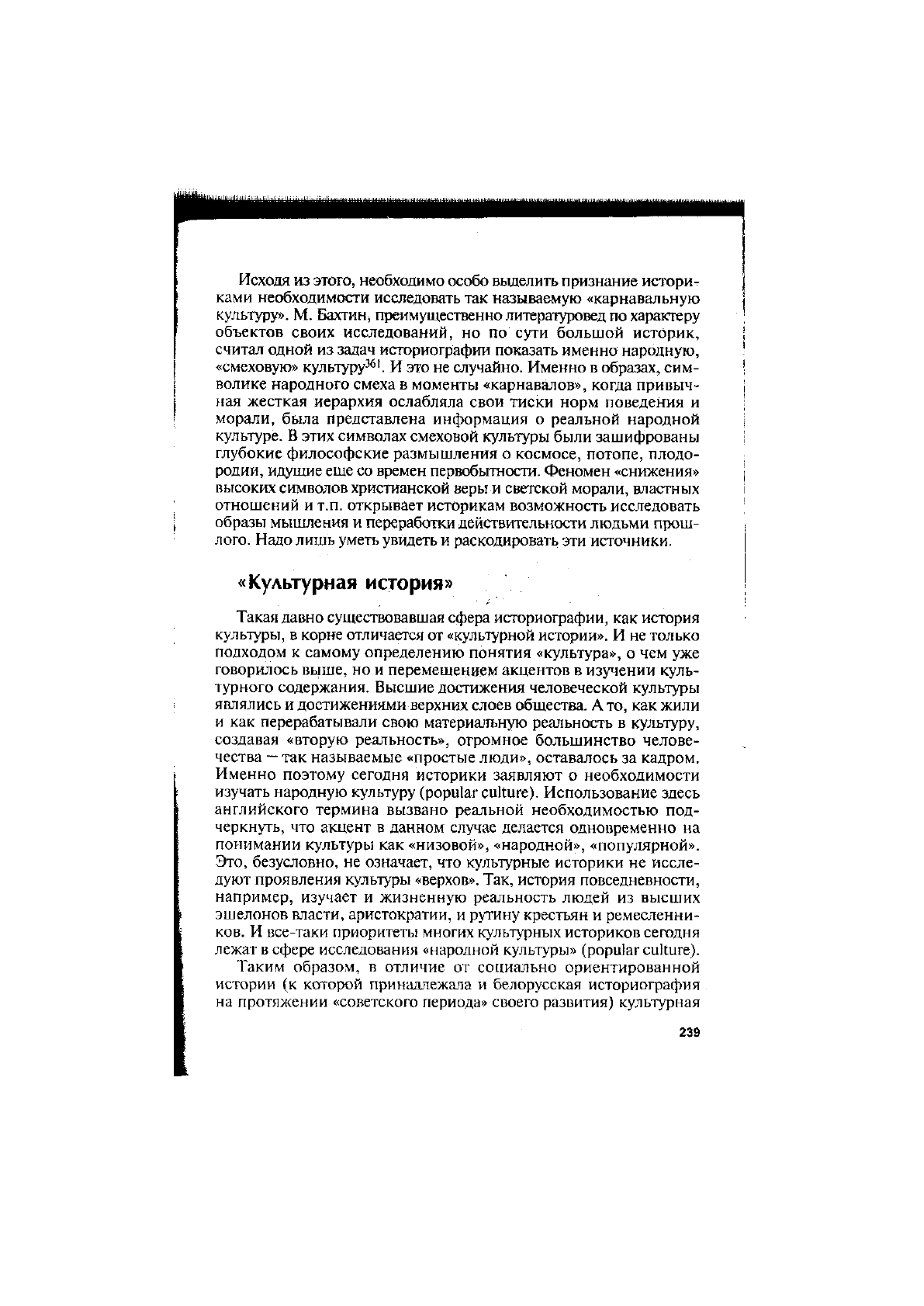
Исходя из этого, необходимо особо выделить признание истори-
ками необходимости исследовать так называемую «карнавальную
культуру». М. Бахтин* преимущественно литературовед по характеру
объектов своих исследований, но по сути большой историк,
считал одной из задач историографии показать именно народную,
«смеховую» культуру
36
'. И это не случайно. Именно в образах, сим-
волике народного смеха в моменты «карнавалов», когда привыч-
ная жесткая иерархия ослабляла свои тиски норм поведения и
морали, была представлена информация о реальной народной
культуре. В этих символах смеховой культуры были зашифрованы
глубокие философские размышления о космосе, потопе, плодо-
родии, идущие еще со времен первобытности. Феномен «снижения»
высоких символов христианской веры и светской морали, властных
отношений и т.п. открывает историкам возможность исследовать
образы мышления и переработки действительности людьми прош-
лого. Надо лишь уметь увидеть и раскодировать эти источники.
«Культурная история»
Такая давно существовавшая сфера историографии, как история
культуры, в корне отличается от «культурной истории». И не только
подходом к самому определению понятия «культура», о чем уже
говорилось выше, но и перемещением акцентов в изучении куль-
турного содержания. Высшие достижения человеческой культуры
являлись и достижениями верхних слоев общества. А то, как жили
и как перерабатывали свою материальную реальность в культуру,
создавая «вторую реальность», огромное большинство челове-
чества
—
так называемые «простые люди», оставалось за кадром.
Именно поэтому сегодня историки заявляют о необходимости
изучать народную культуру (popular culture). Использование здесь
английского термина вызвано реальной необходимостью под-
черкнуть, что акцент в данном случае делается одновременно на
понимании культуры как «низовой», «народной», «популярной».
Это, безусловно, не означает, что культурные историки не иссле-
дуют проявления культуры «верхов». Так, история повседневности,
например, изучает и жизненную реальность людей из высших
эшелонов власти, аристократии, и рутину крестьян и ремесленни-
ков. И все-таки приоритеты многих культурных историков сегодня
лежат в сфере исследования «народной культуры» (popular culture).
Таким образом, в отличие от социально ориентированной
истории (к которой принадлежала и белорусская историография
на протяжении «советского периода» своего развития) культурная
239
