Сидорцов В.Н., Нечухрин А.Н., Яскевич Я.С. и др. Методологические проблемы истории
Подождите немного. Документ загружается.

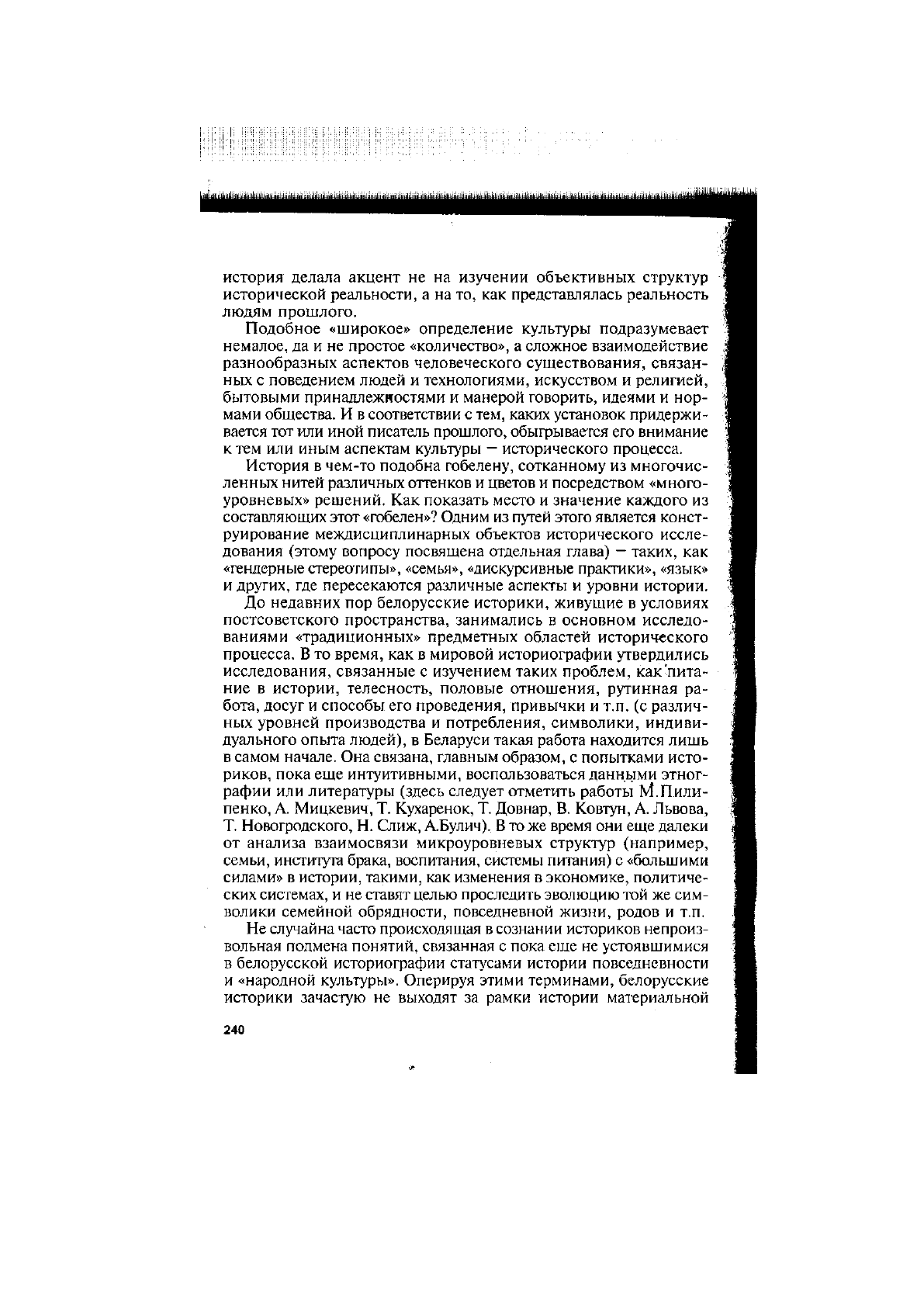
история делала акцент не на изучении объективных структур
исторической реальности, а на то, как представлялась реальность
людям прошлого.
Подобное «широкое» определение культуры подразумевает
немалое, да и не простое «количество», а сложное взаимодействие
разнообразных аспектов человеческого существования, связан-
ных с поведением людей и технологиями, искусством и религией,
бытовыми принадлежностями и манерой говорить, идеями и нор-
мами общества. И в соответствии с тем, каких установок придержи-
вается тот или иной писатель прошлого, обыгрывается его внимание
к тем или иным аспектам культуры
—
исторического процесса.
История в чем-то подобна гобелену, сотканному из многочис-
ленных нитей различных оттенков и цветов и посредством «много-
уровневых» решений. Как показать место и значение каждого из
составляющих этот «гобелен»? Одним из путей этого является конст-
руирование междисциплинарных объектов исторического иссле-
дования (этому вопросу посвящена отдельная глава)
—
таких, как
«тендерные стереотипы», «семья», «дискурсивные практики», «язык»
и других, где пересекаются различные аспекты и уровни истории.
До недавних пор белорусские историки, живущие в условиях
постсоветского пространства, занимались в основном исследо-
ваниями «традиционных» предметных областей исторического
процесса. В то время, как в мировой историографии утвердились
исследования, связанные с изучением таких проблем, как "пита-
ние в истории, телесность, половые отношения, рутинная ра-
бота, досуг и способы его проведения, привычки и т.п. (с различ-
ных уровней производства и потребления, символики, индиви-
дуального опыта людей), в Беларуси такая работа находится лишь
в самом начале. Она связана, главным образом, с попытками исто-
риков, пока еще интуитивными, воспользоваться данными этног-
рафии или литературы (здесь следует отметить работы М.Пили-
пенко,
А.
Мицкевич, Т. Кухаренок, Т. Довнар, В. Ковтун,
А.
Львова,
Т. Новогродского, Н. Слиж, А.Булич).
В
то же время они еще далеки
от анализа взаимосвязи микроуровневых структур (например,
семьи, института брака, воспитания, системы питания) с «большими
силами» в истории, такими, как изменения в экономике, политиче-
ских системах, и не ставят целью проследить эволюцию той же сим-
волики семейной обрядности, повседневной жизни, родов и т.п.
Не случайна часто происходящая в сознании историков непроиз-
вольная подмена понятий, связанная с пока еще не устоявшимися
в белорусской историографии статусами истории повседневности
и «народной культуры». Оперируя этими терминами, белорусские
историки зачастую не выходят за рамки истории материальной
240
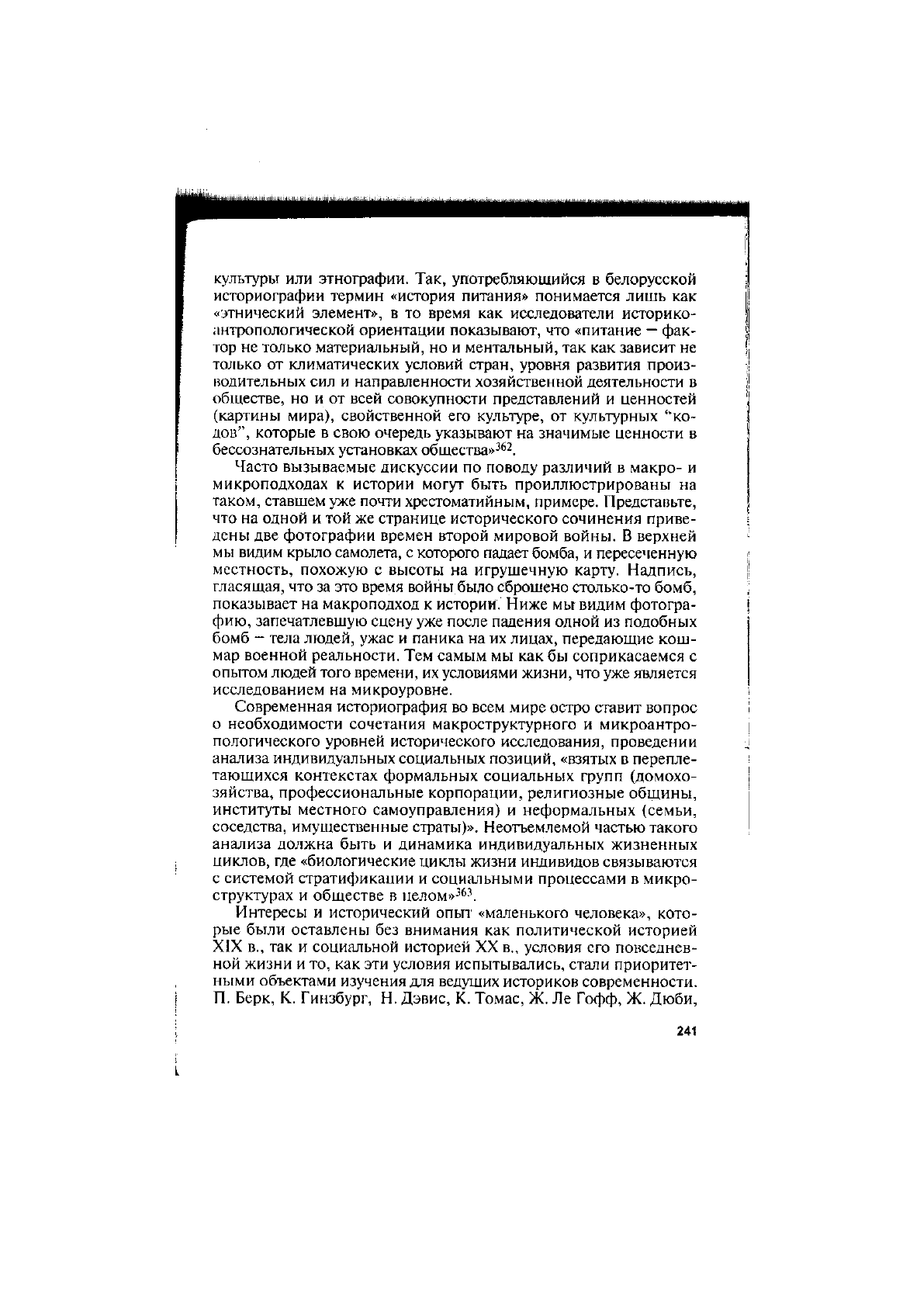
культуры или этнографии. Так, употребляющийся в белорусской
историографии термин «история питания» понимается лишь как
«этнический элемент», в то время как исследователи историко-
антропологической ориентации показывают, что «питание
—
фак-
тор не только материальный, но и ментальный, так как зависит не
только от климатических условий стран, уровня развития произ-
водительных сил и направленности хозяйственной деятельности в
обществе, но и от всей совокупности представлений и ценностей
(картины мира), свойственной его культуре, от культурных "ко-
дов", которые в свою очередь указывают на значимые ценности в
бессознательных установках общества»
362
.
Часто вызываемые дискуссии по поводу различий в макро- и
микроподходах к истории могут быть проиллюстрированы на
таком, ставшем уже почти хрестоматийным, примере. Представьте,
что на одной и той же странице исторического сочинения приве-
дены две фотографии времен второй мировой войны. В верхней
мы видим крыло самолета, с которого падает бомба, и пересеченную
местность, похожую с высоты на игрушечную карту. Надпись,
гласящая, что за это время войны было сброшено столько-то бомб,
показывает на макроподход к историй. Ниже мы видим фотогра-
фию, запечатлевшую сцену уже после падения одной из подобных
бомб
—
тела людей, ужас и паника на их лицах, передающие кош-
мар военной реальности. Тем самым мы как бы соприкасаемся с
опытом людей того времени, их условиями жизни, что уже является
исследованием на микроуровне.
Современная историография во всем мире остро ставит вопрос
о необходимости сочетания макроструктурного и микроантро-
пологического уровней исторического исследования, проведении
анализа индивидуальных социальных позиций, «взятых в перепле-
тающихся контекстах формальных социальных групп (домохо-
зяйства, профессиональные корпорации, религиозные общины,
институты местного самоуправления) и неформальных (семьи,
соседства, имущественные страты)». Неотъемлемой частью такого
анализа должна быть и динамика индивидуальных жизненных
циклов, где «биологические циклы жизни индивидов связываются
с системой стратификации и социальными процессами в микро-
структурах и обществе в целом»
363
.
Интересы и исторический опыт «маленького человека», кото-
рые были оставлены без внимания как политической историей
XIX в., так и социальной историей XX в., условия его повседнев-
ной жизни и то, как эти условия испытывались, стали приоритет-
ными объектами изучения для ведущих историков современности.
П. Берк, К. Гинзбург, Н. Дэвис, К. Томас, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби,
241
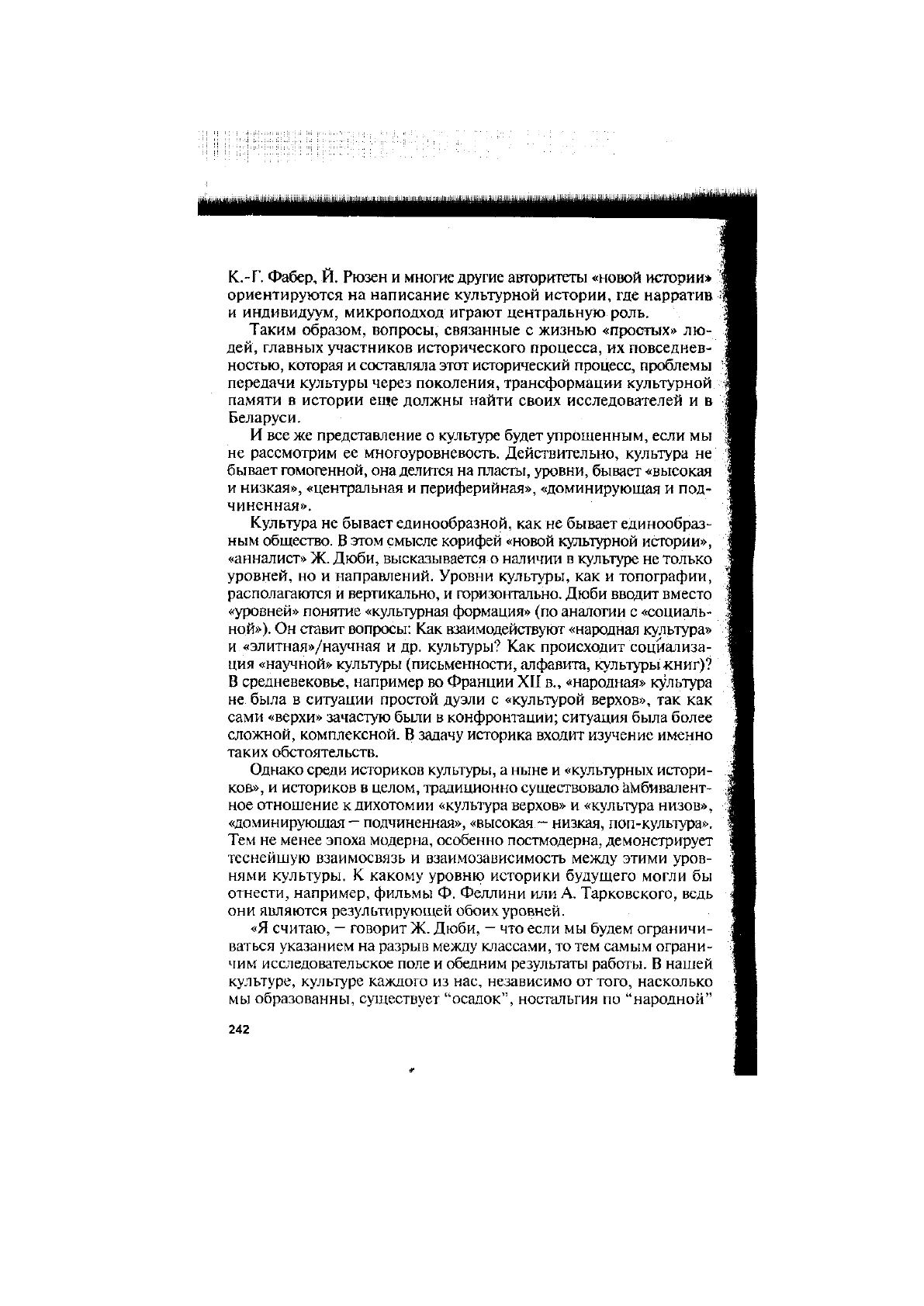
К.-Г. Фабер, Й. Рюзен и многие другие авторитеты «новой истории»
ориентируются на написание культурной истории, где нарратив
и индивидуум, микроподход играют центральную роль.
Таким образом, вопросы, связанные с жизнью «простых» лю-
дей, главных участников исторического процесса, их повседнев-
ностью, которая и составляла этот исторический процесс, проблемы
передачи культуры через поколения, трансформации культурной
памяти в истории еще должны найти своих исследователей и в
Беларуси.
И все же представление о культуре будет упрощенным, если мы
не рассмотрим ее многоуровневость. Действительно, культура не
бывает гомогенной, она делится на пласты, уровни, бывает «высокая
и низкая», «центральная и периферийная», «доминирующая и под-
чиненная».
Культура не бывает единообразной, как не бывает единообраз-
ным общество.
В
этом смысле корифей «новой культурной истории»,
«анналист» Ж. Дюби, высказывается о наличии в культуре не только
уровней, но и направлений. Уровни культуры, как и топографии,
располагаются и вертикально, и горизонтально. Дюби вводит вместо
«уровней» понятие «культурная формация» (по аналогии с «социаль-
ной»), Он ставит вопросы: Как взаимодействуют «народная культура»
и «элитная»/научная и др. культуры? Как происходит социализа-
ция «научной» культуры (письменности, алфавита, культурьисниг)?
В средневековье, например во Франции XII в., «народная» культура
не была в ситуации простой дуэли с «культурой верхов», так как
сами «верхи» зачастую были в конфронтации; ситуация была более
сложной, комплексной.
В
задачу историка входит изучение именно
таких обстоятельств.
Однако среди историков культуры, а ныне и «культурных истори-
ков», и историков в целом, традиционно существовало амбивалент-
ное отношение к дихотомии «культура верхов» и «культура низов
>
«доминирующая
—
подчиненная», «высокая
—
низкая, поп-культур
1 >
Тем не менее эпоха модерна, особенно постмодерна, демонстрирует
теснейшую взаимосвязь и взаимозависимость между этими уров-
нями культуры. К какому уровню историки будущего могли бы
отнести, например, фильмы Ф. Феллини или А. Тарковского, ведь
они являются результирующей обоих уровней.
«Я считаю,
—
говорит Ж. Дюби, - что если мы будем ограничи-
ваться указанием на разрыв между классами, то тем самым ограни-
чим исследовательское поле и обедним результаты работы.
В
нашей
культуре, культуре каждого из нас, независимо от того, насколько
мы образованны, существует "осадок", ностальгия по "народной"
242
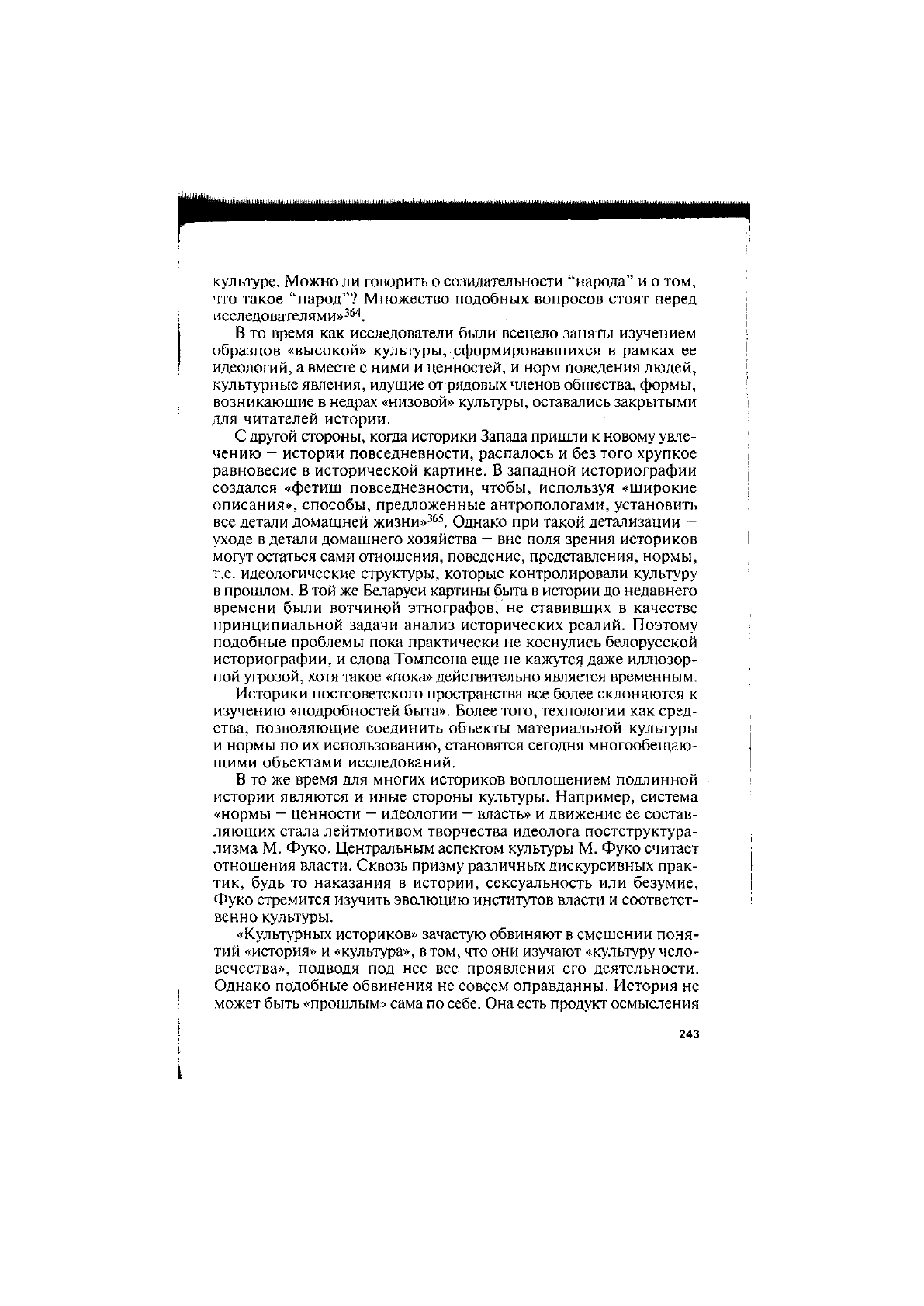
культуре. Можно ли говорить о созидательности "народа" и о том,
что такое "народ"? Множество подобных вопросов стоят перед
исследователями»
364
.
В то время как исследователи были всецело заняты изучением
образцов «высокой» культуры, сформировавшихся в рамках ее
идеологий, а вместе с ними и ценностей, и норм поведения людей,
культурные явления, идущие от рядовых членов общества, формы,
возникающие в недрах «низовой» культуры, оставались закрытыми
для читателей истории.
С другой стороны, когда историки Запада пришли к новому увле-
чению - истории повседневности, распалось и без того хрупкое
равновесие в исторической картине. В западной историографии
создался «фетиш повседневности, чтобы, используя «широкие
описания», способы, предложенные антропологами, установить
все детали домашней жизни»
365
. Однако при такой детализации
—
уходе в детали домашнего хозяйства
—
вне поля зрения историков
могут остаться сами отношения, поведение, представления, нормы,
т.е. идеологические структуры, которые контролировали культуру
в прошлом.
В
той же Беларуси картины быта в истории до недавнего
времени были вотчиной этнографов, не ставивших в качестве
принципиальной задачи анализ исторических реалий. Поэтому
подобные проблемы пока практически не коснулись белорусской
историографии, и слова Томпсона еще не кажутся даже иллюзор-
ной угрозой, хотя такое «пока» действительно является временным.
Историки постсоветского пространства все более склоняются к
изучению «подробностей быта». Более того, технологии как сред-
ства, позволяющие соединить объекты материальной культуры
и нормы по их использованию, становятся сегодня многообещаю-
щими объектами исследований.
В то же время для многих историков воплощением подлинной
истории являются и иные стороны культуры. Например, система
«нормы
—
ценности
—
идеологии
—
власть» и движение ее состав-
ляющих стала лейтмотивом творчества идеолога постструктура-
лизма М. Фуко. Центральным аспектом культуры М. Фуко считает
отношения власти. Сквозь призму различных дискурсивных прак-
тик, будь то наказания в истории, сексуальность или безумие,
Фуко стремится изучить эволюцию институтов власти и соответст-
венно культуры.
«Культурных историков» зачастую обвиняют в смешении поня-
тий «история» и «культура»,
в
том, что они изучают «культуру чело-
вечества», подводя под нее все проявления его деятельности.
Однако подобные обвинения не совсем оправданны. История не
может быть «прошлым» сама по себе. Она есть продукт осмысления
243
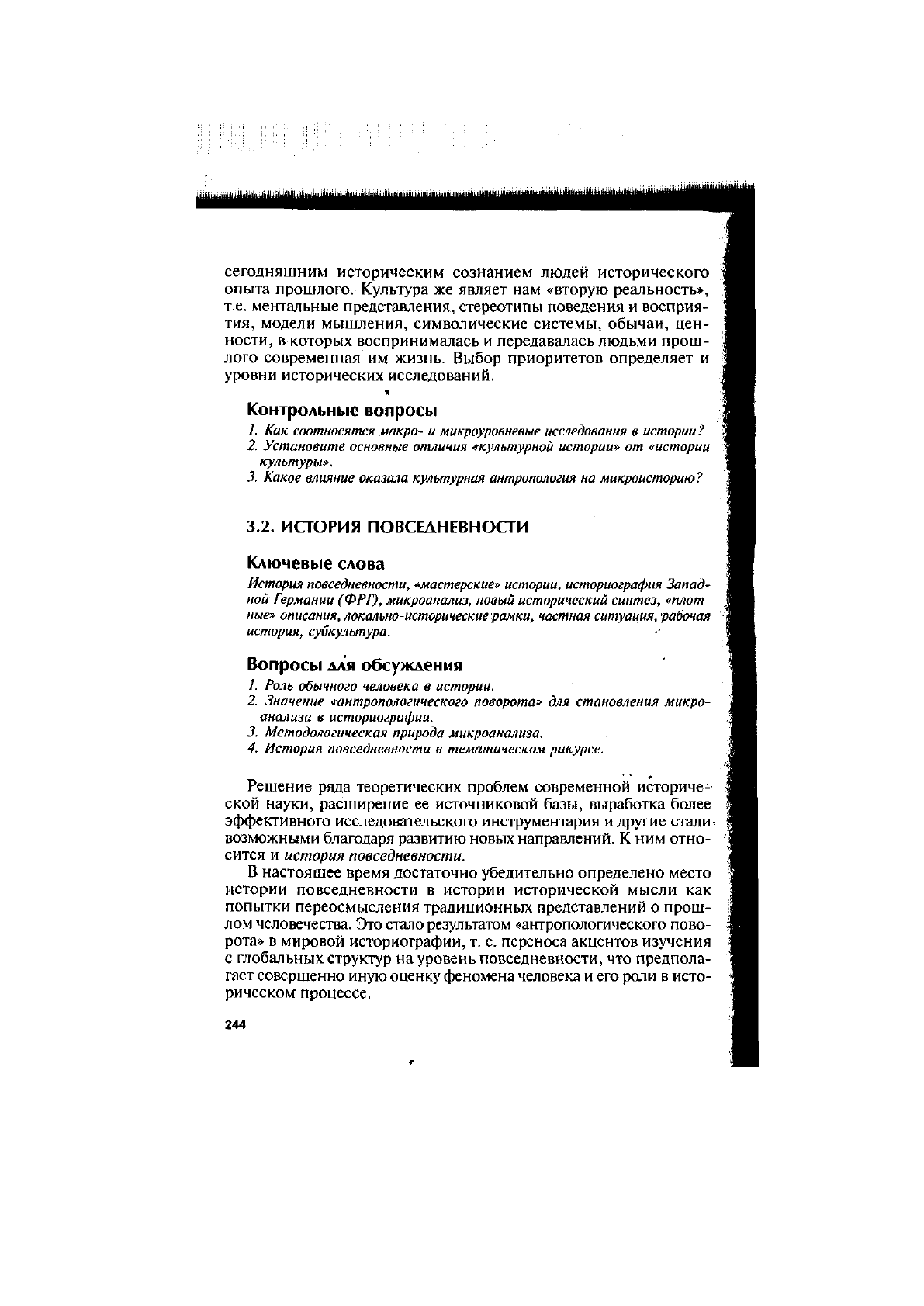
сегодняшним историческим сознанием людей исторического
опыта прошлого. Культура же являет нам «вторую реальность»,
т.е. ментальные представления, стереотипы поведения и восприя-
тия, модели мышления, символические системы, обычаи, цен-
ности, в которых воспринималась и передавалась людьми прош-
лого современная им жизнь. Выбор приоритетов определяет и
уровни исторических исследований.
»
Контрольные вопросы
/.
Как соотносятся макро-
и
микроуровневые исследования
в
истории?
2.
Установите основные отличия «культурной истории»
от
«истории
культуры».
3.
Какое влияние оказала культурная антропология на микроисторию?
3.2. ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Ключевые слова
История повседневности, «мастерские» истории, историография
Запад-
ной Германии (ФРГ), микроанализ, новый исторический синтез, «плот-
ные» описания,
локально-исторические
рамки, частная ситуация, рабочая
история, субкультура.
Вопросы для обсуждения
1.
Роль обычного человека
в
истории.
2. Значение
«антропологического поворота»
для
становления
микро-
анализа в
историографии.
3.
Методологическая природа микроанализа.
4.
История повседневности
в
тематическом
ракурсе.
Решение ряда теоретических проблем современной историче-
ской науки, расширение ее источниковой базы, выработка более
эффективного исследовательского инструментария и другие стали-
возможными благодаря развитию новых направлений. К ним отно-
сится и история
повседневности.
В настоящее время достаточно убедительно определено место
истории повседневности в истории исторической мысли как
попытки переосмысления традиционных представлений о прош-
лом человечества. Это стало результатом «антропологического пово-
рота» в мировой историографии, т. е. переноса акцентов изучения
с глобальных структур на уровень повседневности, что предпола-
гает совершенно иную оценку феномена человека и его роли в исто-
рическом процессе.
244
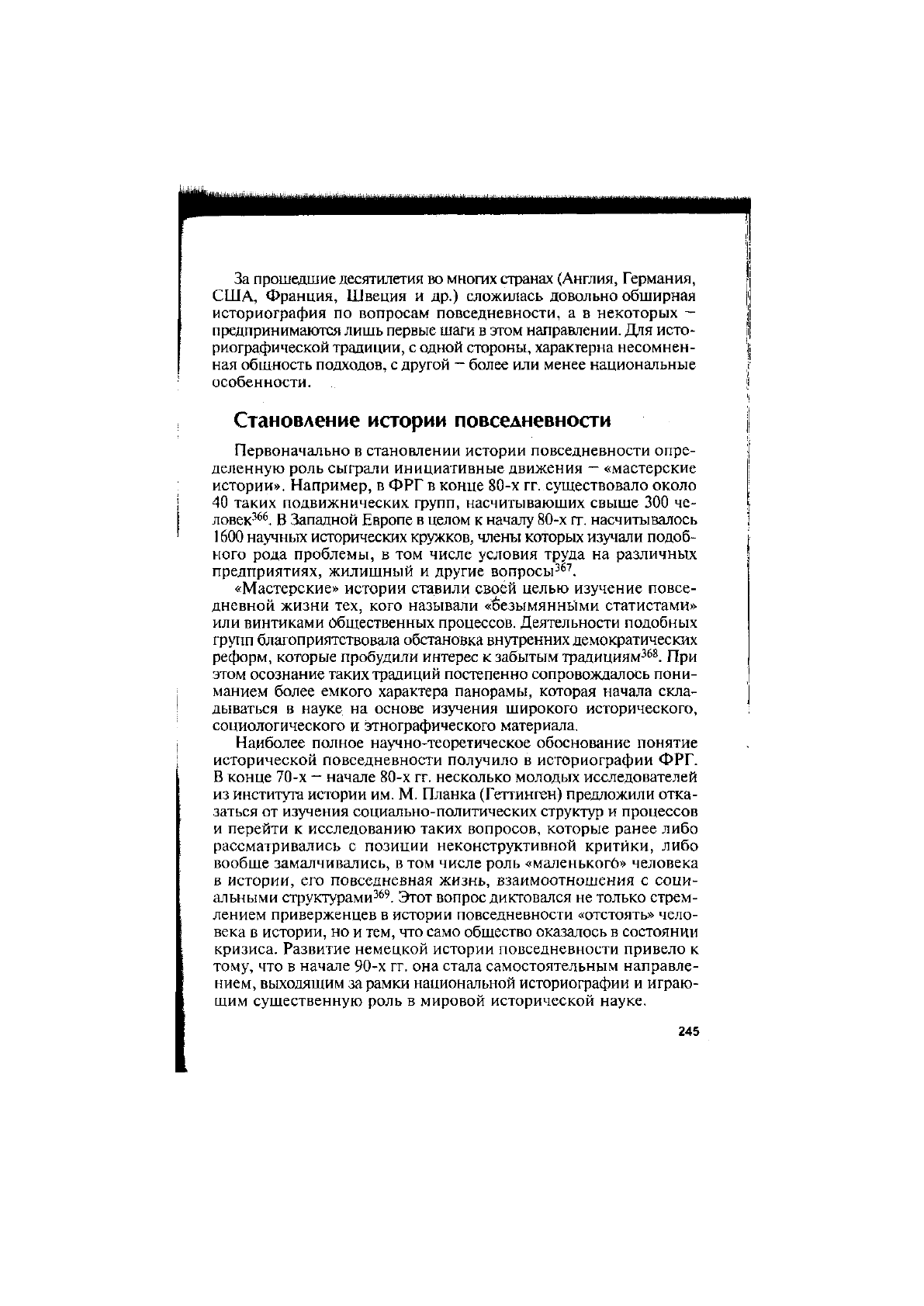
За прошедшие десятилетия во многих странах (Англия, Германия,
США, Франция, Швеция и др.) сложилась довольно обширная
историография по вопросам повседневности, а в некоторых
—
предпринимаются лишь первые шаги в этом направлении. Для исто-
риографической традиции, с одной стороны, характерна несомнен-
ная общность подходов, с другой
—
более или менее национальные
особенности.
Становление истории повседневности
Первоначально в становлении истории повседневности опре-
деленную роль сыграли инициативные движения
—
«мастерские
истории». Например, в ФРГ в конце 80-х гг. существовало около
40 таких подвижнических групп, насчитывающих свыше 300 че-
ловек
366
.
В
Западной Европе в целом к началу 80-х
гг.
насчитывалось
1600 научных исторических кружков, члены которых изучали подоб-
ного рода проблемы, в том числе условия труда на различных
предприятиях, жилищный и другие вопросы
367
.
«Мастерские» истории ставили своей целью изучение повсе-
дневной жизни тех, кого называли «безымянными статистами»
или винтиками Общественных процессов. Деятельности подобных
групп благоприятствовала обстановка внутренних демократических
реформ, которые пробудили интерес к забытым традициям
368
. При
этом осознание таких традиций постепенно сопровождалось пони-
манием более емкого характера панорамы, которая начала скла-
дываться в науке на основе изучения широкого исторического,
социологического и этнографического материала.
Наиболее полное научно-теоретическое обоснование понятие
исторической повседневности получило в историографии ФРГ.
В конце 70-х
—
начале 80-х гг. несколько молодых исследователей
из института истории им. М. Планка (Геттинген) предложили отка-
заться от изучения социально-политических структур и процессов
и перейти к исследованию таких вопросов, которые ранее либо
рассматривались с позиции неконструктивной критйки, либо
вообще замалчивались, в том числе роль «маленького» человека
в истории, его повседневная жизнь, взаимоотношения с соци-
альными структурами
369
. Этот вопрос диктовался не только стрем-
лением приверженцев в истории повседневности «отстоять» чело-
века в истории, но и тем, что само общество оказалось в состоянии
кризиса. Развитие немецкой истории повседневности привело к
тому, что в начале 90-х гг. она стала самостоятельным направле-
нием, выходящим за рамки национальной историографии и играю-
щим существенную роль в мировой исторической науке.
245
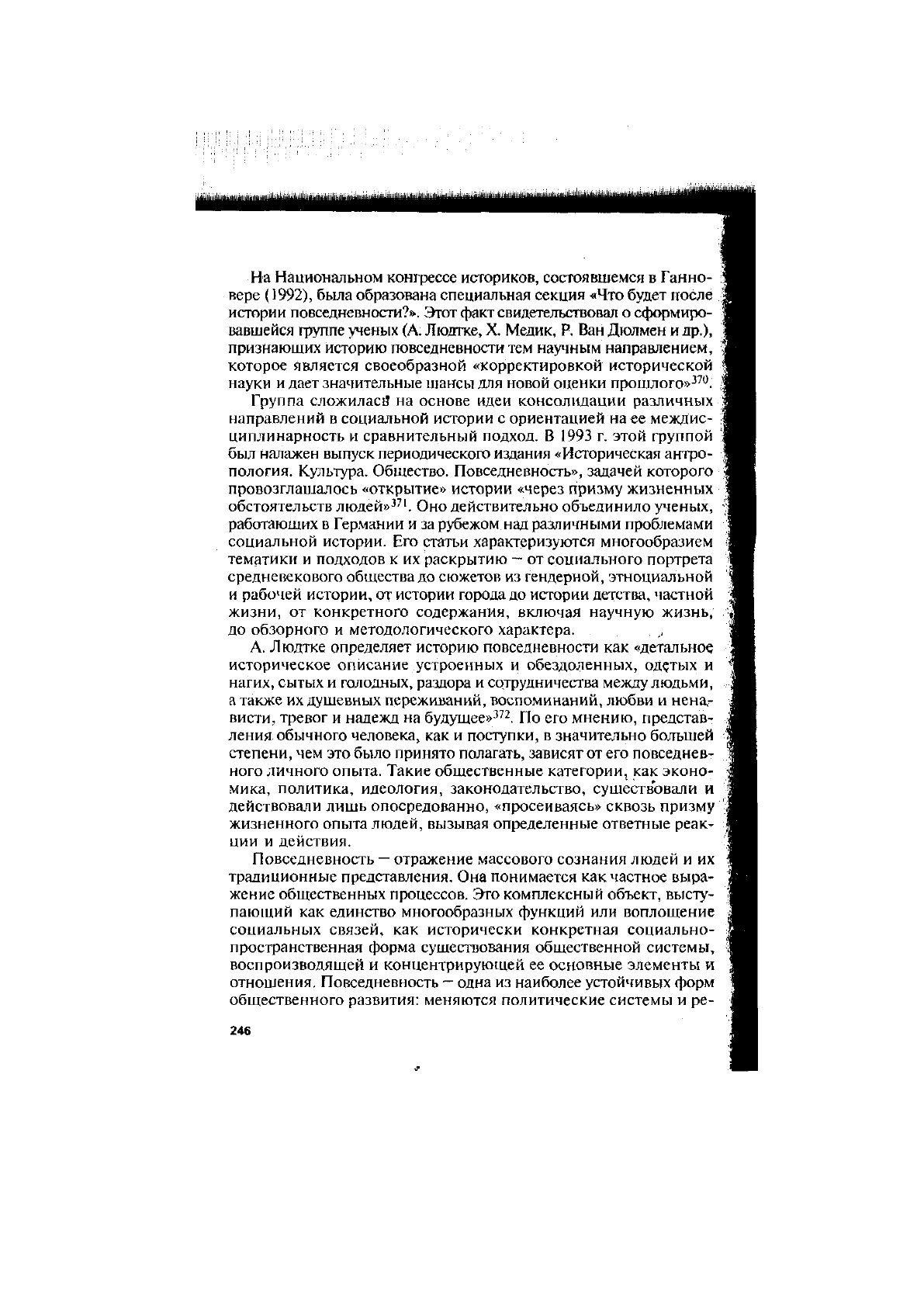
На Национальном конгрессе историков, состоявшемся в Ганно-
вере (1992), была образована специальная секция «Что будет после
истории повседневности?». Этот факт свидетельствовал о сформиро-
вавшейся группе ученых
(А.
Людгке, X. Медик, Р. Ван Дюлмен и др.),
признающих историю повседневности тем научным направлением,
которое является своеобразной «корректировкой исторической
науки и дает значительные шансы для новой оценки прошлого»
370
.
Группа сложиласй на основе идеи консолидации различных
направлений в социальной истории с ориентацией на ее междис-
циплинарность и сравнительный подход. В 1993 г. этой группой
был налажен выпуск периодического издания «Историческая антро-
пология. Культура. Общество. Повседневность», задачей которого
провозглашалось «открытие» истории «через призму жизненных
обстоятельств людей»
371
. Оно действительно объединило ученых,
работающих в Германии и за рубежом над различными проблемами
социальной истории. Его статьи характеризуются многообразием
тематики и подходов к их раскрытию - от социального портрета
средневекового общества до сюжетов из тендерной, этноциальной
и рабочей истории, от истории города до истории детства, частной
жизни, от конкретного содержания, включая научную жизнь,
до обзорного и методологического характера.
А. Людтке определяет историю повседневности как «детальное
историческое описание устроенных и обездоленных, одетых и
нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми,
а также их душевных переживаний, воспоминаний, любви и нена-
висти, тревог и надежд на будущее»
372
. По его мнению, представ-
ления обычного человека, как и поступки, в значительно большей
степени, чем это было принято полагать, зависят от его повседнев-
ного личного опыта. Такие общественные категории, как эконог
мика, политика, идеология, законодательство, существовали и
действовали лишь опосредованно, «просеиваясь» сквозь призму
жизненного опыта людей, вызывая определенные ответные реак-
ции и действия.
Повседневность
—
отражение массового сознания людей и их
традиционные представления. Она понимается как частное выра-
жение общественных процессов. Это комплексный объект, высту-
пающий как единство многообразных функций или воплощение
социальных связей, как исторически конкретная социально-
пространственная форма существования общественной системы,
воспроизводящей и концентрирующей ее основные элементы и
отношения. Повседневность
—
одна из наиболее устойчивых форм
общественного развития: меняются политические системы и ре-
246
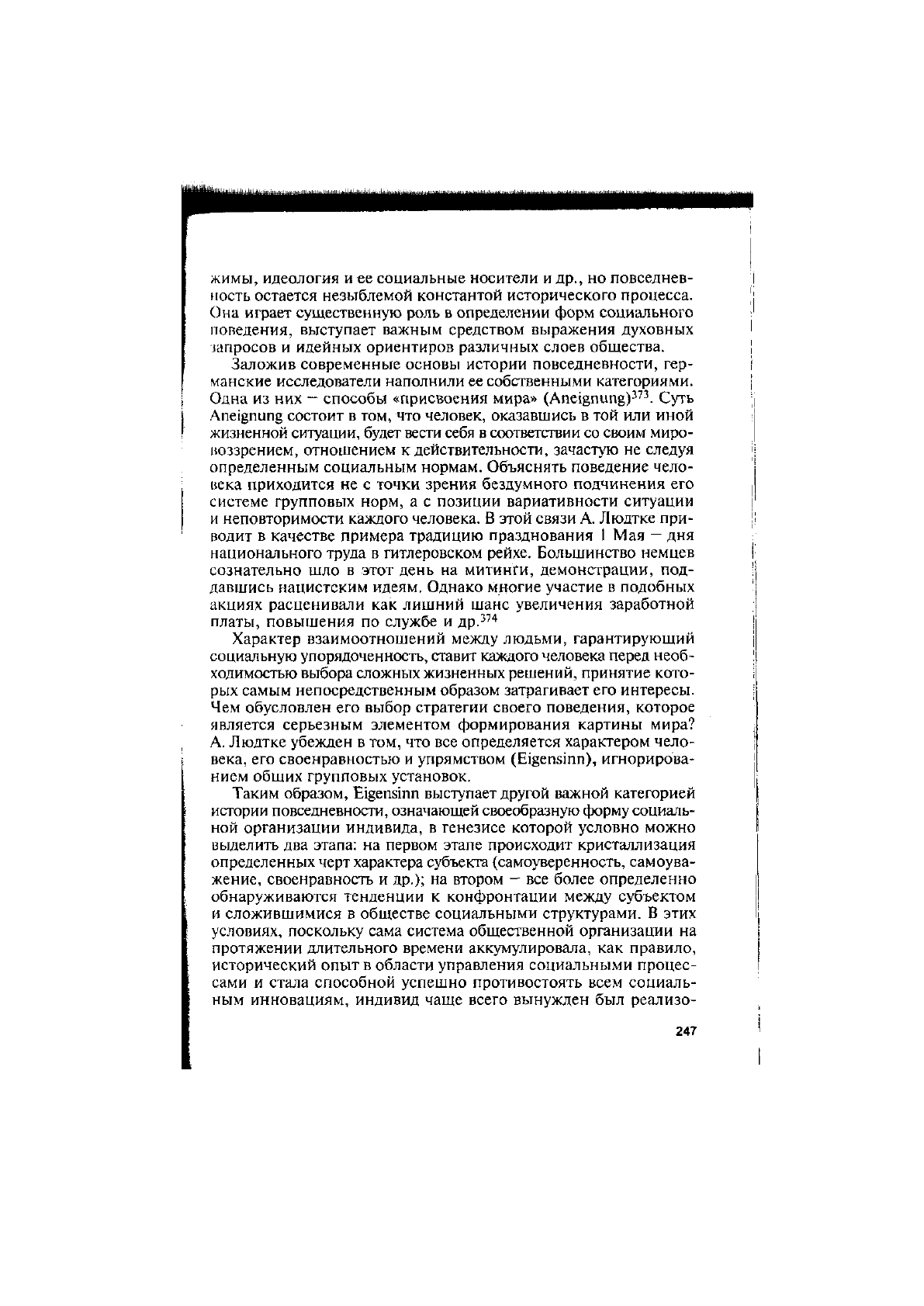
жимы, идеология и ее социальные носители и др., но повседнев-
ность остается незыблемой константой исторического процесса.
Она играет существенную роль в определении форм социального
поведения, выступает важным средством выражения духовных
запросов и идейных ориентиров различных слоев общества.
Заложив современные основы истории повседневности, гер-
манские исследователи наполнили ее собственными категориями.
Одна из них
—
способы «присвоения мира» (Aneignung)
373
. Суть
Aneignung состоит в том, что человек, оказавшись в той или иной
жизненной ситуации, будет вести себя в соответствии со своим миро-
воззрением, отношением к действительности, зачастую не следуя
определенным социальным нормам. Объяснять поведение чело-
века приходится не с точки зрения бездумного подчинения его
системе групповых норм, а с позиции вариативности ситуации
и неповторимости каждого человека. В этой связи
А.
Людтке при-
водит в качестве примера традицию празднования 1 Мая
—
дня
национального труда в гитлеровском рейхе. Большинство немцев
сознательно шло в этот день на митинги, демонстрации, под-
давшись нацистским идеям. Однако многие участие в подобных
акциях расценивали как лишний шанс увеличения заработной
платы, повышения по службе и др.
374
Характер взаимоотношений между людьми, гарантирующий
социальную упорядоченность, ставит каждого человека перед необ-
ходимостью выбора сложных жизненных решений, принятие кото-
рых самым непосредственным образом затрагивает его интересы.
Чем обусловлен его выбор стратегии своего поведения, которое
является серьезным элементом формирования картины мира?
А. Людтке убежден в том, что все определяется характером чело-
века, его своенравностью и упрямством (Eigensinn), игнорирова-
нием общих групповых установок.
Таким образом, Eigensinn выступает другой важной категорией
истории повседневности, означающей своеобразную форму социаль-
ной организации индивида, в генезисе которой условно можно
выделить два этапа: на первом этапе происходит кристаллизация
определенных черт характера субъекта (самоуверенность, самоува-
жение, своенравность и др.); на втором
—
все более определенно
обнаруживаются тенденции к конфронтации между субъектом
и сложившимися в обществе социальными структурами. В этих
условиях, поскольку сама система общественной организации на
протяжении длительного времени аккумулировала, как правило,
исторический опыт в области управления социальными процес-
сами и стала способной успешно противостоять всем социаль-
ным инновациям, индивид чаще всего вынужден был реализо-
247
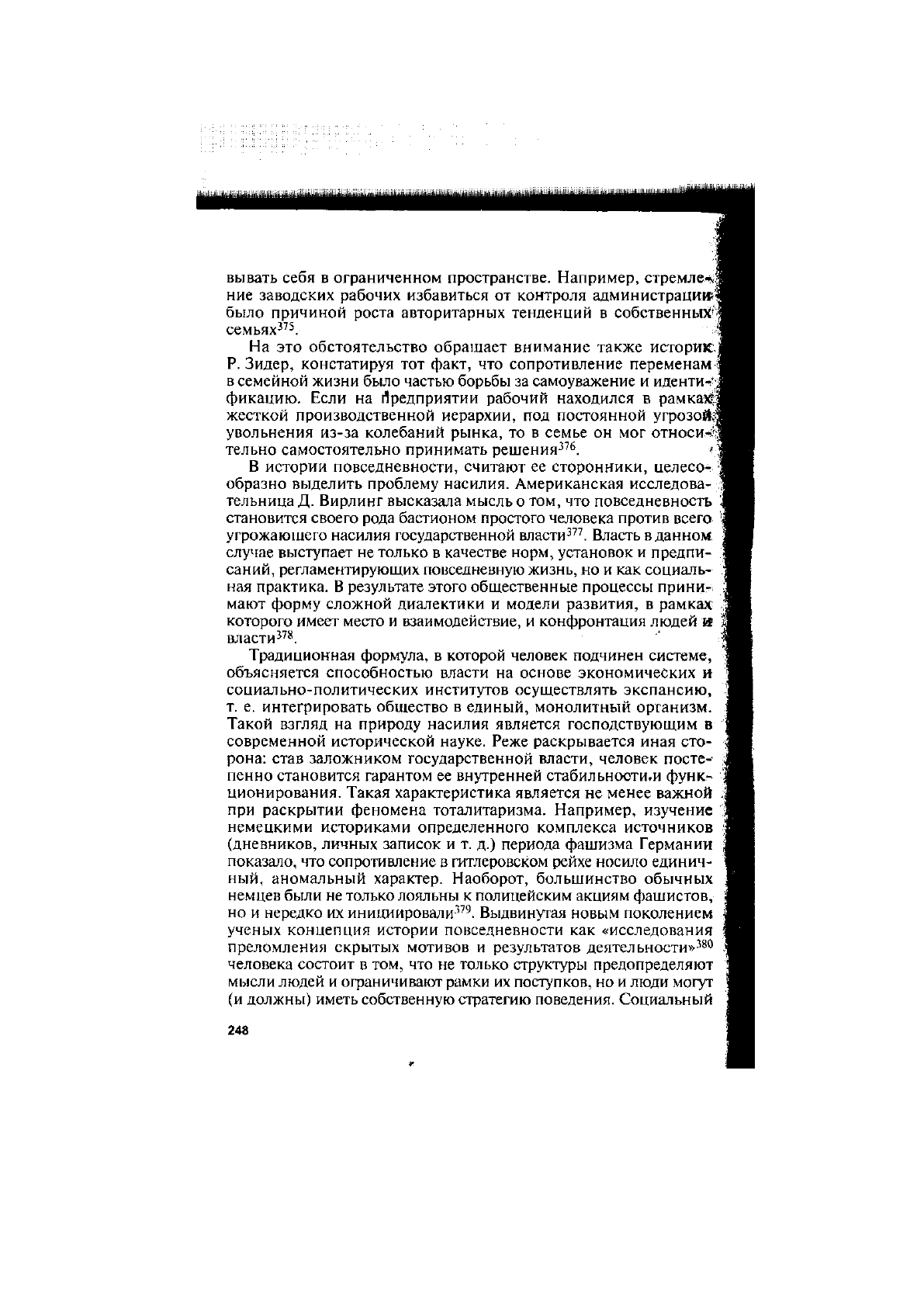
вывать себя в ограниченном пространстве. Например, стремлен
ние заводских рабочих избавиться от контроля администрации«'
было причиной роста авторитарных тенденций в собственных
1
семьях
375
.
На это обстоятельство обращает внимание также историк
Р. Зидер, констатируя тот факт, что сопротивление переменам
в семейной жизни было частью борьбы за самоуважение и иденти-
фикацию. Если на Предприятии рабочий находился в рамках'
жесткой производственной иерархии, под постоянной угрозой*
увольнения из-за колебаний рынка, то в семье он мог относи-
тельно самостоятельно принимать решения
376
. '
В истории повседневности, считают ее сторонники, целесо-
образно выделить проблему насилия. Американская исследова-
тельница Д. Вирлинг высказала мысль о том, что повседневность
становится своего рода бастионом простого человека против всего
угрожающего насилия государственной власти
377
. Власть в данном;
случае выступает не только в качестве норм, установок и предпи-
саний, регламентирующих повседневную жизнь, но и как социаль-
ная практика. В результате этого общественные процессы прини-
мают форму сложной диалектики и модели развития, в рамках
которого имеет место и взаимодействие, и конфронтация людей и
власти
378
.
Традиционная формула, в которой человек подчинен системе,
объясняется способностью власти на основе экономических и
социально-политических институтов осуществлять экспансию,
т. е. интегрировать общество в единый, монолитный организм.
Такой взгляд на природу насилия является господствующим в
современной исторической науке. Реже раскрывается иная сто-
рона: став заложником государственной власти, человек посте-
пенно становится гарантом ее внутренней стабильнос-ти.и функ-
ционирования. Такая характеристика является не менее важной
при раскрытии феномена тоталитаризма. Например, изучение
немецкими историками определенного комплекса источников
(дневников, личных записок и т. д.) периода фашизма Германии
показало, что сопротивление в гитлеровском рейхе носило единич-
ный, аномальный характер. Наоборот, большинство обычных
немцев были не только лояльны к полицейским акциям фашистов,
но и нередко их инициировали
379
. Выдвинутая новым поколением
ученых концепция истории повседневности как «исследования
преломления скрытых мотивов и результатов деятельности»
380
человека состоит в том, что не только структуры предопределяют
мысли людей и ограничивают рамки их поступков, но и люди могут
(и должны) иметь собственную стратегию поведения. Социальный
248
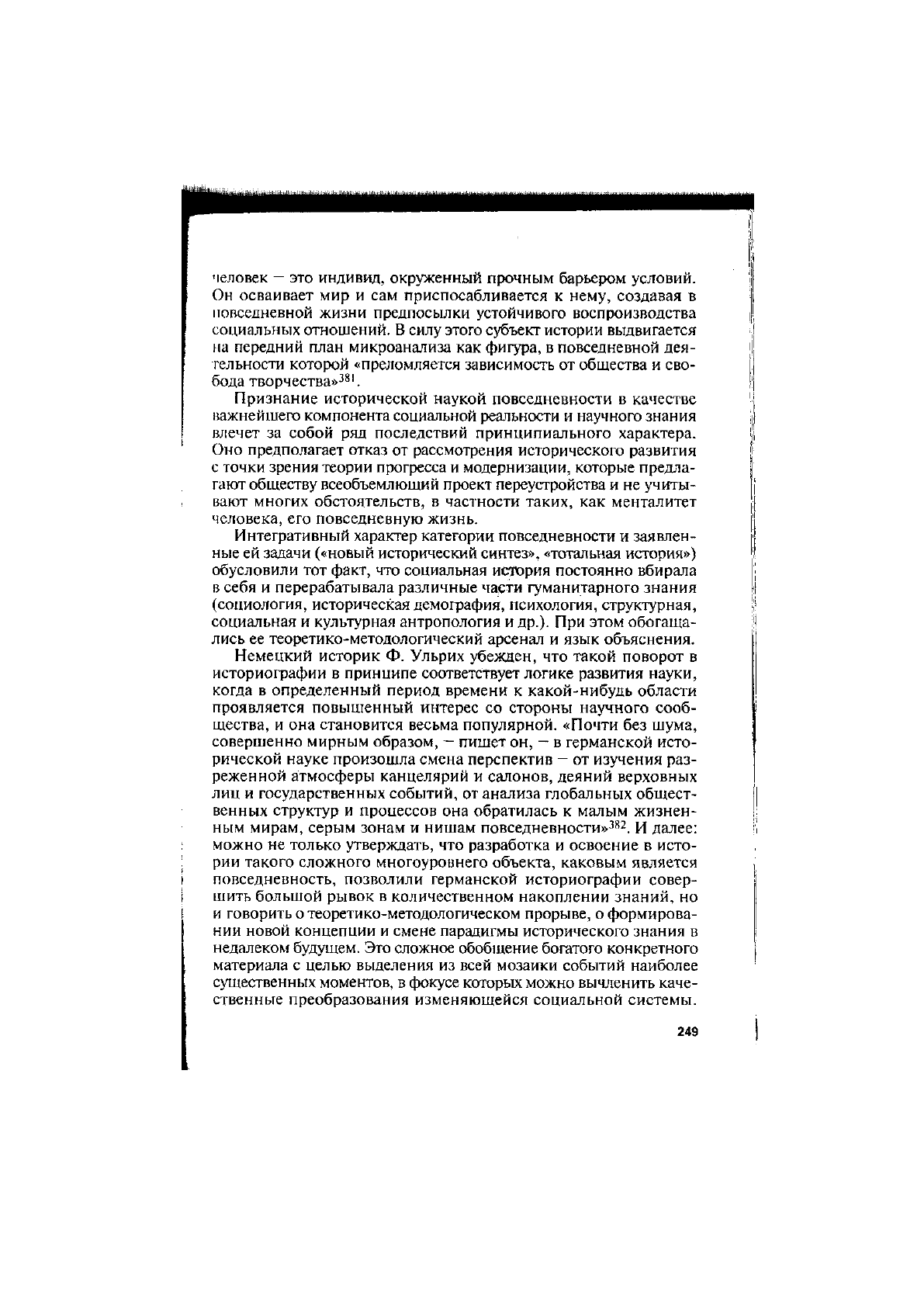
человек
—
это индивид, окруженный прочным барьером условий.
Он осваивает мир и сам приспосабливается к нему, создавая в
повседневной жизни предпосылки устойчивого воспроизводства
социальных отношений.
В
силу этого субъект истории выдвигается
на передний план микроанализа как фигура, в повседневной дея-
тельности которой «преломляется зависимость от общества и сво-
бода творчества»
381
.
Признание исторической наукой повседневности в качестве
важнейшего компонента социальной реальности и научного знания
влечет за собой ряд последствий принципиального характера.
Оно предполагает отказ от рассмотрения исторического развития
с точки зрения теории прогресса и модернизации, которые предла-
гают обществу всеобъемлющий проект переустройства и не учиты-
вают многих обстоятельств, в частности таких, как менталитет
человека, его повседневную жизнь.
Интегративный характер категории повседневности и заявлен-
ные ей задачи («новый исторический синтез», «тотальная история»)
обусловили тот факт, что социальная история постоянно вбирала
в себя и перерабатывала различные части гуманитарного знания
(социология, историческая демография, психология, структурная,
социальная и культурная антропология и др.). При этом обогаща-
лись ее теоретико-методологический арсенал и язык объяснения.
Немецкий историк Ф. Ульрих убежден, что такой поворот в
историографии в принципе соответствует логике развития науки,
когда в определенный период времени к какой-нибудь области
проявляется повышенный интерес со стороны научного сооб-
щества, и она становится весьма популярной. «Почти без шума,
совершенно мирным образом,
—
пишет он,
—
в германской исто-
рической науке произошла смена перспектив
—
от изучения раз-
реженной атмосферы канцелярий и салонов, деяний верховных
лиц и государственных событий, от анализа глобальных общест-
венных структур и процессов она обратилась к малым жизнен-
ным мирам, серым зонам и нишам повседневности»
382
. И далее:
можно не только утверждать, что разработка и освоение в исто-
рии такого сложного многоуровнего объекта, каковым является
повседневность, позволили германской историографии совер-
шить большой рывок в количественном накоплении знаний, но
и говорить о теоретико-методологическом прорыве, о формирова-
нии новой концепции и смене парадигмы исторического знания в
недалеком будущем. Это сложное обобщение богатого конкретного
материала с целью выделения из всей мозаики событий наиболее
существенных моментов, в фокусе которых можно вычленить каче-
ственные преобразования изменяющейся социальной системы.
249
