Соболева М.Е. Философия как критика языка в Германии
Подождите немного. Документ загружается.


с
са
мим собой, т. е. его идентичности: «Само слово есть то
отно
шение,
ко
торое таким обром удерживает в себе вещь, что слово "есть"
вещы>
[
Hei
degger 1959: 1701 .
Можно сделать вывод о том, что, согласно Хайдеггеру,
исти
н
а
языка заключается не в достоверности представления, достига
ем
ой за счет анализа сущего. Она есть герменевтическая катего
р
ия,
связанная с учреждением бытия как такового. Поскольку язы
ковое мышление нацелено на познание вещей, то в слове раскры
ва
ются сами вещи. В этом смысле все слова истинны, так как их
бы
тие сводится к их значению. Эта герменевтическая истина не
имеет еще эпистемического измерения, но она составляет условие
любой эпистемы, любого возможного познания. Например, теория
истины как соответствия предполагает герменевтическую истину в
форме «несокрытости сущего» в качестве своего условия [Heidegger
1963Ь: 401.
Итак, слово конституирует вещь, но при этом оно открывает только
какуто одну ее сторону. Поэтому языковая «истина есть в своей сущ
IЮСТИ не-истина» [Heidegger 1963Ь: 431. Анализ отношений меж су
щими внутри «уже открытой области истины» - дело науки [Heidegger
1
963Ь: 501. Наука бируется на том, чем уже располагает язык, и пред
ставляет собой рвитие предоставляемых им знаний. Ей свойственно
систематическое мышление, которое Хайдеггер обозначает как «ме
тод»: «Науки знают путь к истине под названием "мето » [Heidegger
1959: 1781 . Диалектическое напряжение между поэтическим и науч
ным, систематическим мышлением характеризует процесс познания
мира.
В отличие от систематического, логического и аналитического
мышления поэтическое мышление характеризуется беспредпосылоч
ностью, синкретичностью (т. е. это мышление, не делящее мир на субъ
екты
и объекты), созидательным характером: «Поскольку бытие и
сущность вещей никогда не могут быть просчитаны (errechnet) и вы
ведены
из имеющегося, они должны быть свободно созданы, установ
лены
(gesetzt) и подарены. Такое свободное дарение есть учреждение»
[Heidegger 1963а: 381.
Рассматривая поэтический язык, в котором скывается бытие,
Хайдеггер приходит к заключению, что он есть монолог: ведь «един
ственно язык есть то, что собственно говорит. И он говорит одиноко»
[
Хайдеггер 1993: 2721. Такой язык он называет «праязыком» [Heideg
ger
1963а: 401. Этот праязык - условие возможности диалога, или, по
выражению Хайдеггера, «разговора» [Heidegger 1963а: 361 , конститу
тивного для Dasein. «Показывающий сказ проделывает путь от языка
к
человеческой речи. Ск требует
оглашения в слове. Человек, однако,
способен говорить, лишь поскольку он, послушный сказу, прислуши-
161
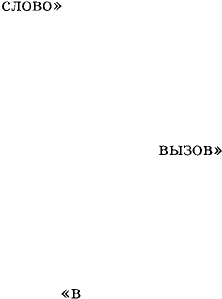
вается
к нему, чтобы, вторя, суметь сказать
слово»
[Хайдеггер 1993
:
272].
Лишь человек, захваченный стихией монологичного языка, пре
бывает в сущностном отношении к языку и к миру. Причем «слово
"отношение" призвано тут сказать, что человек в своем существе от
носится к тому существенному, что требует его, принадлежит, послу
шен как осуществляющийся тому, что обращено к нему как
вызов»
[Хайдеггер 1993: 290]. Это сущностное отношение человека к бытию
характеризуется Хайдеггером как гереневтuесое. Оно подразуме
вает, что любому истолкованию предшествует «несение вести и изве
щение» [Хайдеггер 1993: 288]. Человек оказывается носителем вести,
которую через него хочет сообщить бытие. Он говорит только в ответ
на «призыв» бытия и осуществляется как человек
«в
употреблении»
[Хайдеггер 1993: 290].
Утверждая, что не человек - пользователь языка, а 'бытие исполь
зует человека, чтобы возвестить о себе, Хайдеггер вводит новое опре
деление гуманизма, в котором «во главу угла поставлен не человек, а
историческое существо человека с его истоком в истине бытия» [Хай
деггер 1993: 208]. Условием возможности такого гуманизма выступа
ет соблюдение определенных правил этики по отношению к языку, а
именно вслушивание в первоязык самого бытия.
Однако сам язык противится такой экологии, так как, рожденный
на стыке чувственного и внечувственного, он обладает двойственным
характером: с одной стороны, как система знаков, как «так или ина
че совершающаяся речь, он принадлежит к налично существующему»
[Хайдеггер 1993: 261]; с другой стороны, как тождественный самому
бытию, «сказ не поается уловлению ни в каком высказывании» [Хай
деггер 1993: 272]. Эта амбивалентность языка - потенциальный источ
ник опасности, которая состоит в том, что, хотя «языку задано обнару
живать и хранить в себе сущее как таковое, в нем может выражаться
как чистейшее и сокровеннейшее, так и запутанное и банальное» [Hei
degger 1963а: 34].
Слова, однажды появившись на свет, получают способность к са
мостоятельному существованию, а рефлексия о словах создает мир
представлений, отличный от мира истинного бытия. «Мысль, дума
ющая вслед событию, может пока еще только догадываться о нем,
однако вместе с тем уже и ощущает его в существе современной тех
ники, которое названо пока еще странно-отчуждающим именем по
став» [Хайдеггер 1993: 270].
Мысль, не укорененная в событии, отчуждает человека от бытия
как такового. Размышление не о самом бытии, а о его отображениях
приводит к тому, что «речь призвана отныне отвечать всесторонней
представимости присутствующего» [Хайдеггер 1993: 270]. Так постав-
162

ле
н
на
я речь становится информацией.
По мнению Хайдеггера,
разви
т
ие
тех
ники в значительной мере способствовало формализации
языка
и п
р
евращению человека в
«технически
исчисляющ
ее существо •.
Логически упорядочивающая функция языка начинает превал
иро
в
а
ть
над его поэтической функцией, качественно изменяя его харак
тер
:
и
з «дома бытия. язык превращается в средство создания «карти
н
ы
мира •. Тем самым язык отчуждает человека от мира и от самого
с
е
бя,
а забвение сущности языка грозит человеку забвением собствен
н
ой
сущности. Для того чтобы человек смог снова окаться вбли
з
и бытия, «он должен сперва научиться существовать на безымянном
пр
осторе [ ... 1 Только так слову снова будет подарена драгоценность
его
существа, а человеку - кров для обитания в истине бытия. [Хай
деггер 1993: 1951.
* *
*
в своих поздних работах Хайдеггер рличает две формы мышле
ния - поэтическое и рационально-понятийное и соответственно выде
ляет различные функции языка. Поэтическое мышление лежит в ос
нове создания языка и конституирования мира: «Поэзия есть праязык
и
сторического народа [ ... 1 Но праязык есть поэзия как учреждение
бытия. [Heidegger 1963а: 401. Рационьно-понятийное мышление об
служивает повседневное протекание жизни и науку; оно использует
язык в качестве набора готовых инструментов.
Таким обром, если в «Бытии и времени. понятиями, структу
рирующими дискурс о языке, были экзистенциальная речь и язык
(толки), то в поздних хайдеггеровских работах эту роль выполняют
поэтический праязык и язык «в употреблении •. Причем речь и пра
язык
- онтологические категории, которые призваны прояснить во
прос
О сущности языка; область лингвистических исследований есте
ственных языков объявляется для этой цели недостаточной.
Вопрос о сущности языка у «раннего. и «позднего. Хайдеггера
решается
по-разному. В «Бытии и временИ»
язык (как речь) понима
ется
как экзистенциал, который конституирует сущность Dasein как
«бытия-в •. В поздних работах язык предстает как способ существо
в
ания самого бытия, причем вопрос о бытии может быть правильно
поставлен лишь тогда, когда он ставится вместе с вопросом о языке.
Если в «Бытии и времени. условием возможности естественного язы
к
а была онтологически понятая речь, то в поздний период в качестве
такого условия выступает праязык как язык самого бытия согласно
формуле «бытие говорит •.
Отныне не онтология Dasein, а фундаментальная онтология бытия
163
должна
ответить на вопрос о существе языка и, следовательно, во-пер
вых, осознат
ь язык в его 4бытийно-историческом существе» как 40СУ
ществл
яемый» имеющим свою историю бытием и обусловленный его
характ
ером; во-вторых, продумать определение человека как конечно
го
существа, обитающего вблизи бытия и выполняющего функцию его
4 хранителя ».
Бытийно-историческая сущность языка заключается, согласно
Хайдеггеру, в том, что он 4учреждает бытие» и таким образом оказы
вается местом свершения истины. Истину при этом слеет понимать
как герменевтическую, а не эпистемическую категорию, что означает,
что истины языка невозможно подвергнуть эмпирическому или фор
мально-логическому анализу, ибо они сами выступают условием воз
можности всех прочих видов истины. Кроме того, истина языка диа
лектична, поскольку ее содержание, исчерпывающееся констатацией
«это есть сущее», впервые дает возможность сделать это сущее объ
ектом дальнейшего познания, в том числе научного. Тем самым она
является условием не только других возможных истин, но и возмож
ных «не-истин», ошибок и заблуждений.
Понимание человека как «хранителя бытия» приводит к определе
нию его как существа, сущность которого покоится В языке. Посту
лируемая Хайдеггером абсолютность языкового опыта человека пре
вращает язык в трансцендентальный феномен, в необходимое условие
любого понимания, включая самопонимание. Однако его утверждение
о том, что сущность языка покоится не в человеке, имеет следствием
то, что утрачивается связь между человеческим Dasein и повседнев
ным языком, а значит, также со сферой поступков и решений человека.
Тем самым важнейшее антропологическое измерение Dasein исчезает
из поля зрения.
Характеризуя хайдеггеровскую критику языка в целом, можно ска
зать, что, осуществляясь в рамках анализа сначала основных струк
тур Dasein, а затем смысла бытия, она оодтелъно признала ЯЗ'Ы
тнсценденталън'Ы условием возожности а первого, та и
второго. При этом ряд сформулированных здесь идей дал импульс для
послеющего развития философской герменевтики языка. В частно
сти, получили рвитие идеи Хайдеггера о том, что: 1) анализ язы
ка не должен концентрироваться на предложении как своем исход
ном уровне, поскольку сам язык имеет обосновывающие его априор
ные предпосылки; 2) 4рговор»
'
является конститутивным элементом
как Dasein, так и всего понимания и познания, т. е. что коммуника
тивная и когнитивная функции языка взаимосвязаны; 3) сопряженное
с
языком понимание представляет собой исходную ситуацию для всех
видов познания; 4) любое понимание имеет свою «предструктуру», т. е.
происходит в рамках «герменевтической ситуации», и осуществляется
164

п
о
модели «герменевтического круга». оследняя
основана на
пере
х
о
де
от предпонимания (не всегда артикулированного) к поним
анию,
изм
еняющему при этом самопонимание и тем самым начальные
усло
в
ия для слеющего процесса понимания; 5) условием формиров
ания
язы
ковых значений является практическая деятельность людей; 6) ак
т
уа
льным остается и учение Хайдеггера о структуре конечного Dasein
к
а
к
«бытия-в», прежде всего в том аспекте, что укорененность челове
ка
в мире представляет собой конкретно-историческое, т. е. ограничен
но
е, изменяющееся во времени и обусловленное своеобразием культур
A
priori познания. Это учение способствовало появлению прагматиче
ски
ориентированных концепций герменевтики, в которых на смену
п
остулату об универсьности разума пришел тезис о плюризме из
меняющихся «жизненных миров», каждый из которых воплощает со
бой особую форму рациональности.
3
.
К
Р
И
Т
ИК
А
Я
ЗЫК
А ХА
НС
А
-
Г
Е
О
Р
Г
А
Г
АДАМ
ЕР
А
Ханс-Георг Гадамер (1900-2002) продолжил решение поставленных
Хайдеггером «радикальных проблем» [Гадамер 1988: 616]3
5
в своем ка
питальном труде «Истина и метод» (1960). Основной пафос этой рабо
ты состоял в том, чтобы противопоставить «логике исследований»,3
6
получившей широкое распространение в теории познания, которую в
ХХ в. редуцировали к теории науки, диалектику герменевтического
понимания целостного бытия человека. Важнейшая цель, которую Га
дамер поставил перед герменевтической философией, заключалась в
числе прочего в том, чтобы «вскрыть те онтологические импликации,
которые лежат в ''техническом'' понятии науки, и достигнуть теорети
ческого признания герменевтического опыта» (ослесловие» [Гада
мер 1988: 622]).
В основе данного требования лежит представление о герменевти
ке
как об «универсальном аспекте философию> [Гадамер 1988: 550].
оскольку, согласно Гадамеру, любое человеческое отношение к ми
ру
опосредовано языком, то «феномен языка и понимания оказывает
ся
универсальной моделью бытия и познания вообще» [Гадамер 1988:
564]
. Язык приобретает здесь трансцендентальный характер
в силу
тог
о, что он представляет собой универсальную среду, в которой «Я»
и
«мир» выражаются в их изначальной взаимопринадлеж
ности. ри
э
том язык не является ни простым отображением уже познанного ми-
35
См. послесловие к нванному изданию. Оно
было написано
Я третьего из
данИЯ
«Истины И метода. (1972 г.).
36
3десь имеются в виду прежде всего «критический рационизм� К. Поппера, а
т
акже х. Альберта, написавшего «Трактат о критическом
руме� (1968), и теории
и
х
приверженцев.
165

ра,
ни поающейся произвольным манипуляциям знаковой системой
(Гадамер решительно выступает против номиналистического понима
ния
языка), он «участвует в реализации того отношения к миру, в
границах которого мы живем. [Гадамер 1988: 520].
Поятuе гереевтuеСого опита. Для характеристики
первичного отношения человека с миром Гадамер использует поня
тие оnъtта, специфическую сущностную черту которого составляет его
языковая природа. Согласно Гадамеру, «языковой опыт мира "абсол
тен" [ ... ] Языковой характер нашего опыта мира предшествует всему,
что мы познаем и высказываем в качестве сущего. Основополагаю
щая связь ежду языко и иро не ознает nоэтоу, то ир
становится nредето языка. Скорее то, что является предметом
познания и высказывания, всегда уже окружено мировым горизонтом
языка. [Гадамер 1988: 520]. «В языковом оформлении человеческого
опыта мира происходит не измерение или учет наличествующего, но
обретает голос само сущее в том виде, в каком оно в качестве сущего
и значимого являет себя
человеку» [Гадамер 1988: 527]. В этом смысле
о языковом опыте можно говорить как о «естественном опыте
мира»
[Гадамер 1988: 524], о «нашем опыте мира вообще. [Гадамер 1988: 529].
Значение категории опыта в учении Гадамера заключается в том, что
посредством опыта устанавливается связь меж человеком и миром.
Языковой характер опыта отражает особенности этой связи, а все по
нятое в результате опыта выражается в языке. Язык открывает мир,
причем так, что «в языке выражает себя сам мир. [Гадамер 1988: 520].
Утверждаемое Гадамером тождество открывающегося в языке мира
самому бытию позволяет еМу рассматривать язык в качестве фунда
мента гереневтиескоu онтологии, согласно которой все бытие, на
которое направлено внимание человека и которое можно понять, есть
язык [Гадамер 1988: 548].
Универсьный человеческий языковой опыт Гадамер определяет
как «герменевтический •. В его основании - консенсус меж предста
вителями языкового сообщества. Этот консенсус касается не языко
вых средств взаимопонимания, поскольку в таком случае предполага
лось бы уже ничие языка. Он затрагивает то, на чем основывается
возможность совместной жизни людей, нормы того, что считать ис
тинным и правильным, т. е. основополагающие нормы жизни [Гадамер
1988: 500]. Поэтому консенсус нельзя представлять как единичный це
ленаправленный акт. Конституирующее групповой человеческий опыт
взаимопонимание представляет собой «жизненный процесс, в котором
проживается сама жизнь человеческого сообщества. [Гадамер 1988:
516].
В процессе жизни сообщества формируется ир, к взаимопонима
нию по поводу которого стремятся его члены. «Мир есть, таким об-
166

ра
зом
, общее основание, на которое никто не
вступает,
которое
все
п
р
изнают и которое связывает между собой всех тех, кто
разго
вари
ва
ет
друг с другом. Все формы человеческого жизненного
сообщества
с
у
ть
формы сообщества языкового, больше того: они обруют
язык.
[
Т
а
м же]. Язык, благодаря которому формируется интерсубъект
ивно
зн
а
чимый мир, выполняет функцию згово, в процессе которого
до
гов
ариваются о «самих
вещах»
или «по поводу самого дела. [Гадамер
1988
: 447].
3
7
Другими словами, в результате соглашения, выражающе
г
о
результат разговора, вещи получают свою определенность и значи
мость
, а сам язык «становится действительностью •.
Мир, отражаемый в языке, есть, таким обром, выражение со
в
окупного опыта некоего языкового сообщества, который характери
зует его целостное отношение к действительности. Герменевтический
опыт мира Гадамер противопоставляет научному опыту, представляю
щему собой редуцированную форму, производную от первого. Он под
черкивает, что для современной науки понятие опыта исчерпывает
ся ее практическим применением, т. е. технической реализацией науч
ных рработок. Поскольку понятие техники включает в себя понятие
практики, то «компетенция экспертов. подменяет собой также «поли
тический рум. (Послесловие.: 621). Это приводит к тому, что важ
нейшие с точки зрения методологии науки факторы, такие как вклю
ченность науки в общий контекст жизни и обусловленность научного
познания языковым, остаются вне поля зрения. Задача современной
теории познания должна состоять, согласно Гадамеру, в реабилитации
герменевтического опыта как первичного по отношению к научному.
Бовыми структурными составляющими языкового герменевтиче
ского опыта мира являются nоимаие, uстОЛоваuе и nримееие
(аnnЛUаuя) [Гадамер 1988: 364]. Для аниза данных понятий Га
мер использует модель отношений меж читателем и текстом, кото
рая
выступает в качестве прототипа для модели отношений как меж
человеком и миром в целом, так и меж субъектом познания и по
з
наваемым им объектом. С помощью этой модели он покывает, во
первых, неррывность трех составляющих компонентов опыта. Как
он полагает, «истолкование - это не какой-то отдельный акт, задним
числом и при случае дополняющий понимание; понимание всегда ис
толкование, а это последнее соответственно есть эксплицитная форма
понимания. [ ... ] применение есть такая же
часть герменевтического
процесса, как понимание и
истолкование»
[Гадамер
1988: 364-365]. Во
вторых, данная модель позволяет выявить роль языка как
«универ
сальной среды., в которой осуществляются понимание и истолкова-
37 ер. с таким суждением: «Ведь язык В
существе своем есть язык рговора.
[Гадамер 1988: 5161.
167

ние [Гадам
ер 1988: 452], и осознать язык и систему понятий, в которой
осущес
твляется истолкование, в качестве
«внутреннего
структурно
го
момента понимания» [Гадамер 1988: 364]. В-третьих, используемая
модель позволяет установить универсальные характеристики иссле
емых феноменов.
П
оuаuе есть та изначальная установка, с которой человек под
ходит к миру. Смысл понимания заключается в «конкретизации само
го смысла» [Гадамер 1988: 463] из перспективы понимающего. Сущ
ностную особенность понимания составляет его историчность, причем
историчность слеет, согласно Гадамеру, интерпретировать не в смыс
ле исторического детерминизма того толка, что понять нечто можно
только, точно воспроизведя условия его бытия. Смысл обретает кон
кретность лишь в соотнесенности с понимающим «Я», а не за счет ре
конструкции того «Я», которому принадлежало первоначальное смыс
ло-
румение [Гадамер 1988: 547]. Другими словами, любое понимание
всегда с необходимостью осуществляется из положения понимающего,
с учетом его собственного «горизонта понимания».
ГереевтuеСая сuтуацuя, о которой говорит в связи с этим
Гамер, подрумевает два важнейших момента: с одной стороны,
любое понимание всегда совершается в рамках определенного nред
nоuаuя, формируемого языком. Измерение этого пред-понимания
составляют, говоря словами Гадамера, «предрассудки», т. е. представ
ления, убеждения, авторитетные мнения и Т. д., обусловленные при
надлежностью человека к определенному социуму. Эти имплицитные,
часто неосознаваемые предрассудки обруют исторический горизонт,
из пределов которого осуществляется понимание. Понимание всегда
предполагает поэтому' также актуализацию прошлого (традиции, пре
дания), окывающего воздействие на него. «Не существует никакого
горизонта настоящего в себе и для себя, точно так же как не суще
ствует исторических горизонтов, которые нужно было бы обретать.
Напрот
ив, понимание всегда есть процесс слияния этих якобы для
себя
сущих горизонтов» [Гадамер 1988: 362]. Понимание всегда осу
ще
ствляется как взаимодействие прошлого и настоящего, традиции и
современности.
Это
обстоятельство позволило Ж. Грондену охарактеризовать га
дамеро
вскую герменевтику как «феноменологию процесса понимания
(Verstehensgeschehen»>
[Grondin 2001: 15]. Глубинную схему понима
ния соста
вляет диалектика ответа и вопроса, т. е. разговор или диалог,
который
движется по кругу (имеется в ви герменевтический круг,
открыты
й Ф. Шлейермахером и «переоткрытый» М. Хайдеггером) до
тех пор,
пока не будет достигнута
«непосредственность
понимания»
[Гадамер
1988: 465].
С
другой стороны, историчность понимания подразумевает не
168
то
лько то, что существуют исторические предпосылки
пони
мания,
но и
то,
что обнаруживаемый в процессе понимания смысл не
окон
чателе
н,
а
п
одлежит изменениям, уточнениям, дополнению. На это укыв
ают,
в
час
тности, такие феномены, как «временное отстояние» и «истор
ия
в
о
здействий». Смысловой горизонт всегда остается открытым и неис
ч
ерп
аемым для конечного Dаsеiп. х. Деммерлинг говорит в связи с
э
т
им о модели «подвижности» смысла (Bewegtheitsmodell des Sinns) у
Га
дамера [Demmerling 2002: 209]. Открытость смысла предполагает его
ва
риативность в зависимости от точки зрения и начальных условий по
ни
мания. Поэтому «в действительности горизонт настоящего вовлечен
в
процесс непрерывного формирования, поскольку мы должны под
в
ер
г
ать постоянной проверке все наши предрассудки» [Гадамер 1988:
362]. При этом, согласно Гадамеру, нельзя говорить о правильном или
неправильном понимании, скорее следует говорить о «всегда ином»
[Гадамер 1988: 546] понимании. Это объясняется тем, что семантика
зависит от прагматики, т. е. тем, что то или иное смыслосодержание
вкладывается в понимаемое в зависимости от прагматического контек
с
т
а понимания. Понимание всегда «соотнесено с ситуацией» [Гадамер
1988: 462, ср. 364]. Демонстрируя эту закономерность на модели отно
шений меж читателем и текстом, Гадамер пишет: «Понять текст все
г
да означает применить его к нам самим, сознавая, что всякий текст,
хотя его всегда можно понять иначе, остается тем же самым текстом,
лишь раскрывающимся нам по-рному» [Гадамер 1988: 463].
Применение подлежащего пониманию к той конкретной ситуации,
в которой находится понимающий, он характеризует как аnnлшсатuв
ное nонимание. Аппликативное понимание подрумевает актуализа
цию той стороны смысла, которая имеет значимость в текущих усло
виях понимания. Поэтому «понимание оказывается родом действия и
познает себя в качестве такового» [Гадамер 1988: 403]. За счет него
происходят передача и одновременно модификация опыта.
Открытые Гадамером диалогичная структура понимания и его ап
пликативный характер позволили квифицировать его философию
как
«диалогично-прагматический поворот» [Braun 1996: 51], в зна
чительной мере предопределивший дальнейшее рвитие философии
языка.
Важнейшей особенностью понимания, обусловливающей его исто
рический характер, является его «сущностная связь» с языком
[Гада
мер 1988: 453]. В силу этой связи способом осуществления понимания
вы
ступает языковое uстОЛованuе. Именно истолкование
открывает
понимание
как герменевтический феномен,
т. е. как
особый случай
взаимных
отношений между мышлением и языком.
Сущность этого
феномена
выражает понятие «ОНретностъ действ
енно-uсторuе
COZO сознанuя» [Там же]. Гадамеровский тезис о конкретности дей-
169

ственно-ист
орического сознания гласит, что понимание осуществляет
ся
конечным
Dasein в конкретной жизненной ситуации из перспективы
того сформ
ированного языком интерсубъективного мира, к которому
он
принадлежит. В этом тезисе утверждаются неразрывность и взаи
мообусловленность мышления и языка, в силу чего язык с необходи
мостью должен стать объектом теории познания. Согласно Гадамеру,
процесс понимания целиком осуществляется в смысловой сфере, опо
средованной языковым преданием. Поэтому «пытаться исключить из
истолкования свои собственные понятия не только невозможно, но и
бессмысленно. Ведь истолкование как р и значит: ввести в игру свои
собственные
пред-понятия»
[Гадамер 1988: 462, ср. 455].
Язи а уовuе форuроваuя nред-nоuаuя. Поня
тия, которые человек использует при истолковании, часто вообще не
тематизируются в качестве таковых. При этом роль применяемых кон
цептов необычайно велика: с одной стороны, истолкование стремится
вырить в словах сам предмет, с другой - оно всегда обусловлено и
является языком самого толкователя. Осознание данной ситуации осо
бенно важно при анализе научного мышления, где язык в своей первой
ипостаси, т. е. нацеленный на выражение предмета, используется как
инструмент систематического мышления, и при этом часто не учиты
вается, что сам он имеет совсем иную приро.
Сущность языка и языкового мышления составляет его рито
рuостъ, которую Гадамер, так же как Г. Гербер, Ф. М. Мюллер,
Ф. Ницше, Ф. Маутнер и М. Хайдеггер, считает универсальным меха
низмом функционирования языка, а не художественной фигурой ре
чи или техническим приемом, используемым для манипуляции обще
ством. Риторика представляет собой важнейший принцип словообра
зования, она «изначально есть основание языковой жизни и составля
ет ее логическую продуктивность. [Гадамер 1988: 501]. Приро ри
торики выражает переплетенность языка с действием. При этом она
отражает жизненные отношения, внутри которых происходит процесс
естественного образования понятий. Данному своему свойству рито
рика обязана присущей ей «адогматической свободе» [Гадамер 1988:
501], возможность которой обеспечивает метафора.
Метафору Гадамер характеризует как «всеобщий, одновременно
языковой и логический принцип» [Гадамер 1988: 499] и противопо
ставляет ее формализованному, целенаправленному логическому об
разованию понятий. Метафора- это черта «языковой бессознательно
сти» [Гадамер 1988: 471], нерефлективного мышления, языковой игры,
в которой образование понятий происходит не на основе инкции и
абстракции, а за счет прогрессирующего взаимопереноса смыслов, на
основе «акциденций и связок», не всегда подчиняющихся «сущностно
му
порядку»
вещей [Гадамер 1988: 496].
170
