Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика
Подождите немного. Документ загружается.


А. А. Грякалов 290
Произведение всегда располагает пространственно смыслы — это дает возможность ог-
раничить современность в пределах произведения, но произведенность одновременно же
означает извод. Эстетическое не просто ищет свое место, а ищет место мест. В конечном
счете — место места. Порождает принципиальную для современной культуры рефлексию
расположенности и соотнесенности, оформленности-структурации, дискурса и письма.
Странствия эстетического — опространстливание. Этот постоянный поиск места выража-
ет недоверие не только «времени современности», но недоверие времени и временности во-
обще. Поэтому в конце концов в «ситуации пост-модерна» именно эстетическое расшатыва-
ет современность, хотя в виде произведения исходно ее создает.
Странствия эстетического в поисках места оказывается определяющим для сознания на-
чала и конца современности: производство, произведение и произведенность некоторым об-
разом совпадают. От произведенности неотделимо ощущение завершенности — вслед ему
переживание утраты и кризиса.11 Внутри современности дойдет до предела ощущение завер-
шенности: «апокалиптический тон» (Ж. Деррида) не только французской, но и всей «новей-
шей философии» ретроактивно воспроизводит тезисы истока современности, но со знаком
отрицания («философии наперебой хоронят друг друга»). У истоков современности природу
«философской танатологии» Ницше определил как «месть последнего человека» — именно
она, подчеркивает Хайдеггер, является для Ницше основной чертой всего прежнего мышле-
ния. Но критика современности должна быть критикой, а не местью — источник обоснова-
ния необходимо вынести за пределы исторических временных оппозиций.
Речь, таким образом, при обращении к современной культуре идет о том, чтоб опреде-
ленным образом «топологизировать» время — понять его как бы в едином горизонтальном
срезе. Актуализируя временность, В. В. Розанов упредил разговоры о пост-(со)временности
и конце истории. Апокалиптичность не только исторична, но метафизична: не только апока-
липсис нашего времени, но апокалипсис любого и каждого времени («Нужно не столько про-
ецировать вечное на современное, сколько современное понять как проявленную вечность»).
Но в проективном сознании современности «места» для вечности нет. 12 Время — божествен-
ное, а пространство — человеческое (Жорж Батай).
11 «Плавание по неведомым морям, в которое отважились пуститься около 1910 года революционеры
от искусства, не оправдало их авантюристических надежд на удачу. Наоборот, запущенный в те годы
процесс привел к распаду тех категорий, во имя которых он был начат. Более того, пучина новых та-
бу увлекла в свой водоворот все больше «пловцов»; все меньше художников радовались вновь обре-
тенному царству свободы, испытывая желание вернуться к сохранившемуся в воображении, но вряд
ли уже жизнеспособному порядку. Ведь абсолютная свобода в искусстве, как одном из частных видов
деятельности, неизбежно входит в противоречие с постоянным состоянием несвободы в обществе»
(Адорно Т. В. Эстетическая теория. М., 2001. С. 5).
12 «Никто, как кажется, и не догадывается о том, что как тесно многие отвлеченные вопросы связаны
не только с важными интересами человеческой жизни, но и с самим существованием этой жизни. От-
чаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно не осознается. …Логи-
ка мысли и жизни — вообще удел немногих. Но как у легкомысленных писателей могут быть серьез-
ные читатели, так у легкомысленных отцов — дети с глубокою душою, и то, что чувствуют и что делают
теперь единичные люди — я говорю об отчаянии и смерти — то со временем могут почувствовать

Эстетическое — топос — субъективность (тополо-логика культуры) 291
Тут можно было бы сказать о конце «экономики времени». Когда выдернут «стержень веч-
ности», время рассеивается — именно эстетический опыт оказывается первичным опытом
формирования сегодняшней социальности, самым значимым для которой является имен-
но вневременности настоящего. Отмечено формирование совершенно новой формы со-
циальности Империи, создающей как новые формы-силы угнетения и разрушения, так и
новые возможности для сил освобождения.13 Рефлексия времени становится формой отри-
цания — апофатический пафос приобретает свойства катафатики (утверждения в форме
отрицания).14
Человеческий материал в таком случае — именно материал: из такого податливого и тоже
как бы стремящегося к превращению человеческого материала (Ницше напоминает о при-
сутствии истеричности в переживании возвышенного) можно формировать будущее, «пе-
рековывать» и проектировать. Достойно то, что способствует осуществлению проекта.
Абсолютное будущее распластывает настоящее, низводит его до простой подстилки гря-
дущего. Но самое будущее определяется через различение — оно не такое, как то, что есть.
Человеческий материал предстает соответственно как материал — из податливого и тоже как
бы стремящегося к превращению человеческого материала можно формировать будущее,
перековывать и проектировать. Термины технических словарей приобретают политические
и антропологические коннотации. Технизируется политика. Политика становится механиз-
мом изменения мира. Человеческие действия — это передаточные механизмы, объединяю-
щие не способные к самостоятельным действиям отдельные «человеческие детали». Акту-
ализирована передаточная функциональность — транс-миссия. Это машинное сознание:
модерн интересуется только тем, что дано на выходе — машина требует смазки и бесконеч-
ной неизменной работы на предельных режимах. Только власть и идеология — правильная
эксплуатация и ослабляющая понимание и внимание «смазка» — не дают машине-модерну
пойти в разнос.
Модернистская интенсивность становится не только самодостаточной, но и разруши-
тельной. Поэтому важно определить места, в которых целе-сообразно собирается субъек-
тивность. «Какие цели завоевывать? Порядок (в отличие от имевшего место в прошлом,
когда выше всего ценилось сырье и люди) следующий: пространство как таковое, люди
(кадры для работ, доноры органов и пр.), вода и только после нее — сырье и культурные
ценности».15 Топо-логика мысли соотнесена с пространством обитания. Частное «достра-
ивается до сферы» в определенном месте — в нем же возникает эффект сборки субъектив-
ности (М. М. Бахтин).
поколения и народы». Розанов В. В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего
строения науки как цельного знания. СПб., 1994. С. 266.
13 Ср.: «Империя выхолащивает время, лишает историю ее временного измерения и помещает про-
шлое и будущее в рамки собственного этического порядка. Иными словами, Империя представляет
свой порядок как постоянный, извечный и необходимый» (Хардт М., Негри А. Империя. Пер. с англ.
Под общей ред. Г. В. Каменской. М.: Праксис. 2004. С. 26).
14 Батай Ж. Проклятая доля. М., 2003. С. 103.
15 Дэвэджич Я. О метафизике геополитического предприятия «Космет» // Запад или человечество? Ис-
ториософия балканского конфликта. СПб., 2000. С. 55.

А. А. Грякалов 292
Эстетическое маркирует места — задаются топо-логические стратегии сборки. Производс-
тво, произведение и произведенность не просто «следуют друг за другом» в историческом
времени. Они, если угодно, находятся в одном времени. Это историческое, если так можно
выразиться, изначально внеисторично — современность представляется в одном синхрон-
ном срезе. Это совпадения в одной плоскости — распластанное время. Время выстраивает-
ся не по принципу линейной последовательности. Таков опыт прозы Андрея Платонова, где
утопия и антиутопия сняты в мета-утопии. Актуализировано совпадение, схлопывание, са-
модеструкция: «Время существует тем, что оно проходит. Оно есть тем, что оно постоянно не
есть». 16 И именно в эстетическом опыте время было «смещено» задолго до того, как совре-
менность осознает себя как пост-современность. Опыт эстетического продолжает действо-
вать в режиме производства — социума, идеологии, субъективности.
Временные стратегии смыслогенеза исчерпываются. Истаивают до бесплотности, порож-
дая необходимость поствременных и постисторических определений. И именно на этом
фоне могут быть найдены другие стратегии «сборки» смысла — именно топологические, что
предполагает последовательное осуществление топо-графии современности.
4. от культурологии дискурса — к культурологии события
Нужно отличать топологическое понимание события от тех толкований, которые есть в со-
временных вариантах классической метафизики, где события рассмотрены как представления
субстанции. События в таких случаях выступают «репрезентирующими овнешнениями» суб-
станции, субстанция же — «сумма событий».17 Таков во многом и современный культуроло-
гический дискурс: речь идет о проявлениях и представлениях культуры как субстанциального
основания. Именно в отношении к основанию происходит сыгрывание отдельных культуро-
логических дискурсов — это своеобразный аналог этики дискурса: культурология дискурса. 18
Эстетическое «располагает» субъективность в рамках произведения. В «рамках» соби-
рается субъективность — от эстетической аналитики возможен переход к топо-графии, а
от нее к топо-логике. Дело не в смене языка понятий эстетическим языком, когда «языко-
вая метафизика» (Ф. Ницше) сменяется образной эстетической метафизикой.19 Необхо-
димо выявить топо-логику культурной субъективности — то принципиально значимое,
что представлено в событийной целостности, отличной от хронологически ориентиро-
ванных проектов. Отсюда возможен ход к топо-графии и топо-логике — это дает возмож-
ность анализировать субъективность в ее становлении.
16 Хайдеггер М. Что зовется мышлением? Пер. Э. Сагетдинова. М., 2006. С. 127–128.
17 События без субстанции оставались бы лишь «мертвой возможностью», а без событий субстанция
не могла бы «выступить» из самой себя ни в действиях, ни в актах сознания. В этой проекции событие
неотделимо от вопроса об Абсолюте: «Здесь открывает Бог свое господство» — метафизическая точка
зрения доходит до религиозного понимания последних вещей и вопросов (Meixner U. Ereignis und Sub-
anz. Die Metaphysik von Realitat. Paderborn, Munchen, Wien, Zurich. 1997. S. 342).
18 Ibid. S. 364–365.
19 «„Разумность“ языка ох и коварная же старуха. Боюсь, нам не избавиться от Бога, пока жива наша
вера в законы грамматики» (Ницше Ф. Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом // Ницше Ф.
Стихотворения. Философская проза. Пер. с нем. СПб., 1993.С. 555).
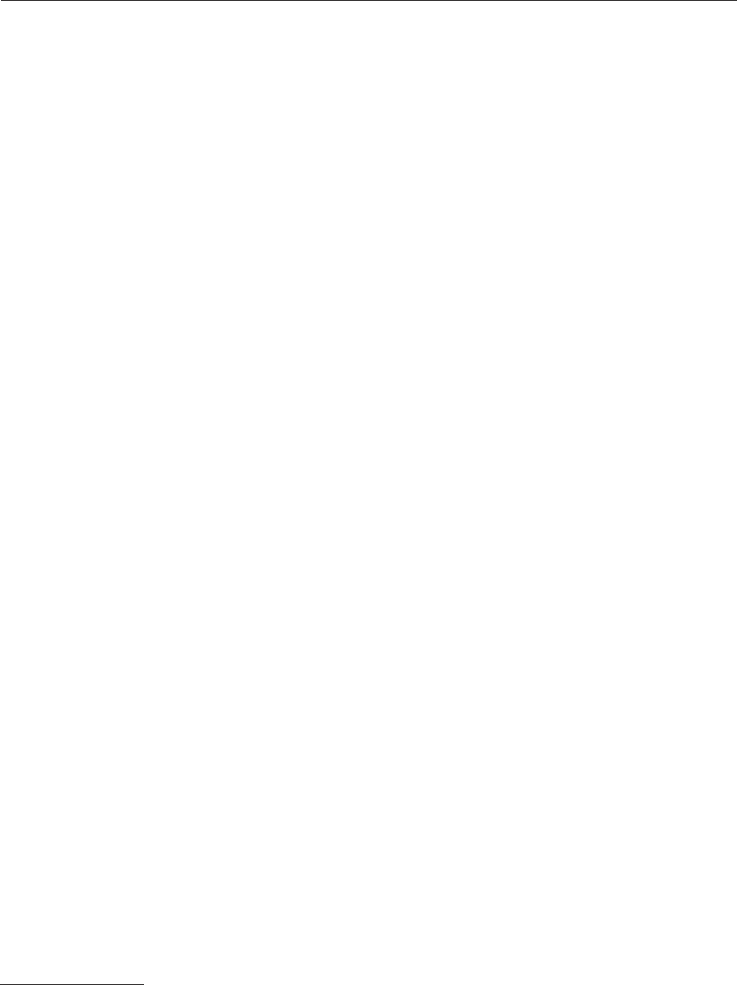
Эстетическое — топос — субъективность (тополо-логика культуры) 293
Речь не идет о (пост)современном аналоге картины мира или транскультуральном («тран-
скультурологическом») монтаже современности. Событие не имеет синтетического характе-
ра. Не сводится к интерсубъективности, хотя содержит интерсубъективные компоненты. Со-
бытие не является актом коммуникации. Более того, оно далеко не всегда может быть понято
в пространстве диалога. Событие («встреча») рождается в эстетическом опыте и рефлексив-
ном постижении таким образом, что опыт и рефлексия постоянно смещаемы с собственных
путей. Представление события одновременно же представление горизонтов истока, но исток
значим топологически — исток намечает логику соотнесений. Это место, с которого начина-
ется «сборка» — не точка детерминации и даже не «антропологическая константа» ранне-
го авангарда. Это исходный порог различения — в отношении к нему выстраивается смысл.
Исходное «первоместо» населено открытыми к изменению — даже к мутации — субъекта-
ми. Субъективность не формируется линейно и континуально — общую линию можно лишь
реконструировать. Мысль культуры размещена в жизненном ландшафте: «русскому фи-
лософствованию, — в самом начале «топологического» видения один из аспектов отметил
Ф. Степун, — ведома, красота рассеянности… посева, творческой во-всем-распыленности,
неподвластности, неприрученности, над-формности, что толкает ее на путь всепоглощающе-
го религиозного творчества».20 Мысль именно топологична, и в этом смысле реалистична.
5. Культурология события и субъективность сообществ
Смысл, ценность и субъективность перемещаются из времени истории в место события.
Необходимо найти другую культурологическую оптику, способную раскрыть и утверждать
новый опыт.
Позиции сорасполагаются как бы в одном временном срезе — актуализировано не исто-
рическое, а логическое. Генезис концепций «вынесен за скобки» — история снята в логике.
Философия истории Дж. Вико и философия сознания Декарта со-располагаются в одном по-
ле с идеями Фердинан да де Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Славой Жижек указывает на фун-
даментальное сходство интерпретационных процедур Маркса и Фрейда в анализе товара и
анализе сновидения. В обоих случаях существует недоверие к фетишистскому представле-
нию о «содержании», пребывающем скрытым за некоей формой; «тайна», раскрываемая пу-
тем такого анализа (Марксова или фрейдовского), — это не содержание, скрытое за формой
(формой товара, формой сновидения), но, напротив, «тайна данной формы самой по себе».21
Аналитика форм жизни, искусства, существования (Ницше и Хайдеггер) дополнена темой
бытия и онтологизации дискурса. Но при всем разбросе и кажущейся несовместимости по-
зиций выстраивается актуальное пространство топо-логической рефлексии культуры.
Воспроизведена общая экономика соотнесенности — в ее логике эстетический опыт ори-
ентирован не на форму идеального или проективного долженствования, а на форму, в ко-
торой он есть. В авангардном эстетическом опыте («футуризм», «поэтизм», «сюрреализм»)
дано ни к чему не сводимое видение мира. Речь идет об автономизации форм социальнос-
ти, идентификации и знания — об автономизации субъективности. Исследовательские
20 Степун Ф. К феноменологии ландшафта // Труды и дни. 1912. № 2. С.52–56.
21 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 19.
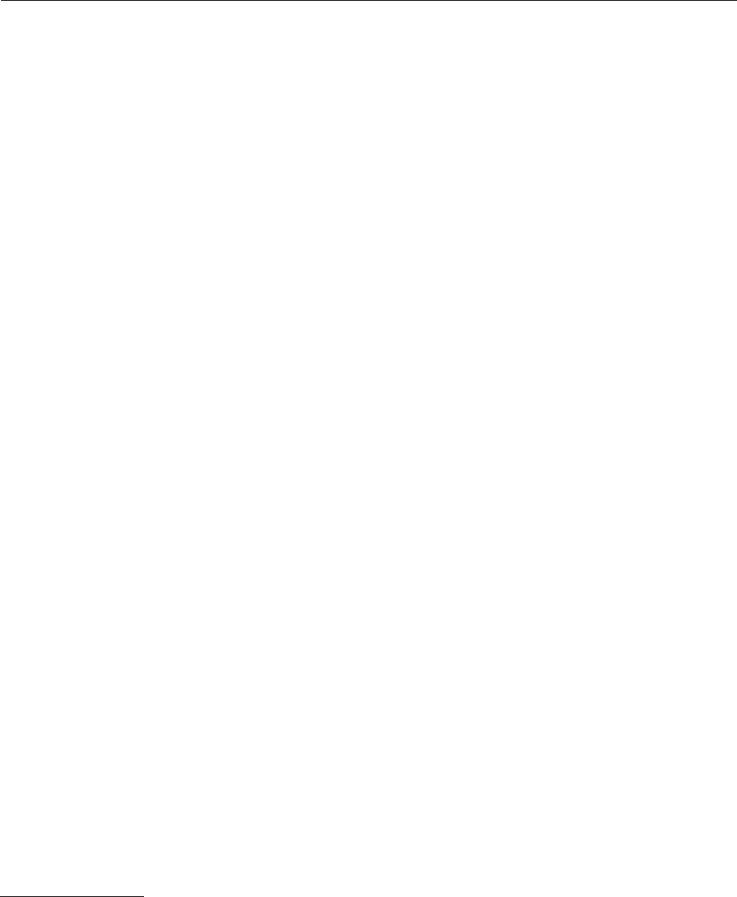
А. А. Грякалов 294
позиции ориентированы на симптоматику, дескрипцию и прогноз экзистенциально-твор-
ческого опыта топологической субъективности культуры.
Современные сообщества имеет дело с собственными стратегиями «сборки». Философия
должна располагать «событийными именованиями своих условий и тем самым делать воз-
можным одновременное, концептуально унифицированное осмысление матемы, поэмы, по-
литического измерения и любовной Двоицы».22 Актуализирован топос — вопрос об истине
оказывается неотделимым от вопроса о смысле со-вместного существования. Включенный в
постоянную соотнесенность с рефлексией эстетический опыт способен сохранять самое фи-
лософское (культурологическое) сообщество — поддерживать институцию. По словам Ниц-
ше, искусство необходимо людям для того, чтобы не умереть в однозначности объяснений.
И для Гегеля чрезвычайно значимо внимание к «эстетике субъекта»: «люди, не понимающие
искусства, а таково большинство наших философов — буквоеды» (Гегель). Можно сказать,
что эстетическое выступает как «сборка» самой институции независимо от того, определяет-
ся ли философия как любомудрие или «творчество концептов» (Ж. Делез и Ф. Гваттари). Со-
бытие доводит философствование до предельного состояния: видоизменяется язык, вынуж-
денный стремиться к собственному пределу для того, чтоб дать возможность появиться в
языковом «разломе» событию.
Мутации субъективности соотнесены именно с утратой мест — с прехождением, наруше-
нием и разрушением границ. Время лишь «показывает», когда и где это произошло. Преемс-
твенность культурной традиции состоит в актуальной соотнесенности и сорасположеннос-
ти смыслов — «традиция имеет структурный характер» (Ян Мукаржовский). Ведь именно с
момента, когда устранен «стержень вечности», времена начинают размножаться с возраста-
ющей скоростью. Только сопротивление места может эту сверхскорость определять и огра-
ничивать.
Поэтому принципиальна для топологической культурологии идея космо-телесной раз-
мерности.23 Взаимосоотнесенность эстезис/логос представляет событие космотелесных и
антропологических интуиций — можно говорить о восстановлении: открывающийся «па-
радоксальный опыт» относится к данностям особого рода, выходя за пределы моделирова-
ния и рефлексии, а также постоянно преодолевая идею определенности чувственной формы.
Именно в идее телесного становления сохранено и удерживается единство имманентности и
трансцендентности («самость нужно искать в теле и душе»).
24 Антропологическая констан-
та культуры обладает размерностью — тело не может разрастаться до бесконечно-экстати-
ческих размеров, как и не может превратиться в точку. Человеческая размерность соотнесе-
на с утратой или сохранением соответствующих мест существования, что принципиально
для отечественной топо-культурологии. В топологической субъективности совмещаются
22 Бадью А. Манифест философии. Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб., 2003. С. 38.
23 «Когда я говорю в своей книге о сущности, об энергии, об имени и т. д., мною везде руководит толь-
ко один реализм, и свою философию имени я с полным правом и окончательной убежденностью мог
бы также назвать и философией тела» (Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произве-
дений. М., 1990. С. 17–18).
24 Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1993. С. 260.

Эстетическое — топос — субъективность (тополо-логика культуры) 295
ценности и произвол — развернута целая серия разнокачественных стремлений.25 Тут идея
сублимации как превращения и соотнесенности может помочь в понимании возможной
общности: «Телесное бытие и существование на земле не иллюзия, но и не единственное бы-
тие и не все бытие. …Воплощение самости вовсе не иллюзия, самость действительно при-
сутствует в своих воплощениях, присутствует в теле, в душе, в сознании в бессознательном;
но в то же время она бесконечно трансцендирует все ступени своего «спуска»», своей имма-
нентности. В идее становления удерживается единство имманентности и трансцендентнос-
ти. Так возможна культура с ее творчеством, ибо культура есть воплощение, имманентное
действие здесь, в теле, в природе, — трансцендентной, над всем стоящей и все превышающей
самости».26 Для религиозного взгляда перевес, естественно, на стороне «бесконечной транс-
цендентности». А в топологической субъективности трансцендентность обращена к симво-
лическому универсуму культуры.
Пространственно ориентированные стратегии смыслогенеза (форма — структура —
текст — дискурс — письмо — событие — топос — субъективность), существуют как бы в
одном времени («син-хрония»). Топо-графия культуры выступает не только как определен-
ность самих данностей и событий — важнее то, что она выступает как организующая харак-
теристика мысли, включая дискурс нации и дискурс гендера.27 Событие как бы просеива-
ется сквозь сеть культурологии дискурса, не удерживаясь в объясняющих категориальных
ячейках. И зачастую оно не воспринято «мы-переживанием» (М. М. Бахтин) современников
− господствующие культурологические «социолекты» пропустили его. Места таких событий
как бы вовсе не зафиксированы, у них отсутствует собственная история. Только задним чис-
лом они могут быть включены в объяснение — поняты только в топологической схеме боль-
шого или предельного формата. Проваливаясь в щели системо-логик современности, собы-
тие оказывается существенным в топологических системо-техниках — именно они имеют
дело с сообществами постглобального мира. Существование события позволяет техники
субъективности — в том числе маргинальные — формировать. События возникают в опре-
деленных местах не за счет проекции идеала, а за счет собственного конституирования, ког-
да часть достраивается до сферы.
В свою очередь место пересоздается схемой субъективности. Она как бы вживается в место,
а место обживается смыслом. Место всегда пересекает линейную логику, сбивает временную
25 «Моцарт у Пушкина капризно-произволен и вместе медиумичен (подслушал „райские песни“); Са-
льери — рационально-основателен, а потому и не „поэтичен“ в своем творчестве.
Свобода произвола, свобода абсолютного выбора получает здесь совсем новое освещение: негативная
свобода получает позитивное значение. И это оттого, что вовсе не исчерпывается выбором между да
и нет, между утверждением и отрицанием свыше данной иерархии ценностей, между добром и злом;
существует свобода выбора между различными и противоположными да, между различными комби-
нациями ценностей, между различными решениями их конфликтов, между различными комбинаци-
ями средств — одним словом, между различными творческими возможностями» (Вышеславцев Б. П.
Этика преображенного эроса. М., 1994. С. 101).
26 Вышеславцев Б. П. Ук. соч. С. 260.
27 Ср.: Vater Rhein und Mutter Wolga. Diskurse um Nation und Gender in Deutschland und Russland / Elisa-
bet Cheuré (Hrsg.). Würzburg, 2005.

А. А. Грякалов 296
устойчивость повторения. Эта событийная аритмия не совпадет с интерсубъективностью
или диалогическим со-бытием. Мысль а-ритмична и способна формировать новую актуаль-
ную оптику. Именно на это обращено внимание в русской формальной школе: концепт ост-
ранения анти-линеен и а-ритмичен.28 Палеоантрополог Я. Я. Рогинский в исследовании ге-
незиса искусства писал об аритмичности человеческой мысли: отвечая на непредвиденные
изменения в окружающей среде, решая иногда в течение кратчайшего промежутка време-
ни новые задачи, человеческий интеллект по самому назначению не может длительно обла-
дать своим собственным ритмом и должен постоянно быть готовым к его нарушению и от-
мене. Но аритмическая деятельность составляет резкий контраст с большей частью функций
организма, подчиняющихся строгим ритмам, будь то деятельность сердца, дыхание, ходь-
ба или чередование бодрствования или сна.29 Своих величайших успехов человеческий ин-
теллект достигает в таких точках сбоя — «срывных ситуациях» — здесь происходит актуа-
лизация видения. Именно внимательная к местам философская оптика способствует сборке
субъективности.
Так культурология события может противостоять «апокалиптическому тону» новей-
шей мысли — постмодернистская исчерпанность преодолевается топологической стратеги-
ей мысли. Актуализирована не завершенность («произведенность») и не линейный процесс
смыслогенеза. Требование эпохи, на это обратил внимание Ж.-Л. Нанси, состоит в развен-
чании или удержании под подозрением «производство смысла». Нужно иметь дело с про-
явлением «самой вещи». Истина понята в событийности и соотносима ни с чем иным, кро-
ме как с нею самой: существует реальное как таковое («истина владеет человеком, он же ею
не обладает».30
В структурной традиции мышления специфика «родовой субъективности» понята именно
через архитектоническую структуру сооружений — через род, способ и стиль архитектурно-
го мышления: «структура архитектуры дает понимание ее пластической сущности».31 Объ-
единяющим началом оказались рекон струированные связи структур мышления с архитек-
турными структурами. Г. Кашнитц подчеркивал надындивидуальный и бессознательный
характер структуры в любой исторический период — соответственно такова складывающа-
яся субъективность. Так топологически ориентированная культурология способна иметь де-
ло с отдельным предметом, вещью, произведением. В перспективе — с месторазвитием, эт-
носом, событием, топосом.
Современность как произведение обладает пространственной обозреваемой ограничен-
ностью.32 В обретаемой при этом энергии «узкого видения» как бы растворяется и преда-
ется остраняющему «забвению» необозримость мира − рассеянный взгляд («метафизика»),
28 Преемственность идет «не от отца к сыну, а от дяди — к племяннику» (Ю. Н. Тынянов). Авто, био и
графио могут переходить друг в друга. Так Ф. М. Достоевский жизнь Гоголя превращает в письмо.
29 Рогинский Я. Я. Об истоках возникновения искусства. М., 1982. С.32.
30 См.: Нанси Ж.-Л. Нехватка ничто // Социо-логос постмодернизма. М., 1996. С. 92.
31 Kaschnitz-Weinberg G. Die Baukun in Kaiserreich // Römiche Kun / Hrsg. von H.Heintze. Rowolt, 1963.
S. 10.
32 «Хорошо сформированный логос должен походить на живое тело» (Деррида Ж. Хора // Деррида Ж.
Эссе об имени. Пер. с фр. Н. Ф. Шматко. СПб., 1998 С. 185).

Эстетическое — топос — субъективность (тополо-логика культуры) 297
стремящийся схватывать целостность, может «проглядеть» предмет, вещь или индивиду-
альный поступок в его топологической уместности. Как возможна философская «оптика»,
способная совмещать планы? — универсальный взгляд на мир затруднен или невозможен —
время «картины мира» в прошлом. В любом случае философия культуры размещена — в собс-
твенном пространстве мысли, социальном ландшафте, в пространстве этноса («мысль имеет
свою окрестность»). Ведь на пределе философия сталкивается с тем, что смысл не совпадает
с бытием. Культура, по словам П. А. Флоренского, висит над бездной. Это тот предел, где не
работает никакое объединяющее («культурологическое») начало. Мир как бы становится не-
обитаемым — перестает быть обителью смысла — по мере того, как отсутствие смысла им
овладевает. Континуальность «философского роста» оказывается под сомнением — устой-
чивость философии придает только то, что каждый шаг-смысл соответствует месту.
Субъективность формируется в определенном месте, как бы рассекающем линейную ло-
гику дискурса и конкретизирующем жизненный опыт в ситуации, где «абсолютного субъек-
та не существует».33 Сообщества не желают быть растворены в общем времени — в топосах
субъективности время течет по-разному. Форма, структура, письмо и событие проецируют
соответствующую субъективность, выстраивается последовательная логика субъективнос-
ти сообществ (формалистский человек — структуралистский человек — человек письма —
человек события — топологическая субъективность культуры). Фигуры совмещают в себе
недоверие «общему» времени — в том числе недоверие универсализму. 34 Культурология не
должна остаться последним проектом модерна в исполнении постмодернизма.
A. Grjakalov
Ehetic — topos — subjeivitiy (topo-logic of culture)
e modern world is born from sense of exaltation. Exaltation possesses absolute — pre-
categorical — characteristics (Kant determined exaltation in the system of categories). Sincerity
which is on the periphery of classical philosophical conscience is now in the center of subjectivity —
the practice of exaltation makes the subject to feel. e rise of ego take place for something which is
higher: ego is exalted for creativity. is is a lyrical manner of feeling but the lyrism is going out of
feeling. e creature of modern world is creating which has inside it the cause, the maturity and the
end at the same time. Due to its homogeneity the subject of culture can be produced — pure desire
of assertion is higher than the real assertion — “Dionysian nature” dominate over real maturity.
33 Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности.
М., 1996. С. 45.
34 Поневоле выстраивается соотнесенность с идеей «абсолютного преступления». Власть исчисления:
«Мы единственные, кто претендует взять под контроль иллюзорное с помощью истины, что является
самой фантастической из иллюзий. Но эта последняя истина, это окончательное решение равносиль-
но уничтожению» (Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Пер. с фр. Н. Суслова. Екатерин-
бург, 2006. С. 44).

А. Г. Машевский
Санкт-Петербургский педагогический колледж № 1 им. Н. А. Некрасова
о Духовности и ее типах
Одной из важнейших в культурологи является проблема дихотомии «культура — приро-
да». Человек рассматривается как существо биологическое, природное, но одновременно жи-
вущее в обществе, следовательно, подчиненное не только естественным, но и социальным
законам. Культура в такой модели видится посредующим звеном между индивидом и со-
циумом. На это указывает, например, А. Я. Гуревич: «Культура… есть также неотъемлемая
функция человека как социального существа, она выступает как бы средним членом меж-
ду человеком и его социальной средой»1. То, что человек «есть общественное животное и по
природе создан к сожитию с другими», мы знаем еще со времен «Никомаховой этики» Арис-
тотеля. Но это определение никак не помогает прояснить вопрос о специфичности антро-
пологического феномена. Действительно, на чем должен быть сделан акцент: на существи-
тельном «животное» (тогда мы ничем, по сути, не отличаемся от братьев меньших) или на
прилагательном «общественное» (но в этом случае желательно было бы прояснить, в чем со-
стоит уникальность человеческой социальности, ведь и животные организованы в опреде-
ленные коллективы, имеющие свою иерархию)? Именно по причине укоренившегося пред-
ставления о биосоциальном дуализме человека идет нескончаемый спор о том, противостоит
ли культура природе, или же является ее закономерной модифицированной ипостасью.
Так Ольга Минченко в статье, посвященной множественности определений понятия «куль-
тура» (указывая на то, что по последним исследованиям их насчитывается более 500) склонна
считать самым общим, не противоречащим ни одному из имеющихся, данное А. А. Радуги-
ным: «Культура охватывает все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни при-
роды, все стороны человеческого бытия»2. Устойчивое противопоставление культуры и при-
роды восходит к Вико и Монтескье. Встав на подобную точку зрения, мы могли бы сказать,
перефразируя известную сентенцию мольеровского персонажа: все, что не культура — при-
рода и все что не природа — культура. Впрочем, как и в случае оппозиции «проза — стихи»
это мало что дает для понимания специфики каждого из противопоставляемых феноменов.
Быть может, именно поэтому постоянно находятся те, кто пытается их отождествить.
Этологи во главе с К. Лоренцом стремятся обосновать теорию, выводящую культурную де-
ятельность человека из инстинктивного поведения животных («свадебные» пляски, строи-
тельство жилищ, забота о потомстве, коллективный «быт» пчелиных и муравьиных коло-
ний3). По мнению сторонников функционального подхода именно биологические (базовые)
1 Гуревич А. Я. Культура Средневековья и историк конца XX века // История мировой культуры. Насле-
дие Запада. М., 1998. С. 226.
2 http://www.countries.ru/library/theory/denitions.htm
3 Некоторые из увлекшихся такими сопоставлениями исследователей доходят до замечательных куль-
турологических неологизмов. Так Александр Зиновьев вместо термина «цивилизация» предпочитает
употреблять изобретенное им словечко «человейник».

О духовности и ее типах 299
потребности в конечном итоге определяют духовные устремления человека. Б. Малиновс-
кий категорически заявляет: «Главный тезис состоит в том, что по своей сути символическое
есть модификация изначально органического, позволяющая преобразовывать физиологи-
ческое побуждение организма в культурно значимые факты»4. Не случайно в интерпрета-
ции ученого природа человека определяется через «констатацию того факта, что все люди
должны есть, спать, размножаться и выводить шлаки из организма вне зависимости от места
проживания и принадлежности к тому или иному типу цивилизации»5. Отличие же челове-
ческого коллектива от стада с точки зрения Малиновского состоит в том, что у животных от-
сутствует механизм фиксации и передачи (причем, межпоколенческой) индивидуально най-
денного — то есть традиция, реализуемая через язык и другие знаковые системы.
Казалось бы, имеем естественный переход, связанный с усложнением и увеличением ком-
муникационных возможностей, переход, позволяющий иммантезировать человеческую
природу, сведя ее к чистой социальности. Причем, Малиновский даже прав, указывая на то,
что «переход от докультурных достижений и способностей животных к стабильной и пос-
тоянной организации деятельности, которую мы называем культурой, отмечен разницей
между привычкой и обычаем»6. Он только не обращает внимания на то обстоятельство, что
обычай столь же фундаментально отличается от привычки, как, скажем, язык трагедии Шек-
спира от рулад канарейки или чириканья воробья7. Привычка — автоматична, она включа-
ет субъекта в навязываемую ему цепь событий. Обычай бытийственен, он не просто задает
порядок свершений, но и предлагает индивиду их смысловое истолкование. Между инстин-
ктивно запрограммированным действием животного и осмысленным поступком человека
лежит пропасть, называемая свободой выбора. Последняя, конечно, вовсе не предполагает
независимости субъекта от биологических и социальных детерминаций. Пока ты живешь в
природе и обществе, невозможно игнорировать их законы. Свобода выбора выражает лишь
рефлексию8 по поводу действия этих законов, а значит возможность оценки, взгляда как бы
4 Малиновский Б. Научная теория культуры. М. 2005. С. 112.
5 Малиновский Б. Указ. ист. С. 69.
6 Там же. С. 114.
7 По этому поводу Б. Ф. Поршнев писал: «… человеческие языковые знаки в своей основе определяют-
ся как антагонисты тем, какие воспринимаются или подаются любым животным. <…> Только челове-
ческие языковые знаки благодаря отсутствию сходства и сопричастности с обозначаемым предметом
обладают свойством вступать в отношения связи и оппозиции между собой, в том числе в отноше-
ния сходства (т. е. фонетического и морфологического подобия) и причастности (синтаксис). Ничего
подобного синтаксису нет в том, что ошибочно называют «языком» пчел, дельфинов или каких угод-
но животных.
В человеческом языке противоборство синонимии и антонимии (в расширенном смысле этих слов)
приводит к универсальному явлению оппозиции: слова в предложениях, как и фонемы в словах, со-
четаются посредством противопоставления» (Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (пробле-
мы палеопсихологии). М., 1974.).
8 На принципиальное значение рефлексии как определяющего свойства человека указывал еще Тейяр
де Шарден: «Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании — иначе оно бы
давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних построений, которая
