Заика В.И. Очерки по теории художественной речи
Подождите немного. Документ загружается.


Очерки по теории художественной речи_
202
странство и форму представляемых предметов (полоса земли и кли-
нок). Такое воплощение поэтического предмета мы называем опо-
средованным изображением. В примерах М. А. Петровского изо-
бражение иллюстрируется высказываниями с переносными значе-
ниями, но мы термином «опосредованный» обозначаем не только
иносказательное воплощение поэтического предмета посредством
иного предмета, но и всякое изображение,
обеспечиваемое планом
содержания (см. ниже об опосредованном изображении подробно).
Итак, опосредованным воплощением поэтического предмета
мы называем воплощение посредством плана содержания еди-
ницы. Воплощение же, названное выше экземплификацией, ору-
дийной конкретизацией, иконической реализацией, – изображение
совершенно иного рода. Это такой вид экспрессии, когда воплоще-
ние не опосредуется планом содержания, а осуществляется непо-
средственно планом выражения. Такое непосредственное изобра-
жение обеспечивает наглядное представление поэтического пред-
мета планом выражения, словесной формой. Обеспечивает ощути-
мо, чем-то напоминая то, что воплощается. Различные свойства
экспонента в каком-то смысле становятся «плотью» воплощаемого
поэтического предмета, то есть словесным бытием предмета, о ко-
тором писал М. А. Петровский.
К
такого рода изображению относится, конечно, явление оно-
матопеи, а также спондеи и пиррихии – утяжеляющие или облег-
чающие фрагмент строки, что может коррелировать с называемыми
в этой части строки реалиями. Например, пиррихий в первой стопе
второй строки цитированного выше фрагмента И бухался в воздух,
и падал в ознобе, И располагался росой
на полях [Б. Пастернак. Из
поэмы (два отрывка)] за счет скопления и «зависания» безударных
слогов изображает плавность, особенно на фоне нормативной пре-
дыдущей строки. Разнообразные орудийные конкретизации, обес-
печиваемые метро-ритмическим уровнем, замечательно описаны в
упоминаемой работе А. К. Жолковского [Жолковский, Щеглов
1996].
Кроме «номенклатурных» выразительных средств (к которым
мы обратимся
ниже), экземплификация может осуществляться са-
мыми разными способами. В рассказе Е. Замятина немногочислен-
ные реплики персонажа Обертышева существенно отличаются от
реплик иных персонажей тем, что имеют повторы: Ну что же: как

Глава 4 Изображение _
203
жена? Как жена? Как жена?<…> Сами знаете, как теперь все,
сами знаете, сами знаете…<…> (Замятин. Пещера). У такого
оформления прямой речи явная иконическая функция: непосредст-
венно придать признак «пещерности», повторами имитируя эхо,
свойственное пещерам [Заика 1993: 96].
В окончании стихотворения А. Вознесенского апокопой непо-
средственно изображается предмет описания (лень):
<…>Лень ужинать
идти, лень выключить "трень-брень".
И лень окончить мысль: сегодня воскресень... <…>
(Вознесенский. «Благословенна лень…»)
Хотя нежелание окончить мысль денотировано, неоконченным
является слово: налицо «буквальное» изображение лени.
Во всех упомянутых случаях план выражения в том или ином
отношении подобен реалии. Отношения между формой и изобра-
жаемым предметом – отношения
сходства, поэтому такое непо-
средственное представление предмета подобно метафоре. Полага-
ем, что для этого типа непосредственного изображения наиболее
удобным из применяемых является термин экземплификация.
Широко распространена в поэзии графическая экземплифика-
ция. Особенностям такой формы в поэтической речи Ю. В. Казарин
посвятил отдельную главу [Казарин 1999]. Отмечая особенности эк-
земплификации посредством графики в
современной поэзии, Н. А.
Фатеева констатирует: «Установка на семиотизацию стиховых яв-
лений сигнализирует о том, что вновь начинает доминировать ори-
ентация на письменную форму текста без своей структурно-
графической формы текст не существует и не запоминается» [Фа-
теева 2001].
В анализе рассказа «Дракон» (п. 3.3) отмечалась заметная
двойственность, неясность, неопределенность значений слов
в ин-
тродуктивном пейзаже. Здесь мы имеем дело с непосредственным
изображением экземплификативного типа: подчеркнутая неопреде-
ленность семантики слов совершенно очевидно подобна неясности,
туманности изображаемого мира.
Непосредственное представление предмета может быть и со-
вершенно иного рода. При обсуждении отличных от денотации спо-
собов представления смысла Ж. Женетт комментирует размышле-
ния Ж. П
. Сартра о том, что сокращение «ХVII» (при обозначении
века) означает эпоху классицизма, а «портшез» (предмет мебели,

Очерки по теории художественной речи_
204
характерный для эпохи классицизма) ее эвоцирует, то есть вызы-
вает в сознании воспринимающего.
В таком противопоставлении Ж. Женетт усматривает близость
Ж. П. Сартра к Г. Фреге, его известному противопоставлению двух
знаков: Венера и Утренняя звезда. Ж. Женетт считает, что у одного
референта (Венера у Г. Фреге, классицизм у Ж. П.
Сартра) имеется
по два знака. Ничего, что у Г. Фреге это два слова – Утренняя звез-
да и Венера, а у Ж. П. Сартра слово и вещь. Общее у них то, что и
Моргенштерн (перифраза) и портшез (предмет) эвоцируют рефе-
рент не прямо, а с заметными околичностями [Женетт 1998: 418]. В
концепции Ж. Женетта
термином эвокация обозначается более
широкий круг явлений, в целом противопоставленный денотации и
связанный с любым неконвенциональным представлением предме-
та, представлением с околичностями, а экземплификация, рассмот-
ренная выше, является частным случаем эвокации.
В отечественной филологии термин эвокация употребляется
редко. К. Кожевникова подчеркивает этим термином специфич-
ность воплощения художественного замысла, которое обеспечивает
эстетическое переживание (и в этом ее употребление подобно упот-
реблению Ж. Женетта) и далее рассматривает эвокационные
приемы: реферативный, репродуктивный и комментирующий
[Кожевникова 1970: 57].
Нам представляется, что термином эвокация было бы удобно
называть разновидность непосредственного изображения, в процес-
се которого предмет воплощается не посредством подобия экспо-
нента воплощаемому предмету, а в силу
смежности вербального
средства воплощаемому предмету. Поясним сказанное на приме-
ре.
Уважаемые граждáне – и тоже гражданочки, которые вон
там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер
воспоминаний. Я вас, граждáне, спрашиваю: желательно вам при-
соединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, про-
шу вас сидеть
безо всяких смехов и не мешать предыдущему ора-
тору. Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоми-
нания напротив всего остального есть действительно горький
факт, <…> (Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыги-
ну).

Глава 4 Изображение _
205
Этот интродуктивный фрагмент рассказа обеспечивает совер-
шенно определенное впечатление о повествующем субъекте ка-
честв. Причем создается оно, конечно, не опосредованным изобра-
жением – описанием его внешности, происхождения или обстоя-
тельств жизни, а непосредственно, благодаря многочисленным не-
правильностям речи. Надо отметить, что подобного рода эвокатив-
ное изображение не является постоянным и равномерным.
Б. А. Ларин в анализе рассказа М. Шолохова «Судьба человека» об-
ратил внимание на специфику использования прямой речи второго
рассказчика (Соколова): отступления от литературной нормы (диа-
лектизмы, профессионализмы, арготизмы) «вводятся автором толь-
ко в промежуточно-проходные звенья рассказа, только для контра-
стной тени», а в «светлых» речевых эпизодах этих элементов нет
,
там конструкции прозрачны» [Ларин 1974: 272].
Иллюстрации, приведенные в п. 2.2 (отцовские чувства Креч-
мара в описании взросления дочери, интерес Ильи Борисовича в
подробностях портрета одного из встреченных им людей) показы-
вают именно эвокацию. Релевантность кванта, названная релевант-
ностью «второго» и «третьего» рода, – тоже обеспечение изображе-
ния эвокацией.
Прямая речь персонажа может создаваться
таким образом, что-
бы обеспечивать изображение не только постоянных признаков
персонажа (социальных, национальных), но и его эмоционального
состояния. Когда речь является признаком персонажа (отрывистая –
признаком взволнованности, четкая – сосредоточенности или по-
давленности), мы имеем дело с непосредственным изображением
метонимического типа. В этом случае ассоциации по смежности,
обеспечивающие формирование образа, подобны тому, как
упоми-
нание о кимоно или саке может вызвать «японские» ассоциации, а
упоминание об арбалете – «средневековые».
В п. 2.1 приводился пример из стихотворения Тимура Кибиро-
ва, в котором специфические кванты обеспечивают приобщение не-
явных знаний к воссозданию целостной картины. Такое отношение
между вербализованными предметами и явлениями и привлечен-
ными к воссозданию образа
личностными знаниями является эвока-
цией. Необычайно точно это явление представлено в стихотворении
В. Гандельсмана:

Очерки по теории художественной речи_
206
В шортах мальчик, в платьице в горошек
девочка, подробный есть кустарник
за спиной, где столько вьется мошек
и топорщит крылья жук-пожарник,
но они не вышли, как не вышел
(по другой причине) наш фотограф,
нет во рту оскомины от вишен,
родственников нет и их восторгов,
мы стоим в раю, который
тут же
разлетелся со щелчком по разным
сторонам, и разве нам не хуже,
нынешним, чем глупым тем и праздным,
вот безделье, залитое солнцем,
мальчика полуулыбка и капризный
взгляд сестры, и светотени кольца
разбегаются вокруг их жизней.
(Гандельсман. Разрыв пространства)
Все, что описано В. Гандельсманом, как «не вышедшее» на фо-
тографии, подобно неназванному в словесном произведении. «Рай»
(мы стоим в раю) может быть воссоздан с большей или меньшей
степенью подробности, зависящей от личного опыта восприни-
мающего. Щелчком, с которым разлетается по разным сторонам
рай, здесь изображается переключение внимания с мира,
который
был во время фотографирования – с его светом, звуком, запахом,
температурой, фотографом, родственниками, растениями и насеко-
мыми, на мир, в котором пребывает повествующий субъект, разгля-
дывающий фотографию.
При эвокации представление возникает так же, как возникает
представление о сфере общения при восприятии стилистически
маркированной единицы. Способность слов «вызывать представ-
ление о тех
“регистрах”, к которым они принадлежат», C. Ульман
назвал «эвокативными обертонами» [Ульман 1980: 238].
Ж. Женетт тоже понимает эвоцирование как действие через ас-
социацию по смежности, но при этом выделяет также и метоними-
ческую экземплификацию, приводя в пример собственно интертек-
стуальную связь: слово, встреченное в произведении одного писа-
теля, эвоцирует другого писателя [Женетт 1998, II: 426]. Подробнее
разновидности эвокации и экземплификации мы рассмотрим ниже.

Глава 4 Изображение _
207
Итак, используя в качестве общего термин непосредственное
изображение, мы терминами экземплификация и эвокация бу-
дем обозначать два различных типа непосредственного воплощения
предмета. Эти термины удобны как внутренней формой (экзем-
плификация связана с наглядностью, конкретностью, иллюстратив-
ностью, а эвокация такой конкретности лишена), так и возможно-
стью глагольных (экземплифицировать / эвоцировать), адъективных
(экземплификативный
/ эвокативный) и адвербиальных (экземпли-
фикативно / эвокативно) дериватов.
Теперь проясним особенности опосредованного изображения,
которое определено выше как всякое изображение, обеспечиваемое
планом содержания.
Если типы непосредственного изображения названы терминами
эвокативный и экземплификативный, то для обозначения типов
опосредованного изображения мы используем термин денотация.
Из вышеприведенных цитат видно, что денотацией называется нор-
мальное использование
языковых единиц без экземплификативных
и эвокативных усложнений (ср. термин денотативная семиотика у
Л. Ельмслева выше, в п. 3.2). Фактически денотацией именуется та-
кой тип экспрессии, который у М. А. Петровского назван выраже-
нием (вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои).
Но иносказания голубая зеркальная дорога и полоса дамасской
саб-
ли, определенные как изображение, также обеспечивают воплоще-
ние смысла посредством предметных значений, только эти значения
переносные. Конечно, денотация в этих случаях совершенно раз-
ная. Используя термины из [Общая риторика 1986], назовем эти ти-
пы автологической (использование единиц в прямом значении)
денотацией и металогической (различные типы переносных упот-
реблений) денотацией.
Дальнейшая детализация этой типологии –
это выделение метафорической и метонимической денотации, изо-
бразительный эффект которых хорошо изучен.
Ограничение понятия опосредованного изображения только
иносказаниями не позволяет подчеркнуть принципиальную разницу
между речью художественной и практической. Если изобразитель-
ность металогической денотации (посредством переносных значе-
ний) является вполне очевидной: она обеспечивает изображение
блестящего вдалеке изгиба реки
посредством называния ее клин-

Очерки по теории художественной речи_
208
ком, то изобразительность автологической денотации (у
М. А. Петровского названной выражением) требует уточнения.
Автологическую денотацию мы считаем изображением на сле-
дующих основаниях. Хотя отнюдь не всякое слово в художествен-
ной речи употреблено в переносном значении, мы учитываем то,
что среди автологических употреблений известная часть – стершие-
ся метафоры и метонимии, а
другая известная часть с утраченной
внутренней формой в поэтическом тексте ставится в условия реге-
нерации этой внутренней формы.
В п. 3.2 мы сформулировали положение о принципиальных от-
личиях знака поэтического от знака практического: смещение гра-
ницы план содержания / план выражения и пр. На этом основании
мы считаем употребление «собственно автологических» единиц так
или иначе регулируемым общей поэтической тенденцией «видеть»
в знаке его прошлое. Эта тенденция нашла у нас выражение в об-
щем положении об «изображении языка». Также нужно отметить,
что та информация в знаке, которая названа семиоимпликационной,
изображает объект эвокативно. Хотя активизируемые квантом (реа-
лией, действием, ситуацией и пр.) неявные личностные знания
не
идентичны семиоимпликационному в знаке, активизация квантом
«зоны молчания» также является эвокативной.
Поскольку всякое слово изображаемо, оно, уже в силу своего
участия в репрезентации художественной модели, и эвоцирует язык,
являясь всегда его частью в процессе процедуры, названной
Р. Якобсоном селекцией, и эвоцирует повествующего субъекта, ос-
тавляющего в этой процедуре селекции
свой след. Поэтому мы ут-
верждаем, что семантика всякой поэтической единицы – семантика
изображающая, даже если создаваемое ею изображение не вполне
очевидно.
Если типы непосредственного и опосредованного изображения
спроецировать на типы знаков, то можно установить соответствие
эвокации знаку-симптому, экземплификации – знаку иконическому,
а денотации – знаку-сигналу или собственно языковому знаку.
Представим соотношение
описанных понятий схематически:
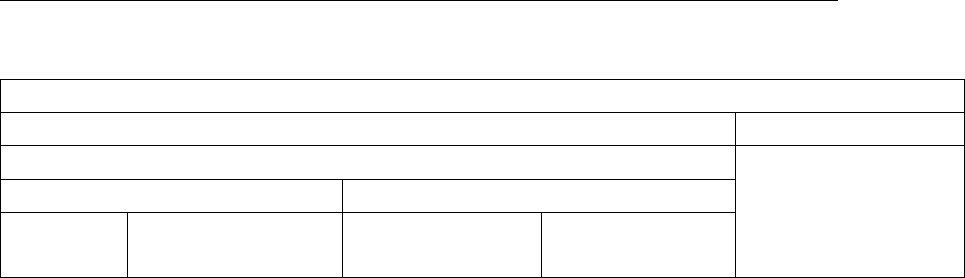
Глава 4 Изображение _
209
Схема 5
Экспрессия
Художественная речь Практическая речь
Изображение Выражение
непосредственное опосредованное
Эвокация Экземплифика-
ция
Металогическая
денотация
Автологическая
денотация
Как видно из схемы, наиболее близко к выражению в практи-
ческой реализации языка опосредованное изображение, в частности
автологическая денотация, наиболее далека – эвокация. Но при этом
именно автологическая денотация неизбежно эвокативна. Внутри
металогической денотации слева следовало бы поместить метафо-
рическую, а справа метонимическую денотацию уже потому, что,
как сказано выше, экземплификация
изображает сходством, а эво-
кация – смежностью. Возможно, взаимодействие типов изображе-
ния лучше было бы представлено окружностью, радиальные сег-
менты которой располагались бы так: экземплификация // денота-
ция металогическая метафорическая // денотация металогическая
метонимическая // денотация автологическая // эвокация, которая
граничит с экземплификацией, и т. д. Границы между сегментами
размыты.
4.3. Особенности изображения в стихотворном
тексте
То, что передается о предмете изобразительно, тем самым со-
ставляя «словесное бытие предмета», не может быть передано по-
средством выражения. Существенность изображения как процесса,
имеющего специфический непереформулируемый результат, под-
черкивается у М. А. Петровского характерным глаголом: «В выра-
жении предмет «исполняется» [Петровский 1927: 61].
Об изображении (в данном случае экземплификативном)
Ю. М
. Лотман писал так: «…языковые и иконические знаки распо-
лагаются во взаимно-не-до-конца-переводимых пространствах.
Следовательно, здесь возникает та неполная детерминированность
соответствий, которая создает условия для приращения смысла»

Очерки по теории художественной речи_
210
[Лотман 1996: 97]. Еще менее «переводимо» то, что передается эво-
кативно.
С учетом отмеченной непереводимости рассмотрим особенно-
сти изображения в стихотворении Николая Заболоцкого «Гроза».
Этот текст был нами рассмотрен в аспекте таких нарушений метри-
ческой схемы, которые являются актуализирующими [Заи-
ка, Гиржева 2000]. Поскольку проблема семантизации будет рас-
смотрена нами в следующей главе
, мы воздержимся от развернуто-
го описания изобразительных эффектов и будем указывать только
на возможности, создаваемые изобразительным рядом текста, отме-
чая «типы изобразительности».
Стихотворение написано пятистопным анапестом, это его за-
данность, метр. Данностью же является ритм с разного рода нару-
шениями метрической структуры: перебоями, сверхсхемными уда-
рениями, пиррихиями.
| 1| Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
| 2| Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
| 3| Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
| 4| Низко стелется птица, пролетев над моей головой.
| 5| Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
| 6| Человеческий шорох травы, вещий холод на темной
руке,
| 7| Эту молнию мысли и медлительное появленье
| 8| Первых дальних громов – первых слов на родном языке.
| 9| Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
|10| И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
|11| Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
|12| Увидавшие небо стада.
|13| А она над
водой, над просторами круга земного,
|14| Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы.
|15| И, играя громами, в белом облаке катится слово,
|16| И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.
Ввиду подробности рассмотрения будем приводить каждую
строку отдельно.
|1| Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
В |1| задается норма стихотворения – пятистопный анапест (16
слогов). (В |2| и |3| эта норма поддерживается). Все слова, кроме по-
следнего слова строки зарница, являются металогией, опосредован-
но изображают световое предвиденье грозы, приписывают ей свой-
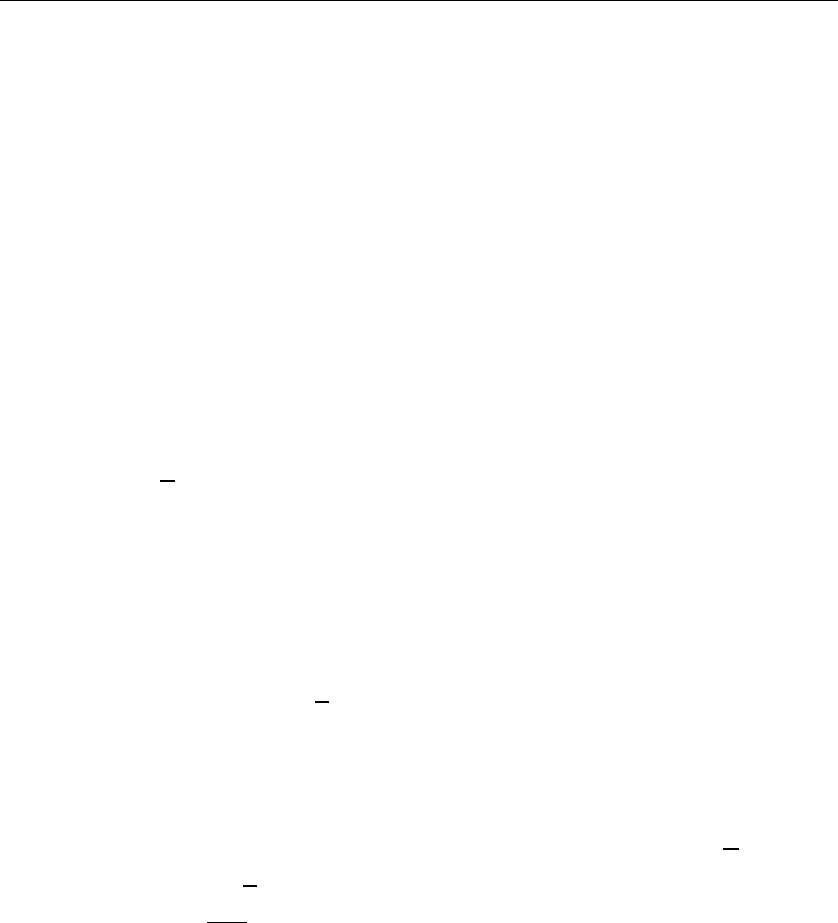
Глава 4 Изображение _
211
ства живого существа, а наличие четырех дрожащих [р] в строке эк-
земплифицирует неявную дрожь от далеких громов.
|2| Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Опосредованно в строке изображено одно действие тени (гла-
голами с автологической семантикой, но со стершейся образно-
стью). То, что это действие последовательно
представлено тремя
семантически близкими глаголами, экземплифицирует интенсив-
ность этого действия. Близость и слиянность тени с травой экзем-
плифицирована также заметным обилием смычного [л]: [л’л], [л’л],
[л]. Кроме того единство травы и тени подчеркнуто и инициаль-
ным повтором [т] в именах, обрамляющих глаголы. Сверхсхемное
ударение те
нь, утяжеляющее стопу, здесь является экземплифика-
цией денотированного объекта.
|3| Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
В безличном предложении эвоцирован субъект (ср. в следую-
щей строке на него указывает местоимение). Приближение волны
облаков денотировано без непосредственных усложнений. Сверх-
схемное ударение в не
бе, являющееся малозаметным нарушением
метра, изобразительно: утяжеленностью стопы оно эвоцирует со-
стояние субъекта, изображая неровность его дыхания.
|4| Низко стелется птица, пролетев над моей головой.
Изобразительность сверхсхемного ударения ни
зко идентична
предыдущему в не
бе, но усилена созданным цезурным наращением
перебоем птица,
который также эвокативно изображает субъекта,
но уже не дыхание, а, скорее, испуг от внезапной близости птицы.
Кроме того, перебой усиливает преждевременное рифменное сов-
падение шевелится – птица и создает некую «избыточность» обо-
рота-обстоятельства. Этот первый перебой в последней строке
строфы можно расценивать и как проспекцию аномалий. О семан-
тике ритма
в случаях отсутствия аномалий мы скажем ниже, в
Гл. 5.
|5| Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Эта строка имеет избыточную длину (20 слогов). Изобразитель-
ность этой избыточности состоит в следующем. Время, непосредст-
венно предшествующее грозе, названо двумя перифразами с указа-
тельными местоимениями. Хотя краткость референта денотирована
только во второй
перифразе, восторг тоже не предполагает про-
должительности (‘подъем радостных чувств’), избыточная длина
