Заика В.И. Очерки по теории художественной речи
Подождите немного. Документ загружается.


Очерки по теории художественной речи_
272
ний» [Жирмунский 1977: 21]. Противопоставляя представлению,
уводя от зрительности и вообще чувственности к интеллектуально-
сти, Г. Г. Шпет называет образ схемой: «Образность речи не есть,
скажем, зрительная красочность, или контурность, или что-либо
подобное, не есть вообще зрительная или иная чувственная форма, а
есть некоторая схема, предметно коррелятивная воображению, как
акту не
чувственному, а умственному» [Шпет 1989: 451].
М. Н. Эпштейн полагает, что в словесном образе наглядность
имеет место, хотя в меньшей степени, чем в образе пластическом:
«Даже используя конкретно-изобразительную лексику, поэт, как
правило, воссоздает не зримый облик предмета, а его смысловые,
ассоциативные связи» [ЛитЭС 1987: 253]. Здесь необходимо сразу
уточнить: создаются не его (образа)
ассоциативные связи, а образ
создается «на пересечении» ассоциативных связей, порождаемых
вербальными средствами. Для иллюстрации не вполне наглядности
М. Н. Эпштейн приводит пример из Блока «И перья страуса скло-
ненные / В моем качаются мозгу, / И очи синие бездонные / Цветут
на дальнем берегу», в котором «нарушена природная, пластически
вообразимая связь вещей. Поэтический образ
здесь слагается из са-
мых разнокачественых элементов [...] которые несводимы в единст-
во зрительно представимого» [ЛитЭС 1987: 253] (Именно такого
рода примеры обычно приводят противники того, чтобы нагляд-
ность считать определяющим признаком образа. См. [Выгот-
ский 1987: 44], [Шпет 1989: 450].) Конечно, зрительно нельзя пред-
ставить совокупную картину, но представление составных элемен-
тов (перья, берег, глаза) – это
существенное условие построения об-
раза, слова ведь называют конкретные предметы. В приведенном
примере художественный образ рождается из противоречий нагляд-
ного представления как процесса.
Н. И. Жинкин термин наглядность переопределил и связывал
его, как и Г. Г. Шпет, не с чувственностью, но с интеллектуально-
стью: «В силу многозначности символ выступает как загадка
, нико-
гда не разгадываемая, а только загадываемая. В этом многосмыслии
заключается и созерцательность образа, его так называемая на-
глядность, которая состоит, конечно, не в том, что изображается
вещь видимая и слышимая. И о вещи можно говорить ненаглядно и
наглядно об идее. И уж конечно, наглядность образа состоит не в
том,
что всплывают наглядные представления, которые обычно как

Глава 5 План содержания _
273
раз и не всплывают, а только в том, что образная речь подразуме-
вает многое, а не отвлекает одно и только одно какое-либо значе-
ние. Всякий пример, иллюстрация, экземплификация – наглядны
поэтому же. Здесь ум ставится в условия, при которых он сам дол-
жен из многосмысленного экземпляра вынуть абстрактное искомое
и
тем понять связь отдельного значения со всем клубком смысла»
[Жинкин 1927: 29]. Называя образ абстрактным искомым,
Н. И. Жинкин подчеркивал его отнюдь не чувственный характер. И
далее делается очень важное уточнение: «…образ нагляден тем, что
в одних руках держит узел понимания, держит единство сложного
аккомпанемента смысла» [Жинкин 1927: 30].
Нам понятна настойчивость, с которой
философы подчеркивали
ненаглядность образа, уводя научную категорию от обыденного по-
нятия, определяемого лексическим значением. Мы согласны с не-
обходимостью преодолеть упрощенное определение образа и как
совокупности различной чувственности: зрительной, слуховой и
проч. Если использование понятия образ с «наглядным» основани-
ем вынуждает квалифицировать тексты типа
И день вставал оплеснясь
В помойной жаркой
яме
В кругах пожарных лестниц
Ушибленный дровами
(Пастернак. «Как не в своем рассудке…»)
или
И на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона
(Мандельштам. Ласточка)
как «безобразные», то следует переопределить понятие образ.
Прочность «наглядного» понимания образа, которое бытует в
работах по художественной речи, определяется нерешенностью со-
отношения чувственного
и интеллектуального в образе или неопре-
деленностью понятия образ в оппозиции чувствен-
ное / интеллектуальное.
Причиной отказа от понятия образ в исследованиях художест-
венной речи начала прошлого века и замена его различными соче-
таниями, например художественное впечатление у
Л. С. Выготского, было то, что в термине «образ» семантика на-
глядности была подавляющей
. Мы уже отмечали, что Г. Г. Шпет

Очерки по теории художественной речи_
274
настойчиво устранял чувственность из образа как понятия поэтики:
«В особенности важно, что образ – не представление […], – и пото-
му психологизм из поэтики как учения о внутренней поэтической
форме, об образе, должен быть искореняем с такою же твердостью,
с какою он искореняется из логики» [Шпет 1989: 447]. Однако такое
искоренение осуществляли и психологи. А
. Н. Леонтьев «уводил»
образ от трактовки его как чувственного. Подчеркивая, что образ
основывается на чувственном: «свойства объекта «обнаруживают-
ся в специфических эффектах, зависящих от свойств рецептирую-
щих органов субъекта. В этом смысле они являются модальными,
т. е. субъективными» [Леонтьев 1983: 256] и образ – «узел модаль-
ных ощущений» [Леонтьев 1983: 259]. А. Н. Леонтьев подчеркивал
интеллектуальность образа: «…у человека мир приобретает в об-
разе пятое квазиизмерение. … Это переход через чувственность за
границу чувственности, через сенсорные модальности к амодально-
му миру. Предметный мир выступает в значении, т. е. картина мира
наполняется значениями [Леонтьев 1983: 260]. Он делает важней-
ший вывод: «Становление образа мира у человека есть его переход
за
пределы “непосредственно чувственной картинки”. Образ не кар-
тинка. […] Чувственные модальности образуют обязательную фак-
туру образа мира. Но фактура образа неравнозначна самому образу!
Так в живописи за мазками масла просвечивает предмет. […] Фак-
тура, материал снимается образом, а не уничтожается в нем» [Леон-
тьев 1983: 261]. Здесь существенным является выделение фактуры
образа и собственно
образа.
Интеллектуальность, «разумность» эстетического наслаждения
подчеркивал и Г. Г. Шпет: «…эстетическое наслаждение, фундиро-
ванное игрою поэтических образов, можно рассматривать как ана-
логон интеллектуального наслаждения. Красота не есть истина, и
истина не есть красота, но одно есть аналогон другого»
[Шпет 1989: 452]
60
.
Однако в практике современного функционирования понятия
образ интеллектуальность – неочевидный его признак. Данные
60
Для Г. Г. Шпета эстетическое наслаждение не только чувственно, но и «разумно», разу-
мом постигаемо: «пока содержание не "утверждено", колебания эстетического "настрое-
ния" не прекращаются. Его завершение не есть, однако, полное прекращение улавливаю-
щих смысл качаний разума или интеллигибельных интуиций» [Шпет 1989: 460]. Эстетиче-
ское «ощущение» простирается к смыслу, и там разум радуется. Разумеется, иного от фи-
лософа ждать нельзя.
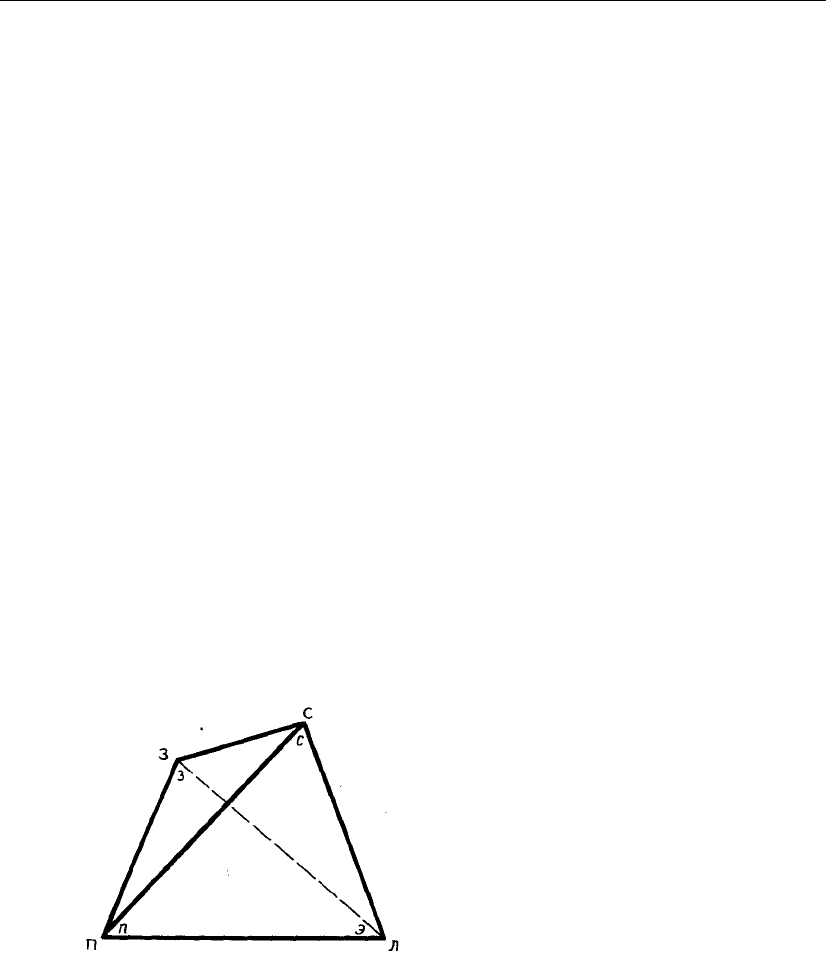
Глава 5 План содержания _
275
обыденного употребления дают Н. Д. Арутюновой основание ут-
верждать, что «…образ не может быть объектом понимания» (мож-
но понять человека, но нельзя понять образ человека) [Арутюно-
ва 1990: 72]. Но это не оттого, что образ «ближе к миру, чем к
смыслу» [Арутюнова 1990 :73], а потому, что образ и есть понима-
ние. Иметь образ
объекта – это значит понимать этот объект. Вме-
сте с тем, если интеллектуальность констатируется только исследо-
вателями, то чувственность закреплена употреблениями: образы яр-
кие: чувственные, наглядные, зримые и проч.
Нам представляется, что в рассуждениях о художественном об-
разе следует четко определить «статус» чувственного и интеллекту-
ального в образе, или, по А. Н
. Леонтьеву, «фактуры образа» и
«собственно образа».
Заслуживает внимания модель Ф. Е. Василюка, который в рам-
ках психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева, переос-
мысливая его понятие чувственная ткань, предлагает модель об-
раза сознания в виде психосемиотического тетраэдра:
Схема 9
П - предметное содержание образа; п – чувственная ткань предметного со-
держания; Л – личностный смысл; э – (эмоция) – чувственная ткань личност-
ного смысла; 3 – значение; з – чувственная ткань значения; С – слово или
знак; с – чувственная ткань слова (знака) [Василюк 1993: 8].
«В конкретном живом образе сознания каждая из этих инстан-
ций имеет своего представителя, которые образуют как бы нервные
центры, узлы образа. Внешний мир представлен предметным со-
держанием, мир культуры – значением, представителем языка явля-
ется слово, а внутреннего мира – личностный смысл. Каждый из уз-
лов образа – пограничная сущность, одной стороной обращенная
к
объективно существующей реальности (внешнего мира, внутренне-
го мира, языка и культуры), а другой – к непосредственной субъек-
тивности; все же вместе эти узлы задают объем, в котором пульси-

Очерки по теории художественной речи_
276
рует и переливается живой образ» [Василюк 1993: 7]. Но в модели
структура образа имеет не четыре составляющие, соответствующие
четырем вершинам, а пять компонентов. Пятая составляющая – это
чувственная ткань. Пространство тетраэдра заполняет чувственная
ткань, расположенная между этими четырьмя инстанциями –
звеньями образа. Объем заполнен «живой, текучей, дышащей плаз-
мой чувственной ткани. Чувственная ткань живет
и движется в че-
тырехмерном пространстве образа, задаваемом силовыми полями
его узлов, и, будучи единой, она вблизи каждого из полюсов как бы
уплотняется, концентрируется, приобретает характерные для данно-
го измерения черты» [Василюк 1993: 9]. Эти 4 звена – направляю-
щие, так как, «…будучи представителями мира культуры, внешнего
мира, внутреннего мира личности и мира языка в
психическом об-
разе, являются своего рода магнитными полюсами образа. В каж-
дый момент силовые линии внутренней динамики образа могут на-
правляться по преимуществу к одному из этих полюсов, и возни-
кающим при этом доминированием одного из динамических изме-
рений создается особый тип образа)» [Василюк 1993: 18].
Всякая модель определяется потребностями исследования. И
психосемиотический тетраэдр «является удобной картой для ориен-
тации в разнообразных психических нарушениях» [Васи-
люк 1993: 16], доминирование той или иной вершины свидетельст-
вует об этих нарушениях. Поэтому модель эта ни в коей мере не из-
быточна, если понимать естественнонаучную, каузальную (а не гу-
манитарную, телеологическую) ее установку: познать (а всякая мо-
дель создается
для познания) объект с его причинной стороны.
Рассмотренная замечательная естественнонаучная модель никак
не может быть взята в качестве рабочей для гуманитарного иссле-
дования, потому что она в нашем понимании несемиотична (истол-
ковать семиотически ее можно только так: означающее – тетраэдр,
означаемое – диагноз). Однако эта модель прекрасно описывает то,
что можно было
бы назвать чувственным коррелятом художествен-
ного образа (фактурой, по А. Н. Леонтьеву). Компоненты тетраэдра
показывают силы, которые конфигурируют чувственную ткань, оп-
ределяющую характер создаваемого автором образа, который, в
свою очередь, определяет характер чувственной ткани у читателя.
Модель Ф. Е. Василюка показывает, что зрительность – только
одна из сил, которые обеспечивают чувственный образ
, одна из

Глава 5 План содержания _
277
важнейших (наряду со слуховой, тактильной), но только в одном из
планов – предметном. Зрительная составляющая этого плана может
преобладать, а может преобладать слуховая, в конце концов, вос-
создание образа может вызывать тошноту, при восприятии может
выделяться слюна и пр.
В рассмотренной модели существенным является то, что среди
сил, конфигурирующих чувственную ткань,
не только наглядные
составляющие, но и составляющие культурные, личностные и вер-
бальные (пусть и понятые только как акустико-артикуляционные).
Для нас также важно, что элемент образа «чувственная ткань» соот-
носится с человеческим телом, а это подтверждает значительность
неявного (невербализуемого) знания, очень часто знания тела (см.
Гл. 2), в построении образа: …Кожа тоже
ведь человек, / с впечат-
леньями, голосами. / Для нее музыкально касанье, / как для слуха –
поет соловей (Вознесенский. Тишины!). Знание этого типа можно
назвать немым свидетельством тела, которое, не будучи явно выра-
женным, делает образ убедительным.
Итак, то, что описано в модели Ф. Е. Василюка, относится к об-
разу как к «чувственно
вообразимому предмету», то есть в нашем
понимании – референту, и является коррелятом образа художест-
венного как способа.
Обычно представление об образе наиболее концентрированно
выражено в общей модели образа, которую принято называть
структурой образа (совокупностью компонентов в определенных
отношениях).
В лингвистических концепциях (а также литературоведческих
со значительной лингвистической составляющей) образ рассматри-
вается как
семиотическая сущность. Например, в цитируемой вы-
ше работе Н. Д. Арутюновой, а также в статье И. Б. Роднянской об-
раз – это знак, «т. е. средство смысловой коммуникации а рамках
данной культуры», в онтологическом аспекте образ – «факт идеаль-
ного бытия», «схематический объект, надстроенный над своим ма-
териальным субстратом» [ЛЭТиП 2003: 670]. Г. Г.
Шпет полагал,
что «как словесная форма вообще, отличающая один ряд слов от
другого, "образ" (точно так же, как и "термин") должен обладать
тою же принципиально структурою, что и слово вообще»
[Шпет 1989: 443].

Очерки по теории художественной речи_
278
Структура образа в семиотике также двухэлеметна: смысл
(концепт) и денотат. Низшим уровнем (означающим) словесного
образа считаются звуки речи, более высоким – семантический
[Иванов 1976: 140]. Двучленность понимается и как то, что позво-
ляет образу «стягивать разнородные явления в одно целое. Образ –
это пересечение предметного и смыслового рядов, словесно-
обозначенного и подразумеваемого. В
образе один предмет явлен
через другой, происходит их взаимопревращение» [Ли-
тЭС 1987: 252].
Вариантом двучленной модели фактически является трехком-
понентная модель С. М. Мезенина, которая восходит к концепции
А. А. Потебни и применяется при анализе тропов: «Любая форма
образности (речевой и неречевой) имеет в своей логической струк-
туре три компонента: 1) референт, коррелирующий с
гносеологи-
ческим понятием предмета отражения; 2) агент, то есть предмет в
отраженном виде; 3) основание, то есть общие свойства предмета и
его отражения, обязательное наличие которых вытекает из принци-
па подобия» [Мезенин 1983: 54]. Здесь, кроме двух предметов, из
которых «один явлен через другой», есть связка. Модель, упоми-
наемая И. В. Арнольд: «В лингвистике
установилось четырехком-
понентное членение образа на предмет сравнения, носитель образа,
основание сравнения, слова, выражающие отношение сравнения
[Арнольд 1982: 89], является также изводом модели А. А. Потебни.
Основание сравнения – это то, что А. А. Потебня называл tertium
comporationis, а Г. Г. Шпет – fundamentum comparationis. Впрочем,
при характеристике образа в его отличии от метафоры выделение
связки не столь
очевидно. Так, Н. Д. Арутюнова отмечает, что в об-
разе «не обособились потенциальные стороны знакового отношения
и, естественно, не выделилась связка», которая разделяет форму и
содержание [Арутюнова 1990: 72].
Для дальнейшей характеристики образа следует остановиться
на концепции А. А. Потебни, которая так или иначе учитывается во
многих моделях. Как известно, А. А.
Потебня эстраполировал
структуру слова на структуру произведения: «…в поэтическом […]
произведении есть те же самые стихии, что и в слове: содержание
(или идея), соответствующее чувственному образу или развитому
из него понятию; внутренняя форма, образ, который указывает на
это содержание, соответствующий представлению [...], и, наконец,

Глава 5 План содержания _
279
внешняя форма, в которой объективируется художественный образ»
[Потебня 1976: 179]. Учитывая некоторые иные контексты экспли-
кации А. А. Потебней этой трехэлементной модели произведения
(слова), уточним особенности элементов:
1) содержание (идея) – в п. 5.1, мы цитировали инвертирован-
ный вариант: идея (содержание), мысли, которые возбуждаются в
читателе;
2) внутренняя форма, образ, представление идеи;
3) внешняя форма
, не звук, а слово («единство звука и значе-
ния») [Потебня 1976: 178], слова к тому же «проникнуты мыслью»
[Потебня 1976: 179].
Обратим внимание, что наиболее противоречиво эксплицируе-
мый второй компонент в цитате дан двояко: «внутренняя форма,
образ». Здесь «образ» как приложение, т. е. как определение терми-
на «внутренняя форма». Известны иные определения внутренней
формы
: как знака, или как представления. И хотя А. А. Потебня не-
однократно замечал, что представление – это не чувственный образ,
(см. примечание в [Потебня 1976: 600]), этот термин провоцировал
толкователей и последователей на понимание об-
раза / знака / представления / внутренней формы как «картин-
ки»; и такая трактовка была, конечно, редукцией потебнианского
понятия
образ. Впрочем, в работе «Мысль и язык» достаточно кон-
текстов употребления слова «образ», которые дают повод для тако-
го понимания. Анализируя сравнение Чистая вода течет в чистой
речке, а верная любовь в верном сердце (перевод стихотворного
фрагмента), А. А. Потебня пишет: «Образ текучей светлой воды
(насколько он выражен в словах
) не может быть однако внешнею
формою выражения мыслей о любви» [то есть идеи, В.З.] [Потеб-
ня 1976: 178). Или ниже: «чтобы сравнение воды с любовью для нас
имело эстетическое значение, нужно, чтобы образ, который прежде
всего дается сознанию, заключал в себе указание на выражаемую
им мысль» [Потебня 1976: 178]. (На этом часто и
останавливались
последователи А. А. Потебни).
Итак, образ – это «картинка», которая сразу возникает в созна-
нии при восприятии словесного ряда. Но А. А. Потебня указывает,
что кроме этой «картинки», должно быть еще иное: «Законная связь
между водою и любовью установится тогда, когда дана будет воз-
можность, не делая скачка, перейти от одной
из этих мыслей к дру-

Очерки по теории художественной речи_
280
гой, когда, например, в сознании будет находиться связь света, как
одного из эпитетов воды, с любовью. Это третье звено, связующее
два первых, есть именно внутренняя форма» [Потебня 1976: 178].
Здесь очень важно обстоятельство «не делая скачка». Этим обстоя-
тельством А. А. Потебня подчеркивает отличие речи поэтической
от практической речи, в которой связь
между означающим и озна-
чающим есть скачок в силу принципиальной произвольности язы-
кового знака (см. выше п. 3.2.3).
Уточним «нумерацию» звеньев (элементов) схемы трехкомпо-
нентной модели, обращая внимание на термин внутренняя форма,
понимание которой Ф. П. Филин справедливо навал ключом к кон-
цепции А. А. Потебни [Филин 1971]. Внутренняя форма, названная
в последней
цитате «третьим звеном», находится в приведенной
выше схеме во втором компоненте вместе с образом. «Внутренняя
форма, образ» мы читаем как ‘внутренняя форма, то есть образ’:
образ – это не отдельный компонент, а свойство внутренней
формы. Внутренняя форма – это не форма образа-картинки. Быть
связующим, быть внутренней формой – это роль, функция образа.
Когда «возможность, не делая скачка, перейти…» не дана или не
может быть реализована, тогда высказывание понимается букваль-
но и получается нелепость [Потебня 1976: 179].
Эстетичность состоит не в наличии образа-картинки текущей
воды, не в самой картинке, ее «содержимом», а в том, что этот об-
раз-картинка есть связующее между внешней формой и
идеей. Это
своего рода схема пути возникновения мысли о любви. Эстетич-
ность и состоит в этом «[…]не делая скачка, перейти […]», в самом
переходе, в его длительности. Именно в той самой длительности, на
которой настаивал В. Б. Шкловский, критиковавший
А. А. Потебню.
Слова «образ», «внутренняя форма», «связующее», «представ-
ление», «знак» – этот
синонимический ряд у А. А. Потебни есть
свидетельство поиска адекватного именования функции. «Знак есть
для нас то, что указывает на значение. То, что мы называем в слове
представлением, в поэтическом произведении образом, может быть
названо знаком значения» [Потебня 1976: 543]. Знак здесь как
сложный указатель пути мысли, которая создает значение, как план
действий
воображения (ср. ниже определение образа Г. Г. Шпетом,
во многом не соглашавшимся с А. А. Потебней).

Глава 5 План содержания _
281
Попутно уточним принципиальное различие рассматриваемого
срединного элемента в слове и художественном произведении.
Внутренняя форма слова – знание о том, почему так назван пред-
мет, мотивировка названия, рассматриваемая либо как элемент пла-
на содержания, либо как элемент плана выражения (см. выше
п. 3.2). Этот элемент не является «стабильным внутренним призна-
ком», как утверждается
в [Пищальникова 2005: 105], а, как отмеча-
лось выше, будучи коммуникативно избыточным, часто утрачива-
ется
61
. Но, будучи избыточным в принципе, это знание все же ис-
пользуется как средство для повышения выразительности высказы-
вания. Внутренняя форма в какой-то мере препятствует сделать
«скачок» от внешней формы к значению, о котором писал
А. А. Потебня. Скачок этот получается неким шагом с шарканьем.
И эта тяжеловесность, утяжеленность является
, подчеркнем, сред-
ством выражения значения.
Такова роль внутренней формы в фразеологизмах. Именование
«стреляным воробьем» опытного человека не подразумевает перье-
вого покрытия последнего, но всякий подтвердит извилистость пути
мысли к значению «человек», которая не может пока миновать ор-
нитологической ассоциации. В художественном произведении (если
не брать в расчет дидактическую литературу) образ
как схема дей-
ствия сознания по выстраиванию мысли является собственно
целью. Мы хотим подчеркнуть, что, принимая продуктивную ана-
логию «слово – художественное произведение», которую предло-
жил А. А. Потебня для объяснения понятия «внутренняя форма», не
следует забывать принципиального различия внутренней формы
(образа) слова и образа художественного произведения как внут-
ренней формы
.
В приведенной выше схеме 9 образы составляют план содер-
жания, образуют стихию содержания, и эта стихия – самое сущест-
венное в процессе восприятия текста. (Это подобно схеме
А. А. Потебни, в которой срединным элементом является образ,
представление идеи, внутренняя форма).
Нужно подчеркнуть, что в понимании А. А. Потебни художест-
венный образ – это
прежде всего отношение, а редукция потебниан-
ского понятия художественный образ к чувственному представле-
61
На утрату этого элемента часто указывал и А. А. Потебня: «…третий элемент слова, то,
что мы называем представлением, с течением времени исчезает» [Потебня 1976: 535].
