Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., История печати. Антология. Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

В Шлезвиге-Гольштинии, при возникновении конфликта с Данией, развилась
пестрая патриотическая печать. Основывались многочисленные газеты, энергично
отстаивавшие права герцогств. Подкупающей теплотой чувства отличались
«Rendsburger», «Eckernförder», «Oldesloer» и «Sonderburger Wochenblatt»; впоследствии
они нашли поддержку со стороны «Scheswig-Holsteinische Zeitung» в Альтоне,
«Wandsbecker Intelligenzblatt», «Itzehoer Wochenblatt» и «Lyna» в Гадерслебене.
«Rendsburger Wochenzeitung» с 1813 г. сделалась официозом шлезвиг-гольштинской
партии. Руководящим органом был «Itzehoer Wochenblatt», имевший до 7000 годовых
абонентов. Сплошь и рядом на ее столбцах выступали сами ее читатели, что дало повод
сказать современному историку этих лет: «Буржуазия непосредственно руководила
газетой. Всякий писал, как умел». Это обстоятельство объясняет часто опрометчивые и
подчас не глубокие суждения газеты. Особое положение занимал издававшийся в 1830—
1848 гг. Теодором Ольсгаузеном «Kieler Korrespondenzblatt», ратовавший, в противовес
остальным патриотическим листкам, против соединения обоих герцогств, но в вопросах
внутреннего государственного устройства соглашавшийся с большинством остальных.
Старый «Altonaer Merkur» избегал затрагивать спорные вопросы; он был озабочен
сохранением своего значения как общедоступной немецкой газеты. Курс, принятый
датским правительством, защищался газетами «Dannevirke» в Шлез-виге, «Flensburger
Zeitung» и «Freia» в Апенраде и «Preetzer Wochenblatt». Для обуздания шлезвиг-
гольштинской прессы датские власти прогрессивно усиливали цензурный контроль;
наконец, было опубликовано постановление, в силу которого рукописи, превосходившие
по своим размерам установленную норму, должны были поступать в предварительную
цензуру в двух экземплярах, из которых один оставался у цензора.
После отложения обоих герцогств от Дании в 1864 г. местная печать совершенно
преобразилась и получила преимущественно либеральный, частью свободомыслящий,
характер. Влиятельнейшей газетой сделалась уже упомянутая в главе о германской печа-
ти «Kieler Zeitung»; крупнейший выпуск имеют: внепартийные «Kieler Neueste
Nachrichten» и «Nordische Kurier» и социал-демократическая «Schleswig-Holsteinische
Volkszeitung». На датском языке издаются еще газеты в Апенраде («Hejmdal»), в
Фленсбурге («Flensborg Avis»), Гадерслебене («Haderslev Dagblad»), в Нордбурге
(«Nordburg Avis») и в Сонденбурге («Dybbotposten»).
Журнальная литература в Дании возникла сравнительно поздно и следовала образцу
английских еженедельников. Первый журнал, как и первая газета, издавался здесь на
немецком языке. Он был основан достопочтенным Элиасом Шлегелем в 1745 г. под на-
званием «Der Fremde» («Чужестранец»). Он давал точную и ясную картину нравов и
идейных веяний в копенгагенском обществе. Несколько позже вышел первый
еженедельник на датском языке — «Danske Spectator» в издании Риса. В 1758 г. появился
второй немецкий еженедельник — «Der nordische Aufseher» Ф. Крамера, три года спустя
уступивший место «Den patriotiske Tilskner». Наибольшим влиянием пользовался,
однако, журнал «Minerva», под редакцией талантливого и ловкого X. Г. Прама,
издававшегося в 1785-1791 гг. В настоящее время главнейшими еженедельниками Дании
являются «Illusteret Tidende» (с 1859 г.) и «Illusteret Familiejournal» (с 1877 г.).
Неожиданно богатая газетная и журнальная литература развилась в принадлежащей
к Дании, оторванной от всего мира Исландии. До 1795 г. здесь не существовало еще ни
одного журнального предприятия, а в наши дни остров с 80 000 жителей имеет не менее
18 печатных газет и 12 периодических журналов разнообразного содержания; кроме
того, семь газет и два журнала издаются в Америке на исландском языке. Даже приняв во
внимание, что в Исландии нет ни одного неграмотного, эти цифры следует признать
весьма высокими. Основанная в 1795 г. первая исландская газета «Minisverd tidindi»
выходила до 1804 г. Из наиболее влиятельных и распространенных периодических
изданий отметим «Sagnablöd» (1816—1826), «Skirnir» (с 1827 г.), «Frjettir fra Islandi» (с
1873 г.) и «Timarit» (с 1880 г.). Весьма благотворную роль сыграла «Klausturpostur»,
предназначенная для низших слоев населения и выходившая под редакцией главного
судьи Магнуса Стефенсона в 1818—1827 гг. Прогрессивной танденцией отличаются
журналы «Fjölnir» (1835—1847) «Ny fjelagsrit» (1841—1873). В последнем сотрудничал
Ион Сигурсзон, «величайший исландец столетия», создатель нового правопорядка в
Исландии. Важнейшими из политических газет являются в настоящее время «Tjodolfur»,
еженедельный листок, и выходящий два раза в неделю «Jasfold».
Нельзя обойти молчанием и единственную газету Гренландии. Она возникла по
инициативе инспектора южной Гренландии, доктора Г. Ринка, много потрудившегося на
благо своей родины. Доктор Ринк познакомился в Готаабе с гренландцем Ларсом Мелле-
ром, обратившим его внимание своими редкими дарованиями и недюжинным
природным умом. В 1861 г. доктор Ринк взял Мелле-ра с собой в Копенгаген, чтобы дать
ему возможность получить некоторое образование. Во время своего двухлетнего
пребывания в столице, Меллер обучался литографскому делу и книгопечатанию, а когда
он вернулся на родину, для него на средства «Королевского датского общества
торговли» была оборудована типография с ручным печатным станком и типографским
прессом. Несколько месяцев спустя Меллер отпечатал в этой типографии первый номер
первой гренландской газеты «Altuagagdliutit» (что означает приблизительно «Нечто,
достойное чтения»). Листок выходит на гренландском наречии; содержание его касается
почти исключительно местной жизни и доставляется из статей и писем обывателей, в
которых они рассказывают о своих личных делах, отрицают дурные привычки и нравы и
пр. Так, однажды на ее столбцах появилась грозная филиппика против молодых
гренландок за то, что они кокетничают с заезжими датскими моряками. Датские власти
предоставляют листку свободу писать обо всем, что ему угодно; каждый выпуск газеты
содержит 2500 экземпляров. Предварительной подписки не существует, номера
раздаются бесплатно; издержки на издание несет датская администрация; все расходы,
включая жалованье редактору и наборщику, до сих пор не превышают 500 марок в год.
Отметим при этом то обстоятельство, что отдельные номера не высылаются за границу;
высылаются лишь полные комплекты. Часто случается, что для доставки Меллерской
газеты из места издания в другую гренландскую колонию она перевозится сначала
пароходом «Королевского общества торговли» в Данию, а оттуда на другом пароходе
обратно в Гренландию на место назначения.
Начало развития газетной литературы в Швеции относится приблизительно к тому
же времени, как и в Дании, но уже в 1809 г., благодаря совершившемуся перевороту в
государственном управлении, шведская печать получила неограниченную свободу.
Первая шведская газета вышла в Стокгольме в 1645 г. под названием «Ordinäri Post-
Tijdender», но в 1834—1844 гг. она называлась «Sveriges Statstidning», а ныне называется
«Post-och Inrickes-Tidningar». Она является официальным органом королевства. В списке
ее редакторов попадаются имена выдающихся деятелей страны: в 1844—1817 гг. ее
редактировал П. А. Вальмарк, блестящий диалектик и прекрасный знаток скандинавской
литературы, а с 1865 по 1877 r. E. В. А. Стриндберг, известный поэт-лирик. Первой
газетой с самостоятельной политической программой была «Anmärkaren», с 1816 г.
выходившая в Стокгольме в издании Ф. Цедерборга; продолжением ее явилась «Argus»,
выходившая с 1825 по 1835 г. Вторая либеральная газета, основанная в 1830 г. Ларсом
Гиерта, «Aftonbladet» скоро сделалась самой распространенной газетой королевства.
Гиерта был выдающийся юрист, умевший давать всем вопросам дня ясную и точную
постановку. Он энергично боролся с недостатками современного ему общества,
господствовавшими в нем предрассудками, отстаивал идею необходимости народного
просвещения, свободы совести и хозяйственной самостоятельности. Благодаря этому
газета получила в короткое время широкое распространение и сохранила его и по уходе
Гиерта из ее редакции в 1852 г. И в наши дни «Aftonbladet» остается значительнейшей
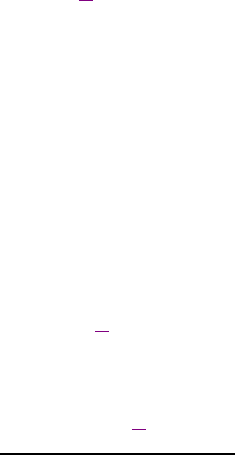
вечерней газетой Швеции; она выходит ежедневно в количестве 30 000 экземпляров и
имеет еще добавочный полунедельный выпуск в 150 000 экземпляров. К либеральным
листкам можно отнести еще основанный в 1767 г. «Dagligt Allehanda», часто, однако,
колеблющийся в своих политических убеждениях; к консервативным — «Svenska
Minerva», выходившая в 1830—1848 гг. под руководством прекрасного стилиста И. К.
Аскелефа, и «Svenska Biet». Но эти газеты продержались лишь короткое время. В
новейшее время широкий круг читателей приобрели «Dagens Nyheter», «Svenska
Dagbladet», «Stockholms-Tidninge» и свободомыслящая народническая «Dagen». Из
провинциальных городов значительную газетную литературу встречаем в городах
Гетеборг («Goteborgsposten», «Morgenposten», «Vecko Tidning», «Aftonblad» и др.), в
Гелъзинборге («Oeresundposten», «Dagblad» и др.), в Карлскроне («Bleckinge Längs
Tidning», «Bleckingen Kurien» и т.д.) и, наконец, в Наркепинге.
Журнальная литература в Швеции, так же как и в Дании, ведет свое начало от
еженедельников для нравственного чтения. «Sedolerande Mercurius», выходивший в 1730
—1731 гг., и «Then Svänska Argus», издававшийся Олофом фон Далином в 1732—1734
гг., представляют собой первые попытки этого рода. Первый критический журнал
«Svenske Merkurius» был основан в 1757 г. X. X. Гьервелем. Но он существовал лишь до
1761 г. Значительно более крупный успех выпал на долю журнала- «Stockholmsposten»,
выходившего тридцать пять лет подряд под редакцией поэтов Генрика Кельгрена и
Карла Кельгрена. Он подготовил почву для «легкой, оригинальной и остроумной, тесно
связанной с общественной жизнью, литературы». В XIX в. журнальная литература
достигла богатого расцвета. Новые журналы ополчались на подражание французским об-
разцам, очень распространенным тогда в Швеции, и выдвигали в жизнь
националистические принципы. Таковы «Polyphem», «Phosphorus», «Iduna», «Sven»,
«Frey» и др. Руководящими литературно-художественными журналами являются в наше
время «Ny Svensk Tidskrift» (основанный в 1865 г.) и «Nordisk Tidkrift» (основанный в
1788 г.). Из иллюстрированных журналов отметим лишь «Ny Illustrerad Tidning» и
«Söndags-Nisse». В общей сложности в Швеции при пятимиллионном населении выходят
всего 400 газет и журналов.
В связи со шведской газетной литературой следует остановиться и на финляндской,
так как последняя находится в более тесном родстве с идейным миром Швеции, чем
России
41
, — ведь до 1809 г. Финляндия принадлежала к Швеции, и большинство
финляндских газет выходит на шведском языке. Первая шведская газета в Финляндии,
«Abo Tidning», появилась в 1771 г., к ней присоединились «Finlands Allmäna Tidning» (с
1830 г.), «Helsingfors Morgenbladet» (основанная в 1832 г. и до 1837 г. выходившая под
редакцией знаменитого поэта И. Л. Рунеберга), «Helsingfors Dagblad» (с 1862 г.),
«Hufvudstadsbladet» (с 1864 г.), «Finland» (с 1885 г.) и др. Первая финляндская газета
была издана в 1820 г. Р. фон Бекером; впоследствии «Uusi Suometar» в Гельсингфорсе
сделалась руководящим органом финляндской прессы; наряду с ней выходили «Itä-
Suomen Sanomat» и «Wiipurin Sanomat» и еженедельник «Finsk Tidskrift». При
политических волнениях, происходивших в Финляндии с 1900 г., развитию журнализма
в стране наносились тягчайшие удары. Генерал-губернатор установил строгие цензурные
порядки, многочисленные газеты приостанавливались частью на целые месяцы, частью и
навсегда
42
. Только после восстановления в октябре 1905 г. прежнего государственного
строя финляндцы стали ожидать наступления новой эры для своей прессы.
Норвежская пресса развивалась весьма медленно. Хотя уже в 1763 г. в
Христиании
43
была основана газета «Nordske Intelligenz -Seddeler», но до 1814 г. во всей
4
4
4
4
4
4
стране существовало лишь пять периодических изданий, среди которых не было ни
одного с ясно выраженным политическим характером. Только когда в тридцатых годах
XIX столетия ненависть к Швеции все более укреплялась в сознании общества, возникло
мало-помалу семнадцать политических газет. Ярко националистические газеты,
постоянно стоявшие в оппозиции к королю, числили в своих рядах: существующую и по-
ныне «Morgenbladet», основанную еще в 1819 г., но ставшую действительно
политической газетой лишь в начале 1830-х гг., далее «Granskeeren» (1840-1843) и «Den
norske Titskuer» (1851-1853). Вначале основанная в 1855 г. «Aftenbladet» также была
оппозиционным листком, но впоследствии она стала на сторону правительства. Кроме
нее в распоряжении последнего находились: «Den Konstitutionell» (1836-1847) и
«Christiana Posten» (1848-1863). В последнее время, после того как Норвегия сделалась
самостоятельным королевством, вся пресса получила однообразно-националистическую
окраску. Влиятельнейшими газетами Христиании являются в наши дни, наряду с
«Morgenbladet», еще: «Aftenposten» (основанная в 1850 г.), «Verdens Gang» (основанная в
1868 г.) и «Dagbladet» (основанная в 1869 г.). Из остальных городов развитая печать
встречается лишь в Бергене («Tidende», «Bergens Aftenblad», «Björgvin»), Ставангере
(«Vestlands-post», «Stavanger Avis», «Stavanger Aftenblad»).
Из норвежских журналов крупное национальное значение имели некоторые
старинные издания, служившие рассадником тех умственных течений, которые ввели
норвежское общество в новейший период его истории. Это были журналы: «Vidar» (1832
—1834), «Nords Tidskrift for Videnskab og Literatur» (1847-1855) и «Nordsk Maanedskrift»
(1856-1860). С 1879 г. выходит «Ny illustreret Tidende». Первый иллюстрированный
журнал, основанный в 1851 г., выходил до 1866 г.
Центральным телеграфным осведомительным учреждением для скандинавской
прессы всех трех стран является «Ritzaus Bureau» в Копенгагене, основанное в 1866 г.
Эриком Рицау, умершим несколько лет тому назад.
IV. Печать в России
Русская журналистика развивалась при весьма тяжелых обстоятельствах, и
достигнутые ею за полтора столетия ее существования результаты являются далеко не
удовлетворительными. Русские газеты в своей массе до сих пор еще не могут считаться
носителями мнения всей нации; они выражают лишь воззрения отдельных лиц, проводят
в жизнь их частные стремления, служат их честолюбию или ненависти. К тому же
большинство из них непосредственно инспирируется правительством. Из полтысячи
русских политических газет более чем пятую часть составляют официозные органы.
Действительное значение и влияние принадлежит исключительно газетам обеих столиц;
провинциальная печать, под угрозой неминуемых репрессий, не может придерживаться
независимого мнения. Хотя еще при Императрице Екатерине одно время и казалось, что
либеральный режим в деле журналистики возьмет перевес, но эти иллюзии скоро
рухнули; столь охотно возносившаяся с лучшими умами своего времени на вершины
человеческого духа, властительница вскоре сочла нужным стеснить несколько смяг-
ченные в начале царствования условия существования печати. При восшествии на
престол Павла I в 1796 г. наступил период мрачнейшего деспотизма. В постоянной
боязни возможного отголоска французской революции и влияния идей французского
Просвещения Император Павел в 1797 г. установил самую строгую цензуру, а год спустя
издал распоряжение, по которому все заграничные произведения печати должны были
тщательно просматриваться подлежащими властями, и те из них, в которых заключались
даже самые отдаленные намеки на либерализм, немедленно конфисковаться. Так,
«Путешествия Гулливера» Свифта, как сочинение, представляющее опасность для
государства, было запрещено в России; поучительные рассказы Лафонтена были
конфискованы за то, что автор осуждал в них стремления к почестям и славе; та же
участь постигла комедию Коцебу «Дитя любви», ввиду ее вредной для общественной
нравственности и несогласной с истиной мысли о том, что лишь незаконнорожденные
дети являются детьми любви. Различные слова, которым приписывалось революционное
происхождение, каковы «класс», «общество», «гражданин», «отечество», «сержант»,
были изъяты из обращения в печати. Наконец, были воспрещены все издания,
помеченные годом из периода французской революции. Отметим, кстати, что строжайше
преследовалось ношение различных частей туалета, бывших в моде во время
французской революции: жилетов, фраков, брюк, жабо, сделанных по известному
покрою. После смерти Императора Павла и вступления на престол Александра I в 1801 г.
отношение правительства к печати сделалось более гуманным, но полная тревог
наполеоновская эпоха препятствовала реформе законодательства. После восстановления
мира Императором овладело тяжелое душевное расстройство, вызванное
многочисленными неудачами. Цензурный гнет снова увеличился. Гораздо хуже
сложились обстоятельства в царствование Николая I. В эту эпоху, которая справедливо
считается одной из наиболее бедственных для русского народа эпох самовластного
цезаризма, Россия была превращена в «духовный Китай». Первые правила о печати в
новом царствовании появились в 1828 г. В них высказывалась мысль о том, что первая
обязанность газет состоит в том, чтобы ставить народ в известность о действиях
правительства, объяснять ему благие намерения властей и восхвалять благодеяния,
которые эти власти им оказывают. Критики государственной власти и ее начинаний
газеты касаться отнюдь не должны. Впоследствии система цензурного контроля была
отделена еще тщательнее. Была введена тройная цензура, учрежден верховный комитет,
обязанный блюсти за действиями цензоров. Наряду с цензурой по делам печати,
существовали еще особые сыскные комиссии, зорко следившие за образом мыслей и
поступками всех чинов отдельных ведомств. Таковы цензурное отделение по военным
делам, по делам церкви, по ведомству путей сообщения и пр. Деятельность этих
учреждений богата невероятнейшими курьезами. Одному цензору не понравилось выра-
жение «величество природы», так как титул «величество» может принадлежать только
коронованным особам. Цензор Крассовский не допустил к печати статью о мухоморах,
«ибо грибы во время поста служат пищей православным, а указание на ядовитые виды
может потрясти веру и породить неверие». При Александре II обстоятельства несколько
изменились к лучшему: он отменил сыскные коллегии, но оставил в силе стеснительную
предварительную цензуру для органов повременной печати; кроме того, министру
внутренних дел было предоставлено право указывать редакциям те вопросы, которые, по
его мнению, «подрывают основы» и поэтому не подлежат обсуждению в печати. Эти
меры развивали роковую систему замалчивания, за которой всегда скрывалась неправда.
Новая систематическая обработка, инкорпорация, но не кодификация законодательства о
печати была предпринята в 1865 г.; некоторые добавления были внесены в 1873 г., после
чего, вплоть до манифеста 17 (30) октября 1905 г., закон о печати сохранял свою силу в
прежнем виде. С этого времени все пошло вверх дном, вся страна закипела в
революционном котле; объявления целых губерний и областей на положении усиленной
и чрезвычайной охраны сыпались как из рога изобилия.
Создатель современной России, Петр Великий, является также и основателем
первой русской газеты. В 1703 г. листок Петра стал выходить в Москве, но главной его
задачей было не проведение в жизнь политических воззрений и не распространение
новостей, а служение делу реорганизации армии, доставление соответственного
материала и разъяснений инструкций и приказов. Поэтому он и получил название
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти». В 1714 г. газета была
переведена в Санкт-Петербург, где она, в качестве органа Императорской Академии
Наук, выходит и поныне под названием «Санкт-петербургские ведомости». Но о
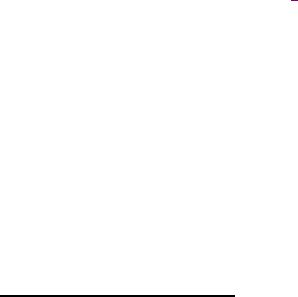
дальнейшем насаждении прессы Петр заботился мало; лишь при Екатерине II этот
вопрос снова сделался предметом особых попечений правительства.
Императрица разрешила свободу печати и печатания, благодаря чему с 1769 г.
появилось множество журналов по образцу английских еженедельников, уже несколько
раз упомянутых нами. Обличая извращенность нравов, обрушиваясь на все напускное и
болезненное в обществе, они осуждали господствовавшую в нем галломанию и
пренебрежение к родному языку и требовали возвращения ко всему собственному и
национальному. В стилистическом отношении они усвоили себе легкий и веселый тон,
облекая свои, подчас резкие, нападки в юмористическую форму.
Первым из этих журналов была «Трудолюбивая пчела» Сумарокова, появившаяся в
1769 г. В том же году вышел альманах «Вперемежку», прекратившийся в 1770 г. Он
резко нападал на недостатки высшего общества и получал свои директивы непосред-
ственно от императрицы. В нем, между прочим, появились десять заповедей,
обращенные против всех отрицательных качеств русской администрации: продажности,
своекорыстия, лицемерия, лености, склонности к пьянству и пр. Кроме того, выходили:
«Парнасский житель» (1770) «Трудолюбивый муравей» (1771), «Трутень» (1769—1770),
«Живописец» (1772), «Собеседник друзей российской словесности» (1783—1784), в
котором сотрудничала сама Императрица, и др. Большинство из этих журналов далеко не
всегда могли почерпать свой материал из родного источника, они брали его из
иностранных листков и обрабатывали соответственно своим целям. Но это не умаляло их
заслуг, так как, несмотря на свой подражательный характер, они с честью исполняли
свою цивилизаторскую миссию. К сожалению, настроение Императрицы в конце
царствования помрачилось под влиянием различных обстоятельств в личной жизни и
неудач в области политики, и она существенно ограничила свободу печати. Сатира не
могла более возвышать свой голос; она притупилась, и журнальная литература пришла в
упадок; в середине 1780-х гг. от нее не осталось и следа.
Политическая пресса на первых порах не могла занять образовавшийся пробел, и в
журнальной литературе наступил период молчания, длившийся вплоть до выступления
двух деятелей, сделавшихся основателями русской публицистики: Александра Герцена и
Михаила Каткова.
Герцен родился в Москве в 1812 г.; он получил прекрасное университетское
образование и скоро сделался известен в широких кругах общества благодаря своим
рассказам и романам, но одновременно его свободомыслящий образ мыслей привлекал
внимание правительства, которое стало преследовать его различными репрессиями и
неоднократно ссылало его в провинциальные города Империи. В 1847 г. он уехал за
границу и в 1857 г. основал в Лондоне еженедельник «Колокол», в лице которого русская
периодическая печать отпраздновала свой первый выход на поприще широкой
общественной деятельности. С гениальным красноречием изобличал Герцен все
недостатки ancien régime'a
1
и пламенными словами призывал он молодого Монарха
Александра II к коренным преобразованиям. Прежде всего он требовал отмены кре-
постного права, как необходимого условия единения Монарха с народом. Он вскрывал
все язвы чиновничьего управления, продажность и злоупотребление полиции, упадок
духа законности и многое другое. Деятельность «Колокола» вызвала мощное движение в
русском обществе, и хотя журнал был воспрещен в России, он ходил там по рукам и одно
время имел значительное влияние на самого Императора Александра II и на его первые
начинания при отмене крепостного права. Когда последнее сделалось совершившимся
фактом, влияние «Колокола» постепенно пошло на убыль, а затем, когда в 1863 г.
Герцен, сблизившийся в то время с известным революционером Бакуниным, заступился
1
1
за поляков, от него отшатнулась большая часть его патриотически настроенных
поклонников, и, наконец, в 1869 г. издание «Колокола» прекратилось. Год спустя
Герцена не стало.
Совершенно иная судьба ожидала Михаила Каткова. Он родился в 1820 г. в Москве
и в юности также увлекался либеральными идеями; но увидя, что Герцен и его кружок
все более отклонялись в сторону западничества и социалистических теорий, что
конституционные течения получили перевес в обществе и во многих местах Империи
возникли первые крестьянские волнения, он сделался ярым сторонником самодержавия и
официальной народности, во имя которых требовал упразднения всех инородческих
элементов Империи. Он был духовным отцом системы «русификации» окраин и
руководителем фанатических националистов. Сначала — с 1856 г. — он редактировал
«Русский вестник», литературный журнал, потом — с 1862 г. — «Московские
ведомости», при посредстве которых он до конца своей жизни (1887 г.) имел громадное
влияние в стране.
Петербургская печать долгое время оставалась позади «Московских ведомостей». В
шестидесятых годах XIX в. значительным влиянием пользовался «Голос», основанный
Краевским в 1863 г., но в 1881 г. он был воспрещен. За последние десятилетия
влиятельнейшей газетой России сделалось «Новое время». Оно было основано в 1868 г.
А. К. Киркором, некоторое время неоднократно меняло своего владельца и в 1876 г.
перешло в руки А. С. Суворина, талантливого журналиста и весьма ловкого дельца,
всегда умевшего настраивать свои струны в унисон с господствующим мнением в
руководящих кругах. Уже во время русско-турецкой войны [1877— 1878 гг. — Прим.
ред.] газета его имела, благодаря принятому им панславистическому направлению,
многочисленных читателей; впоследствии она с тем же рвением открыла кампанию
против Германии; впрочем, по мере надобности, никогда не задумывалась менять свои
взгляды. Неоднократно в ней печатались «разоблачения», рассчитанные на сенсацию или
на вкусы широкой публики к пикантному чтению. Поэтому в прессе и в обществе за газе-
той упрочилось прозвище «Чего изволите?». Последние годы Суворин-отец несколько
отстранился от редакции газеты, но она, тем не менее, неуклонно следует по
намеченному им пути и своим ежедневным выпуском в 60 000 экземпляров далеко
превосходит все другие петербургские газеты. Весьма также распространенные
«Биржевые ведомости» были основаны С. Проппером в 1880 г., но большая часть их
выпуска идет в провинцию. Во времена Витте газета была его официозом. В 1882 г.
вышел «Свет», сначала незначительный листок, но затем долгое время имевший
многочисленных подписчиков. Он редактировался полковником Комаровым, известным
пруссофобом и шовинистом. «Русский инвалид» очень распространен в офицерских
кругах; он является органом военного министерства. Консервативная газета
«Гражданин», основанная в 1870 г. князем Мещерским, некоторое время пользовалась
известным влиянием, но с 1905 г. перестала выходить.
Наряду с этими газетами в России издаются многочисленные газеты на немецком
языке. Старейшая и наиболее влиятельная из них, «St.-Petersburger Zeitung», была
основана еще в 1727 г., за период 1874—1904 гг. имела в лице П. фон Кюгельгена
прекрасного руководителя. Теперь редакция перешла к его сыну Карлу. Кроме нее, в
Петербурге выходит «Herold» — газета мелких купцов и ремесленников, охотно
драпирующаяся в мантию демократизма. В Москве с 1870 г. выходит «Moskauer Deutsche
Zeitung» под редакцией К. Кизенера, в Лодзи — «Lodzer Zeitung», в Риге — «Düna
Zeitung» и т.д.
Кроме того, в Царстве Польском, Галиции, Буковине и в прусских провинциях
Познании и Силезии существует развитая газетная литература на польском языке. В
Варшаве издаются: с 1773 г. «Gazeta Warszawska» и с 1820 г. «Rurjer Warszawskie»,
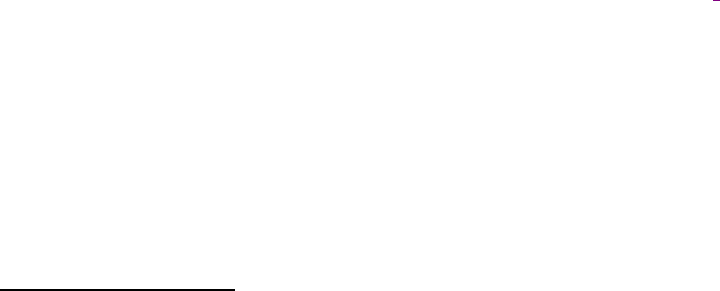
выходящие в количестве 34 000 экземпляров; в Кракове: основанный в 1848 г.
католическо-консервативный «Czas», прогрессивно-демократическая «Nowa Reforma» и
христианско-социалистический «Clos Narodu»; в Лемберге: консервативная «Gazeta
Narodowa», прогрессивно-либеральное «Slowo Polskie» и еврейский политический
еженедельник «Wschod», орган галицийских сионистов; в Черновияах «Gazeta polska»; в
Познани «Dziennik Poznanski», «Kurjer Poznanski», «Wielkopolanin» и др.; польские
газеты выходят еще в Берлине («Dziennik Berlinski»), в Бромберге, Гнезене, Иноврацлаве,
Бейтене, Глейвице, Конигс-гютте, Оппельне и Ратиборе. Польские листки в северной
Силезии почти без исключения составляют собственность издателя Гави-ральского в
Бейтене.
Манифест 17 октября 1905 г., как и следовало ожидать, вызвал целый поток новых
газет, журналов и листков; в одном Петербурге за восемь недель было объявлено о
выходе в свет до 400 периодических изданий, в том числе 38 политико-сатирических
журналов. Общественное мнение, подавлявшееся целыми десятилетиями, жаждало
высказаться свободно. Мало-помалу, однако, более спокойный тон снова получил
перевес в прессе, большинство новых газет исчезло. Царский указ от 4 апреля 1906 г.
значительно ограничил свободу печати, и старые газеты вновь получили свое утраченное
влияние. Каким образом сложатся обстоятельства, когда окончится процесс внутреннего
брожения, переживаемого ныне Россией, — кто возьмется предсказать это?
V. Печать на Востоке
Обращая свои взоры на восток, мы встречаем там весьма пеструю картину. Большая
часть газет не удовлетворяет самым скромным требованиям. Отсутствие глубокого
образования, широты кругозора, самостоятельности в суждениях — является
хроническим недостатком прессы востока, но, кроме того, и в техническом отношении
она поставлена совершенно неудовлетворительно.
Наиболее успешно развивалась газетная литература в Венгрии, являющейся как бы
преддверием востока и находящейся с ним в тесной связи. Первые венгерские газеты
выходили на латинском и немецком языках. Хронологически первой был — поскольку
это может быть установлено — «Mercurius Hungarius», впоследствии «Mercurius
Veriducurex Hungaria», выходивший с 1705-1711 гг. и с жаром отстаивавший интересы
партии Ракокциша в полемике с «Wienerisches Diarium». Когда «Mercurius» должен был
сойти со сцены, вместо него появилась «Nova Posoniensia», основанная Матфеем Белом в
1721 г., но она выходила не более года. Более продолжительным существованием могла
похвалиться первая немецкая газета «Ofnerische Mercurius», выходившая в третьем и
четвертом десятилетии XVIII в. два раза в неделю, и «Pressburger Zeitung», основанная в
1764 г. и существующая и в наше время.
Первая мадьярская газета вышла в свет в 1780 г. в Прессбурге
1
; она была основана
Матфеем Ратом под названием «Magyar Hirmondo» и продолжалась восемь лет. Второй
мадьярский листок, «Magyar Mercurius», выходит с 1788 г. в Будапеште.
И в последующие времена венгерская печать подвигалась вперед весьма медленно.
Еще в 1824 г. в Венгрии с ее окраинами можно было насчитать не более дюжины
листков: из них семь немецких, четыре мадьярских и один латинский. Но с 1830 г., когда
политическая жизнь получила энергичный толчок и национальная идея охватила
широкие круги, последовал быстрый расцвет печати. Несмотря на многочисленные
трудности со стороны полиции и цензуры, число мадьярских газет уже в 1830 г. возросло
до 10, в 1840 г. уже до 26, в 1847 г. до 33, а в революционные годы, 1848 и 1849 гг., более
1
1

чем удвоилось, достигнув цифры 80. После подавления Венгерского восстания,
вступления Венгрии в реальную унию с Австрией и лишения ее всех политических
вольностей число мадьярских газет уменьшилось до 9. Десять лет спустя число их снова
поднялось до 53, а в 1870 г. даже до 146. С этого времени число газет неуклонно растет; в
1880 г. оно достигало 318. По данным 1902 г., в странах венгерской короны
существовало 1205 газет и журналов на мадьярском языке и 227 периодических изданий
на других языках. Но число последних прогрессивно уменьшается. Сильнее всего это
можно заметить на немецких языках. В 1901 г. в Венгрии выходил 161 немецкий листок,
а в 1902 г. всего 137. И по размерам выпуска эти немецкие листки весьма незначительны.
Даже лучшая и крупнейшая газета в Саксонии — «Siebenbürgische-deutsche Tageblatt» в
Германштате — выходит в количестве лишь 2000 экземпляров ежедневно. Кроме того,
следует отметить тот факт, что значительная часть немецких газет в сущности защищает
мадьярские интересы. Так, из десятка немецких дневных газет в Будапеште —
значительнейшие из них «Pester Lloyd» и «Das Neue Pester Journal» — мы не можем
указать ни одной, которая бы оставалась верной германизму, а темесварские газеты на
немецком языке: «Südungarische Reform» и «Neue Temesvarer Zeitung» — органы
кошутистической мадьяризации
2
.
Основателем национально-венгерского журнализма является Людовик Кошут,
знаменитый венгерский революционер (родился в 1802 г., умер в 1894 г.). По поручению
либеральной партии он уже в 1832 г. приступил к изданию «Reichstagszeitung» в
Прессбурге, которая, однако, для обхода стеснительных цензурных правил появлялась не
в печатном, а сначала в литографированном, затем в писанном виде. Но полиция скоро
напала на след ее издателей и воспретила ее. Кошут, несмотря на это, продолжал ее
издавать, но в мае 1837 г. он был арестован и до 1810 г. просидел в крепости Мункакс.
После объявления амнистии он был освобожден, вернулся в Пешт и основал здесь в 1841
г. «Pesti Hirlap», первую венгерскую газету, в которой политические вопросы получили
широкую постановку и обсуждались на превосходном литературном языке.
Газета доставила Кошуту огромное влияние в политических кругах, но уже в 1844 г.
он отказался от ее редакции. Несмотря на это, газета заняла выдающееся положение,
которое сохранила за собой вплоть до нашего времени; она выходит в количестве 56 000
экземпляров и пользуется крупными симпатиями в буржуазно-либеральных кругах. Из
числа значительнейших политических мадьярских газет назовем: «Budapesti Koezloeny»,
правительственную «Budapesti Hirlap», распространенную преимущественно среди
помещиков, врачей, священников и т.д., «Egyertes» («Согласие»), либерально-
оппозиционные, затем: «Magyar Estilap», «Magyar Nemzet», «Pesti Naplo», «Budapesti
Naplo» и «Pesti Ujsag». Кроме того, следует отметить иллюстрированную политическую
газету «Kis Ujsag» с ежедневным выпуском в 200 000-250 000 экземпляров и
иллюстрированную же «Budapest».
Наряду с мадьярской прессой; с середины прошлого столетия в Крайне, южной
Штирии и Каринт-ии и в некоторых местах прибережья наблюдается зарождение
словенской печати. В Лайбахе выходят: либеральный «Slowenski Narod» и клерикальный
«Slovenec»; Клагенфурте — клерикальный «Mir», в Марбурге-на-Драу — «Slovenski
Gospodar», в Цилли — «Cilli Domovina», в Триесте — «Edinost». Но все эти листки стоят
на весьма низкой ступени развития. Их главной характерной чертой является
неукротимая ненависть ко всему немецкому. Значительное оживление заметно за
последнее десятилетие в сербской печати. В наше время в Белграде существует че-
тырнадцать газет, которые, при почти ограниченной свободе печати, разыгрывают
довольно беспорядочную симфонию. Духовный уровень этих газет не высок.
Официальным органом служит «Srbske Novine»; субсидируемая правительством
2
2
«Samouparva» безуспешно старается примирять борющиеся партии. Либерального
направления придерживаются «Beogradske Novine» и «Vetscherne Novosti». Нынешнему
правительству враждебны «Narodni List» и «Opposition», они отличаются
невоздержанным языком. Воззрения ультрарадикалов защищают: «Dnevni List», «Mati
Journal» и «Novi Svet»; к умеренным примыкают «Lutro» и «Pravda». Внепартийными
остаются «Stampa» и «Politika». Интересы делового мира обслуживаются «Trgovinski
Glasnik». Но сербская печать не имеет прочного фундамента; любое политическое
сотрясение может в корне изменить все положение дел и быстро создать газетную
литературу совершенно нового типа.
Болгарская печать все еще коснеет на первых стадиях своего развития. Поныне в
стране в 95 500 квадратных километров, при четырех миллионах жителей, выходит лишь
несколько газет в Софии и одна в Филиппополе. Из столичных газет первое место при-
надлежит редактируемой С. С. Шанговом «Wetscherna Poschta».
В Румынии газетная литература развивалась гораздо успешнее. Первая,
существующая и ныне, газета «Romanulu» была основана К. А. Розетта в 1857 г. в
Бухаресте. С этого времени появилось свыше двадцати газет, в том числе и две
немецкие: «Bukarester Tageblatt» и «Der Rumänische Lloyd». Правительственный листок
«Monitorul official» выходит без публикаций. Из прочих городов королевства еще в
десяти существуют местные газеты; в Яссах их насчитывается четыре.
Уже сравнительно рано предпринимались попытки издавать греческие газеты. Но,
вследствие того, что в то время Греция еще находилась под господством Турции, они
должны были выходить за границей. Первая греческая газета «Ephemeris» была основана
Маркидисом Пулиосом в Вене в 1793 г., но существовала недолго. Подобная же участь
постигла и некоторые другие листки, возникавшие до 1820 г. в Париже и в Вене. Когда
затем весной разразилось восстание против Турции и в апреле в Каламате было открыто
первое греческое национальное собрание — Мессанийский Сенат, увидела свет и первая
греческая газета на греческой почве. Но существование ее было тогда
непродолжительно. Неудачи преследовали и другие листки, появившиеся здесь и там;
введение в 1833 г. правил об обязательном залоге за право издания газеты нанесло им
смертельный удар. Более прочное ядро греческий журнализм получил при основании в
1834 г. правительственной газеты, выходившей на греческом и французском языках. В
наше время Греция обзавелась уже весьма многочисленными газетами, но все они не-
велики по размерам и легко поддаются финансовым затруднениям. И афинские газеты
«Akropolis», «То Asty», «Ephimeris» и «Proia», сплошь либеральные, лишь с большим
трудом держатся на поверхности и, за отсутствием средств на рациональную постановку
осведомительной части, почерпают свой материал из-за границы, преимущественно из
французских и итальянских источников, что сплошь и рядом приводит к совершенно
ошибочным суждениям об иностранных делах.
Турецкая печать в ее целом представляет собой лишь карикатуру на журналистику.
Характер магометан мало способствует процветанию прессы. Равнодушие, с которым
турки относятся ко всем событиям, делает их небольшими охотниками новостей; они
довольствуются болтовней в кафе и на базаре. Другим препятствием к возникновению
газет является беспримерно строгая цензура, стоящая на страже того, чтобы журналист
не выходил из своей скромной роли простых хроникеров; но и оставаясь в рамках этой
роли, они существенно ограничены в своих правах. Обо многом, что происходит на
земном шаре, они не могут сообщать, — им запрещено даже намекать на некоторые
вещи. После зверской резни царской фамилии в Белграде, константинопольские газеты
11 июня 1903 г. напечатали известие, что сербская королевская чета, два брата королевы
и несколько министров внезапно скончались. В том же тоне сообщалось об убийстве
Карно, президента Мак-Кинлея и др. О волнениях в России газеты не обмолвились ни
