Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
101-
-101
Другой важный момент в связи с этой темой, поднятой в статьях и выступлениях Гейзенберга, касается
вопроса о том, насколько в результате выбора науки в качестве цивилизационного приоритета произошло
искривление самого европейского духа в его основаниях. «Наверное, уже у судей римской инквизиции, —
пишет Гейзенберг, — шевельнулось подозрение, что галилеевское естествознание может вызвать опасное
изменение духовной ориентации» [6:338] . «Опасное изменение» духовной сферы и есть ее искривление.
Белый луч европейского духа как бы прошел сквозь призму Ренессанса и Реформации, новой науки и нового
гуманизма и в результате и разложился и отклонился от первоначального направления. Это, конечно, только
метафора. Но она нам кажется уместной и точной, тем более что в это время свои опыты по преломлению
света и раскрытию тем самым его природы осуществил Ньютон, создав основу научной оптики. Их
культурно значимым результатом был в конце концов отказ от духовного измерения света как метафоры и
отождествление его с его материальной структурой, описываемой числом. Не было ли тем самым платой за
научную истину о свете его затмение в области духа? Гейзенберг это признает, но без слишком
неоспоримой уверенности: «Естествознание, — констатирует он, — сделало за последние 100 лет очень
большие успехи. Более широкие жизненные сферы, о которых мы говорим на языке нашей религии, были
при этом, возможно, оставлены в пренебрежении» [6:342]. «Возможно», что в пренебрежении сферой духа,
религией прежде всего, повинна и наука, во всяком случае, мы уточняем, толкуя Гейзенберга,
мировоззрение, стремящееся выступать от ее имени и претендующее назы-
97
ваться научным, даже порой единственно научным. Наука, что уж греха таить, во многом действительно
способствовала тому, что в подвижном балансе двух истин (научной и религиозной) фактически была
сделана попытка обойтись лишь одной из них.
Во что человечеству может обойтись эта попытка Гейзенберг дал понять в разговоре с В. Паули летом
1952 г., когда они встретились в Копенгагене в связи с планами строительства в Европе крупного
ускорителя. Для понимания им сказанного надо обратиться к двум ключевым понятиям-метафорам,
которыми пользуется здесь Гейзенберг. Это идея «центрального порядка» и идея «компаса». По
Гейзенбергу, субъективный мир, основу которого образуют представления людей о ценностях, не менее
реален, чем объективный мир, раскрываемый наукой. Главный вопрос, в мире ценностей встающий, это
вопрос о «компасе», которым мы должны руководствоваться, отыскивая свой путь в жизни. Этот «компас в
разных религиях и мировоззрениях, — говорит Гейзенберг, — получал разные названия: счастье, воля
Божия, смысл и еще многое другое... Однако у меня складывается впечатление, — продолжает он, — что во
всех формулировках речь идет об отношении людей к центральному порядку» [7:326]. «Центральный
порядок» — это Unum Bonum Verum, или Единое-Благо-Истина, в отношение с которым человек вступает,
используя прежде всего религиозный язык. Адекватной моделью центрального порядка выступает, по
Гейзенбергу, душа. Поэтому и человек может вступать в глубокую связь с центральным порядком всего,
всех вещей и событий, как душа с душой. И элементарное требование сообразовывать свое поведение с
миром ценностей и его строением мы реализуем, действуя в «духе этого центрального порядка», который в
конечном счете «всегда побеждает», гармонизируя «частные порядки» и упорядочивая тем самым хаос.
Этика основывается всегда, считает Гейзенберг, на связи норм и мотивов с «центральным порядком»,
если это действительно полноценная и живая этика. Когда Паули спросил Гейзенберга о том, какой же
«компас» стоит, в частности, за этикой прагматизма и позитивизма, характерной для Америки и Англии
последних столетий, то Гейзенберг ответил ссылкой на М. Вебера: такая этика в конечном счете вытекает из
духа кальвинизма, следовательно, из христианства и поэтому, несмотря на давний разрыв с его символами и
образами, хранит связь с ним. При этом он делает важный вывод: «Если когда-нибудь совершенно исчезнет
магнитная сила, направлявшая до сих пор этот компас, — а сила может происходить только от центрального
порядка, — то боюсь, что могут случиться ужасные вещи, еще более страшные, чем концентрационные
лагеря и
атомные бомбы» [7:328-329]. Разрыв с христианскими ценностями «центрального порядка» возможен,
считает Гейзенберг, ибо динамика, действующая в этом направлении, давно уже обозначилась в истории
Европы. И если это произойдет, то нас ждут неслыханные испытания. И все это рассуждение, где
религиозное измерение связывается с физикой, метафизикой и с вопросом о прагматизме и позитивизме,
кончается утверждением, что запрет на метафизику и более широкое рассмотрение всеобщей связи вещей,
чем это принимается позитивизмом и прагматизмом, непременно должен быть нарушен, чтобы не утратить
«компас, по которому мы можем ориентироваться» [7:328-329]. Иными словами, считает Гейзенберг, если
мы и дальше пойдем путем позитивизма и прагматизма, то связь с «центральным порядком» рискуем
порвать. Поэтому мир, построенный исключительно на принципах прагматизма и позитивизма, ждут беды
пострашнее атомных бомб и лагерей. Мы можем назвать все это рассуждение физика-теоретика
европейским коррективом одностороннего американизма, достигшего своего могущества как раз в те
послевоенные годы.
Теперь скажем о том, насколько с нашим тезисом об инверсии соотношения религии и науки в
указанном нами смысле согласуется позиция Гейзенберга. Он признает, что научная революция и
последующее развитие западной цивилизации привели к значительному дисбалансу между этими
фундаментальными истинами, религиозной и научной. Это проявляется в том, что в результате невиданных
успехов науки и техники и идущих вместе с ними социокультурных перемен «происходит неблагоприятное
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
102-
-102
смещение ценностных критериев» [7:332]. Действительно, мы так можем проинтерпретировать эти
рассуждения Гейзенберга, культура как искусство целей во многом уступает место науке как искусству
средств. Не случайно, что это смещение совпадает и с «восстанием масс» (термин Ортеги-и-Гассета), если
иметь в виду возникновение вслед за новой наукой и нового, буржуазного, общества. Устав, причем
смертельно, от универсальности религиозно-метафизического языка (а по сути дела, от рассудочной
теологии и схоластики), западный европеец впервые в XVII в. смог посвятить себя частностям опыта, имея в
виду в качестве стимула для этого ясные и понятные ему практические выгоды от специализированного
научного исследования. В таким образом формулируемом проекте «восстановления наук», особенно в его
бэконианском варианте, действительно могли участвовать, как говорит Гейзенберг, массы «людей средних
дарований», влекомых к науке не универсалистскими интуициями с их глубокими культурными
импульсами, как у Лейбница или Кеплера до него, а партикуля-
98
ристскими и прагматическими. Более того, в эту эпоху наука становится социально признанной
ценностью: научные академии и общества патронируются и создаются государством (с середины примерно
XVII в.). На вершинах науки всегда духовный «климат» был несколько иной, чем в ее «массовидных»
предгорьях. Проницательные, честные и глубокие размышления Гейзенберга говорят именно об этом.
Постмодерн как период кризиса культуры модерна — это канун того, что нам неизвестно. Известно
только то, что это время, по-видимому, действительного выхода из модерна. Мы сопоставляем два периода
— начало модерна и выход из него. Сравнение двух эпох позволяет выявить много общего в том, как они
воспринимались современниками. Так, например, для Коменского первая половина XVII в. — это книжная,
бумажная эпоха, время невероятной избыточности печатного слова. Книги нередко покупают только ради
указателей — библиографических и др. Их уже не читают и не продумывают. И Коменский не без
сожаления и не без упрека в адрес своей эпохи говорит: «Если древние хранили мудрость в сердцах, то мы
— на бумаге» [11:2:302]. Нам кажется, что это сказано о нас. Правда, сейчас бумагу во многом заменили
компьютеры.
Сама оппозиция «модерн/постмодерн» асимметрична. Действительно, модерн — это прожитое время
европейской культуры, а поэтому эпоха с проявившими себя, сложившимися характеристиками.
Постмодерном же называют еще не сложившийся в строго очерченную культурную форму наметившийся
выход из модерна, или, мягче, потерю им своей идентичности, по крайней мере частично. Поэтому
сравнение этих двух эпох содержит ощутимый момент условности, который необходимо иметь в виду.
Мы говорили об участии в проекте модерна религии, науки, эзотерической традиции. Мотивы и
импульсы, приведшие к его созданию, в наше время утрачивают свою силу и свежесть. Такой религиозно
накаленный познавательный оптимизм, какой был у пионеров новой науки, сейчас трудно встретить, он
кажется уже невозможным. Даже если человек постмодерна и не хочет расставаться с проектом модерна,
так как любой проект лучше, чем его отсутствие, то все равно тень утомления от него, неверия в него легла
на дух культуры. Человек сегодня, пусть и неявно, предъявляет счет содержащимся в этом проекте
обещаниям и не может при этом не испытывать некоторого разочарования. О каких обещаниях конкретно
идет речь? Проект модерна в ходе европейской истории XVII-XVIII вв. оформился как сциентоцентристский
проект, включающий в себя четыре основных обещания: а) обеспечить
полное искоренение невежества через всеобщее восстановление наук и всеобщее и абсолютное (в смысле
Я. А. Коменского) обучение новым наукам; б) благодаря такому восстановлению обеспечить полное
господство человека над природным миром, позволяющее достичь всеобщего процветания и благоденствия;
в) благодаря перечисленному в пунктах а) и б) достичь полного искоренения болезней и приблизить
человека к достижению им необыкновенного долголетия, а в пределе, возможно, и самого бессмертия; г)
создать совершенного человека, совершенное общество и привести человечество к окончательному вечному
миру. Прошло примерно 350 лет. И ни одно из этих обещаний не реализовано. Этот факт выступает основой
исторического изживания проекта модерна. В начале XXI века это явно, а скорее неявно осознается.
Поэтому, если у человека начала Нового времени основной его пафос, несмотря на сохранявшуюся
религиозность, был направлен на науку и на базирующийся на ней проект универсальной Реформы, то
теперь несмотря на относительную эффективность научно-технической цивилизации модерна он
направляется не на науку или, точнее, не только на нее. Поэтому постмодерн как время утраты
самоуверенности модерна несет в себе потенцию обратной динамики соотношения рассматриваемых нами
культурных феноменов.
После «расколдовывания мира» [8:342], о котором как о сущностной характеристике Нового времени
писал М. Вебер, происходит «расколдовывание» самого проекта модерна (о противоречиях
«расколдовывания» проекта модерна в культуре постмодерна см.: [9:220-225]). Чары его теряют былую
силу. Во всяком случае, религиозная миссия, да и во многом мировоззренческая, возлагаться на науку
теперь уже не могут. Место науки в складывающемся в наше время культурном ландшафте более скромное,
чем во времена Декарта и Ньютона и особенно после них, несмотря на потрясающие успехи науки и
техники и, казалось бы, сплошную сциентификацию всей нашей жизни.
Глубина экологических проблем, нарастание признаков системного кризиса наукогенной цивилизации в
целом показали, что религиозная функция науки, составляющая основу проекта Нового времени, должна
быть пересмотрена. Неудача науки как заместителя религии, претендующего не только на осмысление всей
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
103-
-103
полноты бытия, но и на возвышение человека и преобразование природы, не означает неудачу науки как
объективного знания. Попытавшись заместить собой религию и метафизику, наука превысила свои
возможности. Пусть сциентистские иллюзии все еще широко распространены, но «науковерие» с его
претензией быть монополистом в сфере мировоззрения теряет кредит.
99
Наука по-прежнему, правда, считается последним арбитром в делах истины, в том числе религиозной.
Как пишет Рормозер, «у нас же и поныне полагают, что нужно отвергнуть реальность воскресения,
поскольку естественные науки не могут дать тому подтверждения» [10:226]. Здесь науке явно передоверяют
те роли и функции, которые она по природе своей выполнять не в состоянии: сферу религиозного опыта и
истин откровения она не может «курировать», как это понимали Ф. Бэкон и Декарт (сделавшие, однако,
серьезные шаги к тому, чтобы передоверить функции религии именно науке). Но вместе с тем сегодня
крепнет и сознание того, что научное знание само рискует впасть в заблуждение, если оно не оставляет в
бытии тайны, не принимает ее и не хранит.
Существенный исторический факт, который нужно в нашем анализе принять во внимание, состоит в том,
что пик секуляризационной динамики, по-видимому, пройден. После головокружительных кульбитов
философского богоборчества такого «каскадера» культуры, как Ницше, радикальный атеизм в ХХ в.,
например в духе Сартра, воспринимается уже как эпигонство. Эпоха воинствующего атеизма, похоже,
завершается, сменяясь временем индифферентизма, усталого скепсиса, вялотекущего агностицизма и
психологического нигилизма. Но не того героического нигилизма силы, о котором мечтал певец
«Заратустры», а, скорее, презираемого им нигилизма и пессимизма слабости, находимого им в выцветшей
учености Д. Ф. Штрауса или в квазибуддистском эскейпизме Шопенгауэра. Эпоху теоретического и
практического «теоцида» Европа, похоже, уже пережила. Прежде всего в лице России, пережившей
максималистскую попытку реализации проекта модерна в форме построения бесклассового общества.
Испытание предельными нагрузками богоборческой динамики, накопленной с эпохи Ренессанса, Россия
выдержала, а в ее лице и весь культурный мир, некогда называвшийся христианским. В результате
намечается и уже происходит как бы вторичное узнавание человеком этого мира своих культурных корней.
История тем самым снова дает Европе шанс на сохранение и развитие ее культурной идентичности, которая,
как и в начале модерна, подвергается серьезному испытанию в эпоху постмодерна.
Сравнивая начало модерна и постмодерн, мы можем сказать, что наука и религия как бы обмениваются
ролями в культурном ансамбле. Действительно, в начале модерна делают ставку на науку, возлагая прежде
всего на нее надежду дать достойный ответ на вызов времени. Но при этом и не порывают с религией,
вступая с ней в «прохладный» союз, все больше оправдываемый со временем ее позитивно-социальными и
мо-
ральными функциями. Таков во многом уже Ф. Бэкон. Вспомним его знаменитую формулу: малознание
(a little philosophy) уводит от религии, а глубокое знание, напротив, приводит [3:1:93]. Он еще колеблется
между оправданием физики библейским откровением и полным разведением сфер компетенции науки и
теологии, склоняясь больше ко второму решению. Первая позиция была характерна для парацельсистов,
продолжателей традиций алхимии и герметизма. Вторую разделяли такие ученые, как Декарт. Однако
акцент уже тогда был сделан именно на науке, что и будет обнаружено впоследствии. Иными словами, в
паре «наука— религия» ведущая роль в культурном ансамбле de facto закрепляется за наукой.
Обмен ролями между наукой и религией намечен, но не закреплен в постмодерне, так как всякой
централизованной системе ценностей эта эпоха противится, предпочитая ситуацию их квазиэгалитарного
«смешения».
В эпоху постмодерна изменение отношения к религии не означает, что человек этой эпохи стремится
совсем отказаться от науки. Нет, он ее сохраняет и оправдывает, как Ф. Бэкон и Вольтер — религию,
прибегая к привычной утилитаристской аргументации. Но непомерных надежд на нее он уже не возлагает.
Будут побеждены одни болезни — придут другие. Неустойчивость прогресса уже давно и ясно осознана: он
легко может смениться и действительно сменяется регрессом. Привести человека к нравственному
совершенству (а об этом мечтал и Декарт) наука явно не может и в эту ее способность совершенствовать
души уже мало кто верит.
Таким образом, соотношение религии и науки за протекшее время модерна инвертируется, по крайней
мере на уровне тенденции. Модернистская легитимация религии принимается в постмодерне, но
направляется уже на науку. Подобная инверсия характеризует и связи эзотерической традиции с наукой.
Если в канун модерна она давала импульс к практической направленности знания, к превращению его в
«сильную науку» (о чем мечтал еще Агриппа), то теперь эзотерика, напротив, скорее выполняет обратную
функцию — добавляет элемент созерцательности в чрезмерный практицизм исследований, в их
околонаучное сопровождение. Если раньше герметизм, парацельсизм и т. п. течения питали науку того
времени своего рода спиритуализированным натурализмом, способствуя формированию новой,
практически, эмпирически и экспериментально ориентированной деятельности в области науки, то теперь,
напротив, эзотерика, восточные духовные течения вносят вклад в созерцательное углубление современного
знания, стремясь придать ему холистскую направленность. Функция эзотеризма как
100
проводника новых синтезов и перемен, который затем, как катализатор, выходит из запущенной им
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
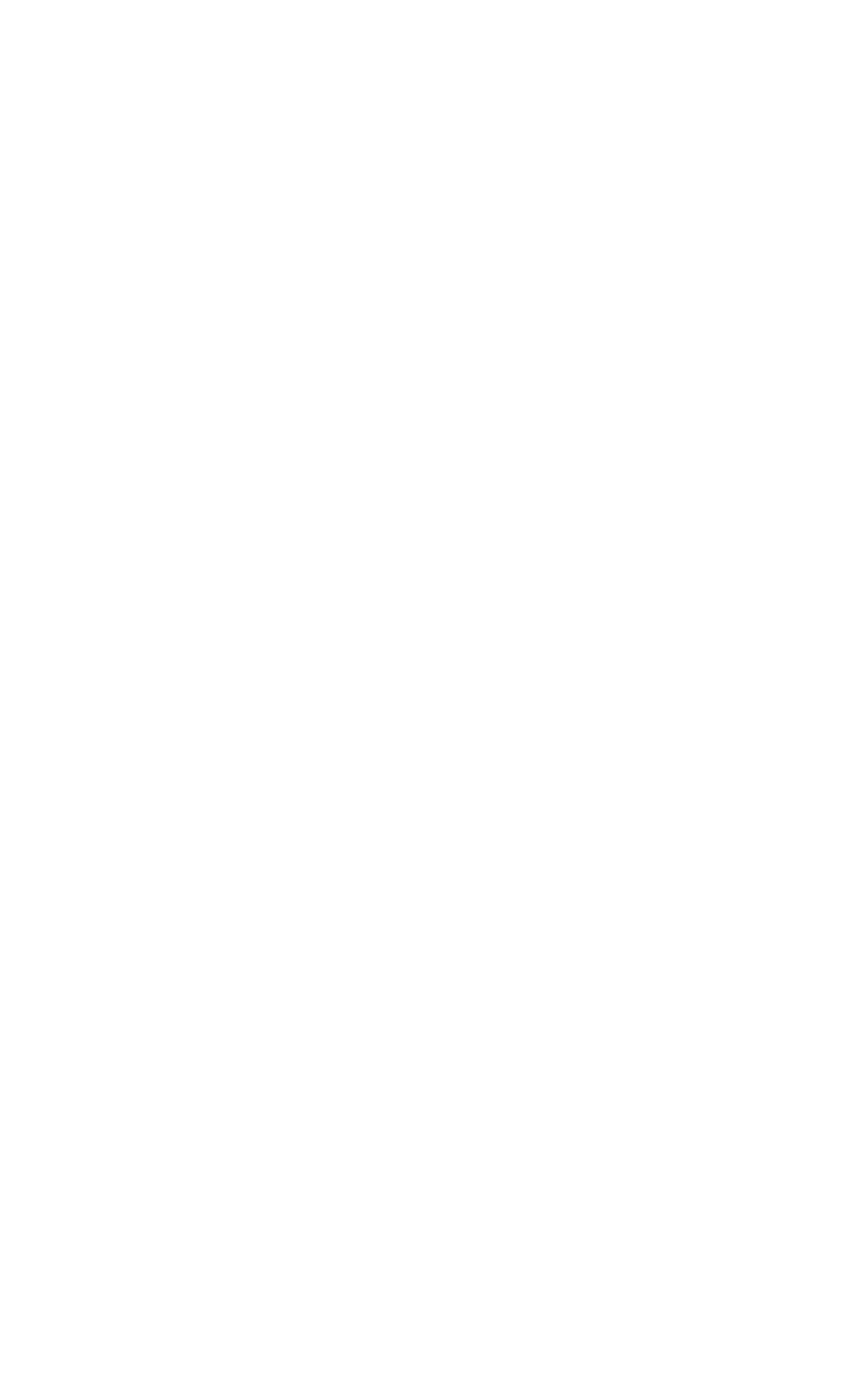
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
104-
-104
культурной «реакции», сохраняется и в ситуации постмодерна. Но направленность работы такого
«катализатора» инвертируется, становится антисимметричной тому, как это было в канун и в начале
модерна.
Из «троянского коня» реформаторского синтетического или интегративного универсализма с его
религиозно-мистическим ядром в начале модерна вышла тенденция к дифференциации основных
культурных подразделений (наука—религия—эзотерика). На излете модерна происходит инверсия
подобной констелляции указанных культурных феноменов. В его высоко дифференцированной культуре
начинают проявляться, а со временем, возможно, станут усиливаться синтетические тенденции. Инверсия
дифференциальной динамики соотношения рассматриваемых культурных феноменов связана с износом и,
возможно, крахом всего проекта модерна: она и отражает его, как следствие отражает свою причину.
В связи с этим отметим и некоторую инверсию эпистемологических мод в науке. В начале модерна даже
такой рационалист, как Декарт, мечтал об обширных опытных исследованиях и говорил, что его жизни и
имеющихся у него помощников мало, чтобы проделать все нужные эксперименты. Что уж говорить о Ф.
Бэконе, который и умер в результате простуды, полученной при эксперименте по заморозке продуктов.
Тогда без эксперимента науку не мыслили. И пафос экспериментального испытания вещей был передовым
лозунгом времени. Сейчас же нередко слышишь о том, что теория переходит в состояние «эмпирической
невесомости», что физика (особенно на стыке с космологией) постепенно растворяется в метафизике. Здесь
опять мы отмечаем инверсию тем и мотивов уже внутри науки.
В результате всех этих процессов ситуация постмодерна напоминает ситуацию эпохи рождения новой
науки, но осуществляющуюся в антисимметричной, точнее, в инверсионно ориентированной констелляции
динамики выделенных нами для анализа культурных факторов. Раскрываются границы науки по отношению
к оккультным течениям, как это было в XVI и начале XVII в. Но теперь герметический эзотеризм передает
науке не импульс к практической направленности, провоцирует не активизм и прагматизм «сильного»
знания, а скорее, напротив, созерцательность и самоуглубленность, заботу о самосовершенствовании, о
духовном единстве с природой и космосом, который снова, как у герметиков и платоников, начинают
мыслить как целостный живой организм, включающий человека. В отношениях с религией также
происходят процессы, ориентированные проти-
воположным образом, чем это имело место в конце Ренессанса и в начале Нового времени. Если тогда
религия выталкивалась из науки, то теперь она, скорее, приближается к ней, даже если принципиальное
различие между их языками ясно осознается как непреодолимое для них (но не для человека, ими
владеющего). Если тогда сама наука брала на себя функции религии, то теперь они снова начинают
возвращаться ей. Если в XVII в. речь шла о том, как за счет традиционной религии дать место науке как
новому лидеру в целостном культурном ансамбле, то теперь речь идет о том, как, не потеряв ценности науки
как познания, вернуть роль культурообразующего начала традиционной религии, возможно, с ее
трансформацией, с поворотами к нуждам и проблемам времени. Сама неудача науки как заместителя
религии требует такого возврата. Конечно, человек постмодерна должен при этом сохранить и науку, пусть
и без ее прежних оказавшихся непомерными амбиций. На заре возникновения новой науки ей и европейской
культуре в целом помог ее союз с христианством. Возможно, новый союз такого же типа будет
продуктивным и в период мировой смуты постмодерна.
Однако изжит ли на самом деле проект модерна? Задавая такой вопрос, надо обязательно уточнить, о
каком именно варианте этого проекта идет речь. Если о сциентоцентристской технократической утопии, то
она действительно кажется изжитой, по крайней мере в тех ее моментах, о которых мы сказали выше. Но
если иметь в виду религиозно-метафизические универсалистские варианты проекта модерна у Лейбница или
Коменского, то ситуация здесь иная. Их запас исторической прочности еще далеко не исчерпан и более того,
видимо, и не может быть исчерпан только земными и человеческими средствами. «Что мешает нам, —
писал Коменский во «Всеобщем совете...», — надеяться, что в конце концов все мы станем единым
благоустроенным сообществом, скрепленным узами одних и тех же наук, законов и истинной религией?»
[11:2:305].
Образ проекта модерна в наши дни двоится — он и исчерпан, не исполнив обещанного, и не исчерпан,
так как не осуществлено то вечное, что было в нем заложено... И то и то верно.
Библиография
1. Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994
2. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.
3. Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978.
4. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
5. Аверинцев С. С. Культурология Йохана Хёйзинги // Вопросы философии. 1969. № 6.
6. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
101
7. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.
8. Вебер М. Избр. произведения. М., 1990.
9. Визгин В. П. Границы новоевропейской науки // Границы науки. М., 2000.
10. Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
105-
-105
11. Каменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1982.
ПОЗИЦИЯ 2.2. ЖИЗНЬ И ЦЕННОСТЬ (ОПЫТ НИЦШЕ) — Визгин В.П. -
Концепты: жизнь, ценность, смысл
1. Тематизация жизни и ценности. Введение.
Превращение жизни и ценности в тематизированные источники философской мысли знаменует собой
мутацию классической традиции мысли Нового времени в неклассическое философствование, самым
значительным представителем которого был Ф. Ницше (1844-1900). Пространство классической мысли
определялось в первую очередь как пространство разума, озадаченного поиском достоверного знания.
Именно под знаком разума (естественного и божественного) и доступной ему достоверности классическое
мышление ведет свой дискурс, организует стройный и всеохватывающий интеллектуальный мир. И это в
равной мере характеризует все направления классической философии и прежде всего такие относительные
антиподы, как рационализм и эмпиризм. Это первый момент, который мы хотели бы подчеркнуть. Второй
состоит в том, что герои классической мысли, стоявшие у истоков ее традиции, персонифицированно
воплощали эти ведущие «знаки» классики — разум и достоверность. Таков прежде всего Декарт, в поисках
оснований рациональной достоверности экзистенциально (а не только логически) открывающий
трансцендентальную структуру мысли и сознания (принцип cogito).
Если теперь мы посмотрим на героев неклассической философии, обратившись к упомянутой фигуре
Ницше, то сразу же будем вынуждены признать, что открываемое им пространство мысли развертывается не
под «небесными» знаками разума и достоверности, а под «земным» знаком жизни и ценности. «Вопрос о
ценности, — пишет Ницше, — фундаментальнее вопроса о достоверности» [ 1:281 :фр.588. Цитирование
«Воли к власти» в дальнейшем ведется только с указанием номера фрагмента. Курсив в цитатах
принадлежит Ницше]. Но и при таком преобразовании исходных диспозиций мышления основоначала
новоевропейской философии остаются незадетыми: «Только субъект доказуем, — говорит Ницше, как бы
вторя своему историческому антиподу, родоначаль-
нику классического рационализма Декарту с его когитальным принципом достоверности, — «объект»
есть лишь известный вид действия субъекта на субъект... есть modus субъекта» [569]. Можно даже сказать,
что присущий классической метафизике субъективизм еще более радикализируется в философии Ницше,
что обнаруживается в характерном для нее ценностном подходе.
Существование в универсуме классической культуры теологического сверхсубъекта
ограничивало присущий ей субъективизм, вводило его в пределы гармонии человека и
мира, разума и действительности под знаком надежной перспективы прогресса научного
познания и основанного па нем рационального обустройства жизни человека. Поэтому не
случайно, что именно «смерть Бога», провозглашенная Ницше, стала символом конца
этой культуры.
Связь идеи ценности с метафизикой субъекта была подмечена Хайдеггером: «Как только, — говорит он,
— возникает идея ценности, так сразу надо признать, что ценности "есть" лишь там, где идет расчет, равно
как "объекты" имеют место только для "субъекта"» [2:98]. Но этот субъективизм, что характерно для
Ницше, разыгрывается в стихии языка жизни, от собственного имени которой ведется философствование
как витальная экзистенциальная миссия. Вхождение жизни в фокус философского вопрошания происходит
у Ницше одновременно с обесцениванием мира в результате утраты им цели, единства и самого бытия:
«Категории «цели», «единства», «бытия», посредством которых мы сообщили миру ценность, снова
изъемлются нами — и мир кажется обесцененным» [ 12А]. И проект Ницше в связи с этим обесцениванием
мира состоит в том, чтобы, отказав в доверии к основным категориям разума, вернуть миру ценность, но
уже в качестве неразумной жизни. Итак, с утратой миром смысла (ценность, с одной стороны, на первый
взгляд его обусловливает, а с другой — выступает как его деградированный синоним, чего не замечает
Ницше и о чем мы скажем в своем месте) в центр мысли попадает жизнь, а место разума и достоверности
занимают, соответственно, волям ценность.
Библиография
1. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 1994.
2. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
ЖИЗНЬ
2. Проблема ценности жизни: исторический контекст
Реакция на рационализм и оптимистический идеал цивилизационной стратегии прогресса возникает
102
уже в XVIII в. (Руссо, а затем и немецкие романтики). Особое значение для философии жизни Ницше
имел пессимизм Шопенгауэра, истолковывавший мир как проявление слепой воли к жизни. Не случайно,
что популярным Шопенгауэр становится в 1850-1860-е гг., когда возникает и распространяется
эволюционное учение Дарвина, вызывавшее уверенность в научной обоснованности рассмотрения мира как
жизни, а бытия как становления или эволюции. В целом это эпоха мутации общественных идеалов от
идеализма и романтизма к позитивизму, материализму и сциентизму. Ввиду распространения пессимизма
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
106-
-106
Шопенгауэра, а затем и Э. фон Гартмана в общественном сознании эпохи остро встает вопрос именно о
ценности жизни. Действительно, вместе с Кювье, Бэром, Дарвином и др. понятие жизни преодолело рамки
классической парадигмы в духе систематики Линнея и вышло в новые — физиологические и эволюционные
— измерения. Это переоткрытие жизни драматически напряженно переживалось в искусстве и литературе
эпохи (художественные исследования социальной «физиологии» и «генетики») и не могло миновать
философию.
В качестве типичной фигуры, репрезентирующей умонастроения этого времени, выступает Е. Дюринг с
его знаменитой книгой «Ценность жизни» (1865 г.- , 1-е изд.) [ 1 ]. Для того чтобы постичь творчество
выдающегося человека, порой бывает нужно найти его пусть упрощенное и грубое, но подобие.
Действительно, как и Ницше, Дюринг озабочен тем, чтобы дать героико-оптимистический ответ на ставший
интеллектуальной модой пессимизм по отношению к жизни, а значит, и к ее ценности. Необходимо, говорит
Дюринг, «выступить против оклеветания жизни, проложить пути к героическому пониманию жизни и к
героическому отношению к ней, а где нездоровье уже укоренилось, — там устранить вред, производящий
болезнь, слабость и малодушие-» [1:1]. Акцентирование героики жизни в рамках ее физиологистского
истолкования характерно и для Ницше. Горизонт Дюринговой мысли, опровергающей пессимизм, задан
такими оппозициями, как вред/польза, болезнь/здоровье, упадок/подъем, слабость/сила, вялость/бодрость,
жизнеотрицание/ жизнеутверждение. Подобный физиологический редукционизм характерен не только для
средней руки моралистов и публицистов эпохи, таких, как Дюринг или Нордау [2], но и для самого Ницше,
этого своевременно-несвоевременного мыслителя, во многом определившего мысль будущего, ХХ, века.
Мы лучше представим себе масштаб явления Ницше, если отдадим себе отчет в том, что его адекватное
понимание как раз становится невозможным на основе подобной установ-
ки. Действительно, мы видим, что, например, Нордау совершенно не улавливает значимости Ницше,
сводя все творчество мыслителя к литературно-философской иллюстрации врожденной душевной болезни.
Этот парадокс неузнавания своего своими служит верным индикатором того, насколько, несмотря на
указанную близость Ницше к своим популярным современникам, он превосходит их. Только приход нового
поколения — символистов и «декадентов» — знаменует собой серьезное и даже, возможно, чрезмерно
серьезное восприятие автора «Заратустры».
Имея все это в виду, присмотримся к Дюрингу поближе. Он выступает против припозднившегося
романтизма, нападает на мистицизм, борется с чрезмерным, как он считает, увлечением поэзией, древними
языками. Философский пессимизм для него — проявление жизненной вялости и пресыщенности, пасование
перед трудностями современной жизни с ее высокими требованиями. Шопенгауэровская философия для
него не более чем «буддистское суеверие» [1:2]. Фейербаховские мотивы Вагнера устраивают Дюринга, но
отталкивает срыв композитора в романтизм и эстетизм с его «обоготворением искусства», выступающим
для него симптомом упадка жизненных сил. Метафизике и идеализму он противопоставляет веру в
позитивное знание, ценное для него своей жизненно значимой пользой [1:29]. Позитивизм у него сливается
с материализмом и научностью. Конт и Фейербах — «величайшие умы XIX века». Все это, конечно,
напоминает Ницше позитивистского периода, последовавшего за его романтико-шопенгауэровскими
увлечениями. Но если Дюринг успокоенно и самодовольно популяризирует «истину» века, то Ницше,
воспринявший ту же самую школу, рвется за ее горизонт.
В рамках натурализма с характерным для него «законническим» истолкованием природы, согласно
которому законы природы — абсолюты, по отношению к которым жизнь человека выступает своего рода
развернутым в практику материального благоустройства культом, Дюринг определяет жизнь как «результат
деятельности сил природы», постепенно расширяющийся и охватывающий «все большую и большую
область» [1:39]. «Весь внешний мир, — пишет он, — представляет собой лишь средство для достижения
цели, какой является жизнь, как мы ее ближайшим образом понимаем, т. е. жизнь в смысле чисто
внутреннего мира» [ 1:39]. Философия жизни Дюринга не отличается глубиной и последовательностью.
Действительно, Дюринг, как мы видели, понимает жизнь как развивающийся органический мир и в этом
смысле вполне «внешний» феномен. Но в то же время он определяет жизнь как «внутреннее» начало,
фиксируемое в явле-
103
нии ощущения и сознания, обозначающих ту «область, где может идти речь о ценности существования» [
1:39]. С точки зрения научного материализма, на верность которому Дюринг приносит клятвы, он
непоследователен. Эта непоследовательность в конечном счете проявляется в том, что под пером В.
Зеньковского получило меткое название «полупозитивизма», т. е. неорганического соединения позитивизма
с моральными идеалами, с остатками автономной этики.
Действительно, именно моральный пафос заставляет Дюринга видеть в дарвинизме врага
оптимистического жизнеутверждения столь же, сколь и в пессимизме Шопенгауэра и Гартмана, которых он
клеймит хлестким словцом «философастики» [1:21]. Протест у Дюринга вызывает «деморализующий»
эффект, которым сопровождалось распространение идей Дарвина. «Общественная испорченность, —
говорит он, — убившая всякое взаимное доверие между людьми, нашла в учении о борьбе за существование
необходимое для себя теоретическое дополнение» [1:17]. Поэтому дарвинизм, равно как и мальтузианство,
это — «позорные страницы развития человеческой мысли». Но как увязан подобный моральный пафос с
материализмом — об этом Дюринг ничего не говорит.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
107-
-107
Кстати, именно этот этический пафос Дюринга, направленный против ставшей расхожей установки на
подозрение, адресованное миру высших ценностей (чему в немалой степени способствовал и Ницше вместе
с Марксом и затем Фрейдом), на наш взгляд, ничуть не устарел и сегодня, когда к старым редукционизмам,
устраняющим этическое измерение, прибавились различные новые или только кажущиеся таковыми. С
Ницше его сближает, напротив, пафос «интеллектуальной честности», определяющий своего рода этический
кодекс «честного исследователя» [1:26], призывающий к бескомпромиссной борьбе с предрассудками и
призраками, замыкающими витальную мощь человека в «метафизическом заколдованном круге» [1:26].
Что же именно, спрашивает Дюринг, повышает и что понижает ценность жизни? Для понимания
концептуализации проблемы ценности жизни важно, что в поле такого вопрошания сама жизнь становится
качеством, или предикатом, доступным градуированию, степени, измерению. Жизнь выступает, иными
словами, как «жизненность», что позволяет говорить о «степени жизненности существования» [1:42]. Такой
поворот мысли характерен и для Ницше, который также поставит жизнь в перспективу оценки степени ее
жизненности, стремясь найти для этого соответствующий критерий, долженствующий послужить ему
основой для формулирования новой шкалы ценностей. Однако на этом сходство с Ницше
кончается. Действительно, жизненность жизни человека для Дюринга определяется нормами трудовой
морали, упорядоченностью рационализированного быта, феминистскими установками, умеренностью в
стиле жизни, верностью республиканским и просвещенческим идеалам при устранении в качестве
ментальных установок романтизма, эстетизма и метафизики. Соответствующий же комплекс признаков
жизненности жизни у Ницше сильно отличается, несмотря на наличие отдельных общих черт, от подобных
общедемократических идеалов с сильным подмесом обыкновенного здравого смысла бодрящегося бюргера
эпохи «позднего капитализма».
Как же воспринимал сам Ницше Дюринга? Социалистические замашки последнего обусловили его
характеристику как «анархиста» [3:325] с признаками типичной «однодневки» (в чем Ницше был, в общем,
прав). Но у него имеется и более уничижительный отзыв о своем идеологическом конкуренте, с которым он
некоторым образом связан на манер амбивалентной пары братья/враги (freres-ennemies).
«Вообще он придает большое значение действию воздуха, — пишет о Дюринге его
биограф, — на себя и на свое семейство, поэтому он ищет для своего летнего
местопребывания наиболее высокие из обитаемых горных местностей, здесь нередко
остается он по нескольку месяцев» [1:XXXV]. Эта черта Дюринга на первый взгляд
удивительно корреспондирует с соответствующей маниакальной страстью Ницше к
уединенным горным тропам. Однако если у Ницше горы вызывали приступы
вдохновенного лиризма, чем они его в конце концов и привлекали, то у Дюринга они
прописывались ему его обнаученным здравым смыслом, напоминая о несокрушимом
педантизме немецкого профессора.
Дюринг сам, пишет Ницше, как «кусачий пес на привязи» отпугивает читателя от своей столь ревностно
охраняемой им философии [3:733]. Оставим эти выпады на совести Ницше. Уважение к Дюрингу как к
человеку они вряд ли могут поколебать. Ведь мы знаем, что в своей жизни Дюринг показал себя
удивительно мужественным человеком. Потеряв полностью зрение, он смог стать активным лектором и
влиятельным писателем-публицистом. Нотки ограниченности, самодовольства и пошлости, конечно,
звучали у него, на что так чуток был Ницше, как, впрочем, и Энгельс. Но отрицать личное мужество и
трудолюбие этого человека, оставившего свой след в истории немецкой культуры второй половины XIX в.,
мы не можем.
Библиография
1. Дюринг Е. Ценность жизни / Пер. Ю. М. Антоновского. СПб., 1894.
2. Нордау. Вырождение. М., 1995.
3. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
104
ЦЕННОСТЬ
3. Жизнь и ценность
Ставя вопрос о том, как связаны понятия жизни и ценности в философии Ницше, мы должны прежде
всего заметить, что Ницше философствует как бы изнутри жизни, целиком и полностью отождествляя себя с
ней — как бы жизнь при этом ни понималась. Непротиворечивой концептуализации жизни у Ницше,
вообще говоря, и не было и не только потому, что он не успел до наступления безумия докончить свой
главный теоретический труд. Напротив, есть основания предполагать, что сама невозможность
непротиворечиво концептуализировать свои видения и идеи могла ускорить этот срыв в безумие. Мы
должны отдавать себе отчет в том, что противоречия в логике построения философии жизни у Ницше
неизбежны в силу исходных несовместимостей в структуре его ментальных диспозиций и мотивов. Эта
ситуация нуждается в прояснении в дальнейшем. Теперь же отметим, что важнее, чем непротиворечивая
теория, сам факт экзистенциального отождествления себя со своей идеей — идеей жизни как воли к власти.
В качестве живого индивида Ницше разыгрывал роль персонифицированного воплощения своей
недоконцептуализированной «жизни» с ее «ценностями».
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
108-
-108
Столь же внутренне напряженно и органично переживает Ницше и свое самоотождествление с
европейской культурой в ее творческих истоках (как он их понимает). И суть всего феномена Ницше мы
видим в том, что в нем экзистенциально и интеллектуально отождествились если и не тождество, то
гармония жизни и культуры с их даже не просто различием, а полным несовпадением и враждой. Ницше
должен был в самом себе соединить несоединимое: тождество жизни и культуры и их же расщепление и
конфликт. Трещина мира прошла буквально по сердцу мыслителя-лирика. И по его мозгу тоже — буквально
и фигурально.
Раскроем эту ситуацию парадокса в комплексе «жизнь—культура». Культур-исторический идеал Ницше
всегда характеризовался отождествлением жизни и культуры.
Культурность культуры для Ницше, впрочем, меряется максимумом ее
антикультурности или природности (еще один парадокс). Культуру как результат
дрессировки жизненных инстинктов разумом и моралью он заключает в кавычки (как
«приручение»). Этот ход мысли сближает Ницше с Руссо [«Воля к власти» цитируется по
номеру фрагмента [684].
Исторически это отождествление определяла дионисийская традиция греческой культуры. Победа
аполлоновского начала в постсократическую эпоху обнаружила как раз трагический разрыв жизни и самой
культуры, ставшей культурой истины, морали, добра вмес-
то прежней культуры «жизненной жизни». Христианство только усугубило этот разрыв, вознесло его на
ступень крайней обостренности, реализовав культ антижизненного бога. Жизненным же богом был и всегда
оставался для Ницше Дионис. Но для большинства людей этот разрыв жизни и культуры никакой трагедией
не был. Напротив, он переживался скорее, считает Ницше, как моральный прогресс. Точнее, он даже и не
воспринимался как разрыв, а наоборот, в морали добра и разума, в рационалистической этике, в идеалах
платонизма и христианства (христианство, по Ницше, это «платонизм для народа») жизнь переживалась как
стихия, долженствующая подчиняться нормам высших ценностей, конечным источником которых в
христианстве считался трансцендентный Бог. Иными словами, то, что для Ницше выступило кричащим
разрывом, направленным против ценностей жизни, для большинства людей обнаружилось как закономерное
подчинение высшему низшего (жизни — разуму, земли — небу, воли — рассудку, твари — Творцу). По
Ницше, ситуация такого как бы двойного разрыва (Христос довершает дело Сократа) и служит истоком как
опасного упадка самой жизни (причина декаданса), так и упадка культуры (сам декаданс).
Особенно остро все это раскрылось, говорит философ, в XIX столетии, в век демократической
цивилизации прогресса. Он отмечает в связи с этим рост противожизненной эрудиции («филистер
образования» как социальный феномен, его примером, по Ницше, служит крупный ученый Штраус),
всеобщую механизацию жизни, превращение людей в «винтики» социальных и производственных машин,
делающих их частичными людьми (здесь сходство с Марксом бросается в глаза), падение силы творчества
и, напротив, восхождение реактивных талантов, умаление достоинства индивида, наконец, та самодовольная
пошлость и стадность, в язвительных выпадах против которых Ницше солидаризируется с другими
критиками буржуазной цивилизации (например, с К. Леонтьевым).
Свою миссию как спасителя культуры и, главное, целителя жизни Ницше видит в том, чтобы
восстановить живое тождество жизни и культуры примерно так, как оно наличествовало, по его мнению, в
досократической Греции, в культуре, развертывающейся вокруг дионисийских мистерий. Следуя зову такой
миссии, Ницше выдвигает свои ключевые идеи-символы, идеи-мифы (сверхчеловек и вечное возвращение).
По отношению к ним идея воли к власти выступает как более доступная для последовательной
наукообразной концептуализации. Правда, подобному замыслу в полной мере сбыться не удалось. Его мифы
и философемы, crescendo рвущиеся к последней ясности воплощения, в том числе
105
миф о бесцельной жизни как о хаосе борьбы центров воли к власти, не способствовали его душевному
равновесию и здоровью. Исповедуя «всемирную дробность» враждующих сил, ставя под сомнение всякий
единящий смысл, высмеивая логику и пародируя традицию, дезавуируя истину в пользу заблуждения,
превознося иллюзию и силу в ущерб разуму и праву, Ницше не мог не надорваться в этой претенциозной
активности, нацеленной на то, чтобы в условиях такой онтологии дать человеку новые ценности, способные
воодушевить его на твердое «да!» абсурду бытия.
Сделав эти необходимые, рамочного типа замечания, обратимся теперь к раскрытию тех концептуальных
ходов, явно сделанных Ницше, в которых обнаруживается его понимание жизни, ценности и, главное, их
связи. Уже при первом существенном вопрошании о соотношении принципа жизни с принципом воли к
власти мы сталкиваемся со своего рода крутом и противоречием. Действительно, Ницше явно
истолковывает все сущее (бытие) как жизнь. Именно жизнь, и только она, для него единственно
приемлемый образец и масштаб для понимания и оценки того, что значит существовать. «Бытие — мы не
имеем никакого иного представления о нем, как: «жить». Как же может «быть» что-нибудь мертвое?» —
вопрошает он [582]. Само бытие мертвого представимо только через бытие живого, через жизнь. Мертвое
постигается как безжизненность — как оцепенение жизни, над которым еще витает ее отблеск, доносящий
до нас саму идею мертвого. Это тезис виталистической онтологии и метафизики. Действительно, жизнь
выступает как центр мысли философа. Она не подводится безоговорочно и под понятие воли. Ницше
восстает против шопенгауэровской метафизики воли, выступая адвокатом жизни («Сумерки идолов», 1888).
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
109-
-109
Казалось бы, примат жизни установлен безоговорочно и окончательно. Но Ницше верен себе и здесь —
своей неуловимости. Он хочет быть не только философом жизни, но и метафизиком воли к власти. И в
соответствии с этим жизнь оказывается лишь одной из форм воли к власти. «Жизнь, — говорит он, — есть
частный случай, нужно оправдывать всякое существование, а не только жизнь, оправдывающий принцип это
такой, из которого объясняется жизнь» [706]. И что же это за высший принцип? Это, очевидно, принцип
воли к власти, действительно явно получающий у Ницше все признаки метафизического, т. е. последнего
основания и принципа. Так, например, говорит он, «воля к власти не может возникать» [690]. «Жизнь, —
подчеркивает мыслитель, — только средство к чему-то: она есть выражение форм роста власти» [706].
Сведение жизни к одному из частных проявлений роста воли к власти явно противоречит тому, что
утверждалось как виталистическая он-
тология, когда бытие не-живого отрицалось однозначным образом. Нет, говорит теперь Ницше, есть и
неживое, подводимое под более общий принцип, чем жизнь — под принцип воли к власти. Такова вся
неживая природа, в которой тоже действует этот принцип.
Итог этим противоречивым высказываниям философа мы могли бы подвести таким образом: в
основании философии жизни Ницше лежит метафизика воли к власти. Философствование и метафизика
здесь не совпадают в бесконфликтном тождестве, как это обычно предполагается для классической
традиции. Эмоционально, экзистенциально Ницше — с «жизнью», он сам себя мыслит и воображает
средоточием жизни, ее искупителем и целителем. Но как интеллектуальная категория жизнь у него
подчинена концепту воли к власти, играющему роль последнего основания метафизической системы. Здесь,
в текстуре самой мысли Ницше, мы видим, как расходятся у него экзистенциально-личностная
самоидентификация, с одной стороны, и интеллектуально-понятийная — с другой. Но, опять-таки, это не
означает, что жизнь у Ницше не концептуализируется. Ницше сознательно выбирает определенную форму
биологистического принципа для наполнения своего витализма. И здесь опять ведущим мотивом выступает
выбор культур-исторического идеала, осознание Ницше своей миссии как воскрешения изначальной
«культурожизни» или «витокультуры», о чем мы уже сказали выше.
«Школа Дарвина», безусловно, не могла не повлиять на Ницше, особенно в его позитивистский период.
Но в 1880-е годы он приходит к другому пониманию жизни, не без влияния такого биолога, как В. Рольф,
подчеркнувшего ограниченность мальтузианской схемы для понимания жизни и неизбывность борьбы «за
умножение жизни», а не за выживание, которая должна была бы прекратиться там, где жизни живого
существа уже ничего не грозит [1:74-88]. Но главным фактором выбора недарвиновского биологистского
принципа была не критика дарвинизма философствующими биологами вроде Рольфа, а, как мы сказали,
витокультурная миссия, носителем которой осознавал себя Ницше. Биологический принцип должен
говорить не о сохранении жизни через пассивную адаптацию к среде как норме поведения, а наоборот, о ее
рискованном расширении, стремлении к усилению, подъему, росту власти и творческому господству над
средой. Только такого рода биологизм может быть сублимирован, считает Ницше, в новые высшие
ценности. Литературной иллюстрацией подобного биологизма выступает Заратустра, «всегда
пародировавший прежние ценности, опираясь на избыток своих сил» [2:296]. В связи с такими
ориентациями Ницше резко критикует механицистскую подоплеку дарвинизма: «Влияние "вне-
106
шних обстоятельств", — пишет он, — переоценено у Дарвина до нелепости: существенным в процессе
жизни представляется именно та огромная созидающая изнутри формы сила, которая обращает себе на
пользу, эксплуатирует "внешние обстоятельства"» [647].
Однако механицизм, и притом самый чудовищный, возвращается у него вместе с идеей
вечного возвращения: саморазорванность разума или самопротиворечивость, по истине,
рок этого мыслителя.
Направление эволюции должно определяться, по Ницше, не экономией и приспособлением, не триумфом
посредственности и стадности, а ростом способности к самой щедрой творческой трате жизненных сил.
Такой тип биологизма свидетельствует о никогда не умиравшем у Ницше дионисизме его общего куль-тур-
исторического идеала, в соответствии с которым именно трата сил на гребне их бурного творческого
подъема выступает как критерий жизненной ценности культуры и индивида. Главное в жизни, как ее
понимает Ницше, не в том, чтобы приспособиться, механически перегруппироваться, «смимикрировать»
умно и ловко, чтобы удержаться на поверхности, а в том, чтобы сотворить новое, более высокое, более
полное могущество. Это биологизм эстетизированной мощи, безудержности творческой силы. Если даже
подобного рода научной биологии и не существовало, то для Ницше тем не менее важно, чтобы биология
как знание о жизни воспринималась как мораль, а ее законы как каноны сознательной установки живущего,
который должен персонифицировать себя с самой сущностью живого. Здесь опять мы отмечаем некоторую
аналогию с Марксом, который хотел из объективных законов политической экономии сделать своего рода
моральный кодекс революционера. Подобно ему Ницше стремился перевести научные необходимости
биологии в план сознания и свободы человека, сделать их мировоззренчески-мотивационным его ядром.
При этом они, конечно, модифицировались, что и проявилось в его критике дарвинизма. Ницшевский
витализм изначально активистичен и аксиологичен, что отличает его от витализмов прежних эпох, в
которых жизнь понималась как космическое явление, например, от витокосмизма Платона или Бруно.
С понятием жизни, как было сказано, связано понятие ценности, одно из основных у Ницше. В основе
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
110-
-110
операции оценивания лежит своего рода аксиологический круг: придавать ценность чему бы то ни было
может то, что самоценно. Иными словами, ценность должна быть предположена, что, вообще говоря, уже
противоречит идее ценности как именно тому, что полагается лишь в отношении к чему-то (перспективизм).
Самоценна же, по Ницше, говоря метафизичес-
ки, воля к власти, а говоря социологически, аристократия. Оценка — прерогатива господ. Знатные люди
как бы в силу своей знатности (их знают потому, что они знают суть жизни) знают вещи в их сути (суть их в
некотором смысле, по Ницше, в том, что «сути» нет, по крайней мере в смысле классической метафизики) и
поэтому могут их оценивать, причем их жизненная мощь способна принудить к принятию их оценок других
людей и тем самым установить в обществе витально оправданный и эстетически значимый порядок. Вкус
знати выступает у Ницше легитимным законодателем культурных предпочтений общества. Сама
жизненность жизни, персонифицированная в фигуре аристократа, благородного представителя касты господ
— над собой и над другими — и есть источник ценностей, их полагания и созидания.
Если на уровне последнего метафизического основания употребление Ницше понятий жизни и воли к
власти и создает видимость некоторого дуализма, то при переходе на уровень анализа понятия ценности мы
убеждаемся, что эта двойственность иллюзорна. Действительно, ценность есть в равной мере
характеристика и жизни и воли к власти. Категория ценности следует из таких онтологических предпосылок
Ницше, как замена вещей или субстанций динамическими центрами сил, вступающими друг с другом в
отношения борьбы, соперничества, использования, подчинения и т. п. Ценность — характеристический
сущностный атрибут воли к власти как метафизического принципа. «Все оценки, — говорит Ницше, —
только следствия и более узкие перспективы на службе у этой единой воли. Само оценивание есть только
эта воля к власти» [675]. Кстати, «единство» воли следует как раз поставить под сомнение. О единстве воли
можно говорить, пожалуй, применительно к учителю молодого Ницше — к Шопенгауэру. Но не к позднему
Ницше. Воля к власти у него, напротив, множественна, дробна: «Каждый центр сил, — говорит он, — имеет
по отношению ко всему остальному свою перспективу, то есть свою вполне определенную оценку, свой
способ действия, способ сопротивления» [567]. Если в живописи прием перспективы состоит в
упорядочивании предметов по придаваемым им линейным размерам ради показа их дистанции от
наблюдателя, то в метафизике воли к власти каждый центр такого рода выстраивает вокруг себя целый мир
ради роста своей власти в борьбе с другими подобными центрами. Перспектива у Ницше — своего рода
табличный результат расчета полезности вещей для некоторого витального центра сил. Когда Ницше
говорит, что «применение морального различия имеет лишь значение перспективы» [272], то он хочет этим
сказать, что моральных «вещей» не
107
существует, что мораль существует только как оценка, как эффект перспективы для определенного
центра воли к власти. Иными словами, перспективистская природа морали лишает ее какой бы то ни было
онтологической значимости. Бытие, по Ницше, имморально, «по ту сторону добра и зла». Итак,
перспективизм центров сил, ведущих себя если и не как настоящие живые существа, то явно
жизнеподобным образом, и полагает условия для того, чтобы в мире возникали и действовали оценки.
В самом общем виде можно сказать, что ценность есть характеристика избирательности действия
принципа жизни как воли к власти. Уже сам мир качеств есть поставленная под перспективизм реальность
воли к власти. В этом смысле аксиологизм ницшевской картины мира вытекает из реляционизма: каждое
сущее видит другое сущее глазами своего витального интереса. И истин столько, сколько глаз.
Следовательно, заключает Ницше, истины не существует. Но подобный релятивистский тезис
противоречив: как тезис он имплицитно признает истину, которую эксплицитно отрицает. Противоречие
гносеологии Ницше можно выразить еще и так: он стремится элиминировать понятие истины, сохранив,
однако, при этом его противопонятие — заблуждение. Фактически он заменяет эти основные классические
гносеологические категории идеей ценности и перспективизма, выступающей для него своего рода тараном
против классической философии в целом. Если оценки являются решающим фактором в вопросе об истине,
то это значит, что ими же определяется и то, что зовется реальностью. «В какой мере отдельные теоретико-
познавательные учения (материализм, сенсуализм, идеализм) являются следствиями оценок: источник
высших чувств удовольствия («чувств ценности») является решающей инстанцией также и для проблемы
реальности!» [580]. Не разум с его объективной истиной, а именно «чувства ценности» или жизненной
пользы, витальным смыслом нагруженные аффекты суть своего рода «окна» в реальность. Критерий
истины, а значит, и реальности, — говорит Ницше, — исключительно «биологическая полезность» [584].
Однако биологицистская подоснова оценивания должна быть проинтерпретирована. И Ницше это делает
в рамках своего недарвинистского принципа направленности эволюции, определяющего в то же время
жизненность жизни. В соответствии с ним ценностно организованный мир, «урегулированный и
подобранный по ценностям», это мир, рассматриваемый с точки зрения «полезности в смысле сохранения и
возвышения власти определенного зоологического вида» [576]. Биологический масштаб для конкретного
построения мета-
физики воли к власти здесь очевиден. С одной стороны, частно-научное биологическое знание
превращается тем самым в метафизическое философское учение, а с другой — оно явно деформируется
Ницше благодаря учету его транснаучных императивов и требований, прежде всего требований его культур-
исторического идеала, эстетизма его мировоззрения, против которого позитивистски-сциентистские
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
