Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
131-
-131
государства, в том числе и при демократическом государственном оформлении вроде бы гражданского
общества промышленно развитых стран. Иными словами, даже в этих странах доля власти (т. е. органов и
субъектов управления людьми, а не делом) не уменьшилась, что было бы ес-
тественным для действительно гражданского общества. Она явно возросла по сравнению с долей
деловых гражданских инициатив и в сфере бизнеса, и в самом производстве, и тем более в социокультурной
сфере.
Прежде всего, заметно ужесточен и структурно развит контроль бюрократии за организацией научного
обеспечения (в том числе, если не в первую очередь, фундаментальной наукой) растущих по экспоненте
нужд властных госструктур (разветвленный госаппарат, ВПК, полицейские и прочие карательные
подразделения и т. д.). Весьма солидные государственные вложения в фундаментальные исследования, в
индустрию утилизации фундаментальных открытий, работающую на основе так называемых прикладных
областей науки, задают техногенный и технологичный вектор развития науки в целом. Что также
способствует обособлению друг от друга частных областей знания, явно ориентированных на технологию
утилизации научных открытий. Этому же способствует своекорыстное посредничество органов и субъектов
власти между материальным производством и всем миром духовной культуры, и без них друг в друге
кровно нуждающихся, что также является весьма значимым фактором технологизации, прежде всего
прикладных областей научного познания.
Учитывая эти факты и краткие комментарии к ним, можно сделать предварительный вывод, способный
вызвать несогласие и даже возмущение исследователей органичного единства фундаментальных и
прикладных сфер науки.
Давно уже принято «делить науку» на три взаимосвязанные, взаимозависимые «части»:
фундаментальную, экспериментальную и прикладную. В последнее время не без основания называется и
четвертая — инженерно-конструктивная. Аргументы для такого дополнения весомы: во-первых, все чаще
острые, требующие теоретического решения проблемы возникают не в лабораторном эксперименте, а при
разработке технических, а то и непосредственно промышленных конструкций. Последние никак нельзя
назвать прикладными, то есть непосредственно «прикладывающими» к решению чисто конструкторских и
инженерных задач радикальные математические и логические преобразования уже имеющихся средств
понимания самой сути фундаментальных проблем, что просто невозможно сделать до тех пор, пока
истинные «прикладники» не дадут теоретико-предметного истолкования результатов этих преобразований,
но зато они не работают над инженерными проблемами их утилизации (см.: Позиция 3.3).
Таким образом, часть ученых решает общие, основополагающие проблемы данного предметного поля.
130
Им помогают те, кто способен экспериментально проверять первичные гипотезы первых. Другая группа,
гораздо более многочисленная, решает проблемы, возникающие при обосновании теории прикладного
использования фундаментальных открытий. При этом ей требуется помощь и «фундаменталистов», и
«экспериментаторов». Только они способны объяснить суть их проблем. И — опять-таки — помочь они
могут не чем иным, как обращением к логике теории, сформулированной первой и проверенной второй
группой ученых (как правило, буквально: выраженной математической формулой). А теоретически
образованные в данной области знания конструкторы, инженеры и эксплуататоры сконструированной по их
теории техники могут быть особо выделены в четвертую группу.
Если принять такое деление научной работы по ролям и функциям разных групп, обеспечивающих ее
общее дело, то спорить нам вроде бы и не о чем. Уточнения возможны при толковании функций и роли двух
первых исследовательских групп. Например: «прикладники» — это кто: экспериментаторы в лабораториях
тех же НИИ, что называется, «на подхвате», участвующие в работе «фундаменталистов»? Или те физики,
прототипом которых в кинофильме «Девять дней одного года» стал неуемный Гусев и его коллеги,
работавшие на гигантском ускорителе протонов, построенном по фундаментальной идее другого физика?
В том же фильме его сыграл Иннокентий Смоктуновский. Кстати сказать, этот герой в полном
соответствии с истинным разделением труда у современных физиков по сценарию кинофильма плохо
разбирается в работе синхрофазотрона.
И в какую группу нам отнести физиков-конструкторов, в полном соответствии с идеями теоретика и
прикладника спроектировавших требуемый ускоритель? И тех кандидатов и докторов физических наук, кто
годами выполняет функцию едва ли не лаборантов, снимая и истолковывая «информацию» с результатов
каждого включения ускорителя. Тогда, даже учитывая общественное разделение труда, не стоит забывать,
что в промышленном сооружении таких вот научных приборов участвует индустрия всей страны,
требующая от «рабочего класса» не только мастерства, но хотя бы и самого общего понимания задачи.
Так при простом описании наличных реалий современной научной работы наука работает на всех, все
работают на науку. Или это обещанное Марксом «обобществление труда»? Но может показаться, что не так
уж и важно сегодня — кого и к какой группе отнести. Можно было бы и не придавать этой
«науковедческой» проблеме особого смысла, если бы не... фундаментальные разногласия с традиционным
преставлением о пути
и средствах человеческого познания мира, скрытые за общепринятой структурализацией лишь одной из
деятельностей людей — научной. Что не случайно. Как раз в этом и стоит разобраться...
Европейский рационализм в двуединстве своих крайностей — эмпиризма и рационализма — полагал
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
132-
-132
процесс познания как работу друг на друга Разума и Опыта. И сегодня не столь важно, кто и какому из этих
двух «слагаемых» отводил тогда — в XVII-XIX вв. — ведущую роль. Важнее другое: и сегодня ведущие
старатели Science of Science, как и многочисленные методологи науки, слагают в единый процесс лишь
опытную (эмпирическую) и фундаментальную (чисто рациональную) «части» научного познания, дробя
первую на разные подгруппы. При этом господствует описание и генерализация наличных средств,
способов и форм работы людей науки. Это — единственный прием осмысления научного познания как для
самих ученых, так и методологов науки. При этом современные наследники эмпирико-рационалистического
представления о научном познании и сегодня только научному, никакому иному познанию отводят
исключительное право и общественную обязанность представлять пути и логику человеческого познания
вообще, ставя тем самым всю культуру человеческого бытия на узкий для нее фундамент науки и техники.
Поэтому к эмпирическим констатациям и обобщениям следует присмотреться внимательнее.
Например: неразрывная взаимозависимость прикладных и фундаментальных областей науки
используется нередко как аргумент в защиту эмпиризма: фундаментальная наука базируется на опыте,
включая в него все прикладные и технические осуществления теории.
Но можно ли сомневаться в том, что к фундаментальной науке непосредственно относится ее
лабораторно-экспериментальная область: ведь она — часть поисковых преобразований всего арсенала
средств теоретической деятельности?
Однако на протяжении веков опыт и эксперимент уверенно противопоставлялись и Божественному
Откровению, и человеческому пониманию, и вообще мыслительной работе как таковой. Что же сегодня
можно признать экспериментальной частью фундаментальной науки? Эмпирист настаивает на том, что
новые фундаментальные идеи рождаются, как правило, при попытке объяснить парадоксальные и
необъяснимые результаты хорошо поставленного эксперимента, а то и причины трудностей технического
решения промышленных задач. Курсивом выделенная и бесспорная добавка к «хорошо поставленному
эксперименту» вроде бы должна кардинально изменить классическое
131
соотношение чувственного опыта и разума. Недаром еще в самом начале прошлого века поэт Александр
Блок убеждал человечество: в машине дышит интеграл. С тех давних пор машины так внезапно и так
основательно «поумнели», что термин искусственный интеллект прочно вошел не только в обыденное
сознание, но и сам в качестве исследуемой реальности стал предметом экспериментального изучения. Сей
факт буквально кричит о необходимости иного взгляда на предметное поле теоретического мышления и
чувственного опыта.
Далее. При «стратификации» научных подразделений, весомо и зримо отделившихся друг от друга в
пространстве и времени научного поиска, должно было бы стать само собой разумеющимся: основанием
научной истины служит не опыт и не эксперимент, если они используются в достаточно расплывчатом
смысле непосредственного знания. В таком смысле они оба фигурировали лишь в описаниях кабинета
доктора Фауста, «башни из слоновой кости» или университетской лаборатории. Хотя уже там они
сплетались воедино с целенаправленным преображением средств полагания смыслового основания всего
арсенала собственно теоретической мысли. Однако и сегодня на роль «непосредственного знания»
претендуют... тот же опыт и тот же эксперимент, так же точно противопоставленные творческому
интеллигибельному воображению ученого-фундаменталиста, но то ли вобравшие в себя прикладную и
инженерно-конструкторскую сферы научной деятельности, то ли растворенные в них.
Иными словами, и сегодня на роль чувственно непосредственного знания фактов бытия, осмысливаемого
научным разумом, равно претендуют и лабораторный эксперимент, и технические решения промышленных
задач. Нетрудно заметить, что они же претендуют и на роль источника знания, по-прежнему изначального
для логических, математических и языковых форм фундаментальной работы с якобы рационально
идеализированными фактами опыта, и на роль судьи, оправдывающего или осуждающего результаты этой
работы.
Современный эмпирист оставил фундаментальной науке ту часть экспериментально добытого
непосредственного знания, которая и по существу, и институционально ближе кабинетным ученым,
способным на листке бумаги в преобразовании математических формул разглядеть неведомые доселе
природные закономерности. Куда ж ему деваться: ведь и сегодня в целом ряде природоведческих наук — в
химии или в генетике, например — весьма значима скорая лабораторная проверка очередной безумной идеи
теоретика-фундаменталиста.
Он же вынужден был приблизить к ней технику и индустрию. Но тогда по его же логике получается, что
и кафедральные, и институтские эксперименты, как и лабораторные исследования, институционально
оформившиеся в отдельные исследовательские лаборатории, нельзя относить ни к прикладной части науки,
ни к ее фундаментальной части. Ибо познавательная работа ведется в них планомерно и целенаправленно на
подтверждение или опровержение неких всеобщих идей, что как бы по старинке «включает» их в разряд
фундаментальных наук. Только ведь не в меньшей мере, и нередко (если не сказать: как правило) они
целенаправленно работают... на возможность их непосредственной практической утилизации!
При этом в построениях методологов науки прикладной и утилитарной ее сферам тут же достается
знаменитая «роль практики», которая и для американских прагматистов, и для советских марксистов-
ленинцев была столь же решающей проблему истины, как и опыт для классических эмпириков. Правда,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
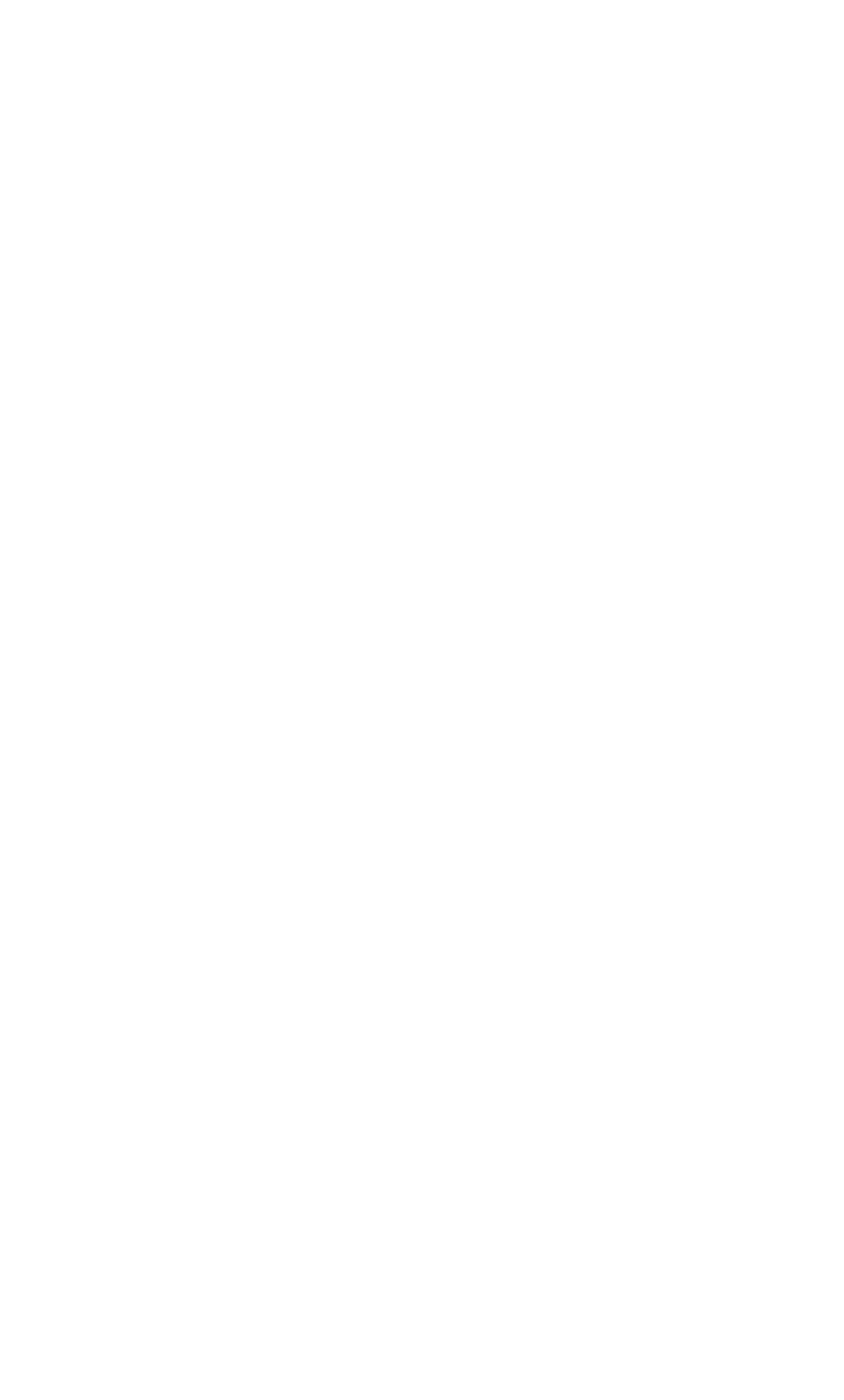
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
133-
-133
старый эмпиризм, еще не имевший дела с прямой и непосредственной утилизацией фундаментальных
открытий, видел проблему лишь в том, что же следует признать основанием понимания сути вещей — опыт
ли (наблюдение, эксперимент, испытание природы), или откровения рефлексивного Разума.
Последовательный рационализм Декарта — Спинозы — Лейбница породил продуктивные идеи панлогизма
в двух основных его формах: абсолютного идеализма и логического позитивизма — с выходом последнего
на логицизм, в ХХ в. блестяще «утилизированный» глобальной информационной индустрией. Но беда
современных рационалистов в том, что в сфере философской рефлексии на исторические причины
проникновения фундаментальной науки во все сферы человеческого бытия они исповедуют все тот же
рассудочный эмпиризм, в крайних случаях с эклектическими вариациями.
Предоставим же последователям эмпиристского рационализма изворачиваться при расстановке
приоритетов по отношению друг к другу фундаменталистов, опытников, прикладников, конструкторов
экспериментальных и одновременно — индустриальных монстров, в коих онаученного «интеллекта» с его
интегралами и байтами по крайней мере не меньше, чем в головах большинства эмпириков и эмпиристов.
Настало время дать прямой ответ на серьезный вопрос: чем же отличается предметное поле
фундаментальной науки от предметных полей ее же обособившихся приложений? Приложений к реальной
особенности его фрагментов, обнаруженной... благодаря новым средствам, способам и формам
теоретического мышления, изобретенным фундаменталистами. Правда, с первой попытки ответить на него
легко сделать роковую ошибку, невольно следуя за классическим эмпирическим ра-
132
ционализмом или, что то же самое, за рационалистическим эмпиризмом.
Тем более что чаще всего она и делается как раз при несгибаемой уверенности в том, что предмет
обособившейся научной отрасли эмпирически задан проникновением опыта и эксперимента в неизвестные
ранее глубины сущего. Вот так, мол, и физика как общая дисциплина своим предметом считает реальные
процессы в объективном мире материи, какими бы реалиями — процессами и состояниями — она ни
открывалась перед нами. Но каждый особенный уровень их целокупности и цельности изучается отдельно:
механикой макротел, жидкостей, газов — вплоть до астрофизических «приложений» к классической
механике.
Следуя канонам классического и неклассического эмпиризма, так же можно рассуждать и о химии, и о
генетике, и о любой другой науке, чьи фундаментальные теории имеют свой предмет, а частные
производные от него — свою особую теорию со своим собственным предметным полем. Обратимся, однако,
от описания картины к реальной истории ее написания...
Нет смысла спорить с фактами, взятыми из истории науки (физики, например). Внешне все так и было: и
опытное обнаружение радиоактивности, и опыты Майкельсона в горах Америки, и лишь после того —
работы фундаменталистов, начиная с общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Хотя можно
было бы упомянуть и про логическое противоречие в объяснениях природы света, Например:
фундаментальность контроверзы Ньютон — Гете. И так далее, вплоть до уравнений Лоренца.
Однако прежде стоит иначе подойти к проблеме структурализации научной деятельности и научных
выводов (знаний). В том числе — и к вопросу о предметных полях фундаментальной, экспериментальной и
«прикладной» наук. Но для этого следует на некоторое время забыть об эмпирии такой науки, как история
науки (не о реальной истории самой науки — истории постоянного преображения ее теоретиками средств,
способов и форм мыслительной собственной работы, а о череде событий, интерпретация которых к тому же
подчинена эмпиристской логике), и начать поистине сугубо теоретически, то есть рефлексивно — с поиска
фундаментального основания любой науки, любого искусства, любой осмысленной человеческой
деятельности — словом, с основания любой возможной фундаментальной теории. Фундаментальной для
понимания культуры человеческого бытия.
Библиография
1. Визгин Вл. П. Эйнштейн и проблема построения научной теории... // Вопросы философии.
1979. №10.
2. Гете И.В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.
3. Декарт Р. Космогония. Два трактата. М.-Л., 1934.
4. Декарт Р. Рассуждения о методе. М., 1953.
5. Лейбниц Г.В. Полемика Г.В. Лейбница и С. Кларка по вопросам философии и
естествознания. Л., 1960.
6. Маркс. Экономические рукописи 1857—1861гг.: В 2 т. М., 1980.
7. Ньютон И. Оптика, или Трактат об отображениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света.
М., 1927.
8. Спиноза Б. Философские произведения: В 2 т. М., 1998.
ТЕОРИЯ
3. Естественные и гуманитарные теории.
Принято считать, что естественные и гуманитарные науки столь неизбывно отличны друг от друга
прежде всего из-за разницы в мыслимых ими предметах, а следовательно, и в объективных способах
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
134-
-134
образования этих предметов. Наиболее убедительно, на мой взгляд, этот тезис был обоснован
неокантианцами, и в частности В. Виндельбандом и Г. Риккертом. Надеюсь, что нет необходимости заново
доказывать утверждаемое ими. Но будет не лишним напомнить идеи, идущие от самого И. Канта, но
развитые его же критикующими последователями.
Итак, природа до человека, без человека и при человеке безнадежно объективна. Это значит, что все
образуемое природой в качестве наличной реальности, сам процесс формирования данной реальности и
каждая ее «деталь» может осознаваться естественной наукой лишь как нечто от человека не зависимое,
ничего человеческого в себе не несущее — ни идей, ни помыслов, ни эмоций, ни идеалов, ни совести. Любая
попытка того же физика, например, примыслить нечто субъективное к открываемой инвариантности
взаимодействия элементов изучаемой им физической реальности тут же превратит формулу этой
инвариантности в нечто бессмысленное. Невозможно представить себе, что в формуле закона всемирного
тяготения наряду с эмпирически необходимым иногда коэффициентом гравитации вдруг возникнет
коэффициент познаваемости или коэффициент ценности данного закона в сравнении с другими законами
механики. (Знающий историю физики ХХ в., возможно, подумает: разве пресловутый принцип
неопределенности Гейзенберга не есть нечто подобное коэффициенту познаваемости?)
Вся история людей и каждый акт их жизнедеятельности безнадежно субъективны. А все естественное,
природное, все объективное в человеке вторично по отношению к силам, способам и средствам его
субъективности, ибо только они реально обеспечивают само его физическое существование. Иными
словами, уче-
433
ные, стремящиеся осмыслить и понять основу бытия человеческого, а на этой основе — причины и
законы творимых людьми событий, вынуждены изначально и сами субъективно судить о мыслимом ими
мире человека. Представителям этих наук приходится volens nollens мыслить о мысли, чувствовать чувства,
напрягать свою волю при попытках понять суть волений... Короче: осмысленно переживать все эти и
прочие, свойственные человеку... переживания...
Добавлю к сказанному, что те же неокантианцы, в частности — тот же Генрих Риккерт, ввели в культуру
философской мысли, а следовательно, в духовную культуру вообще, идею, на первый взгляд в чем-то
сближающую (при сохранении непроходимой пропасти между ними) естественные и гуманитарные науки.
Он утверждал, что в естественных науках нашей объективной целью и — одновременно — не менее
объективным средством служат знаемые законы природы, помогающие понять все в ней происходящее. Но
и в науках о человеке мы имеем дело с тем, что столь же, как и законы природы, управляет человеческими
помыслами, воображением, волей и поступками... хотя оно именно людьми субъективно порождается,
субъективно ими переживается. А именно — с нетленными общечеловеческими ценностями.
И все же главное для неокантианцев: суровый вывод о принципиальном различии всех естественных и
всех гуманитарных наук. Приговор этот не отменяется тем фактом, что и те, и другие, и все мы способны
прочувственно осмысливать... только чувственно мыслимое. Этот тезис, многократно обсуждавшийся и
непоколебимо утверждавшийся в философии от Платона до Гуссерля и Витгенштейна, труднее всего
воспринимается подавляющим большинством слушателей и читателей, независимо от уровня их
философской и общей культуры. Но факт есть факт, и его нельзя обойти: мыслится только мыслимое.
Принять сразу его нелегко. Ведь мы видим именно Солнце, чувствуем его ослепительно яркий жар,
следовательно, воспринимаем и осмысливаем не то, что нам тепло или жарко, ярко, кругло, не собственные
чувства и мысли, а реально существующее Солнце. Столь же трудно не принимать во внимание и научные
знания о величине светила, о его физической сути и о расстоянии, отделяющем нашу планету от этой в
общем-то и не очень крупной звезды. Трудно, но в данный момент нужно...
И не для вящей славы Дж. Беркли, неокантианцев, да и вообще всей философской братии. Тем более что
никто из них, включая Беркли, не сомневался в реальном существовании объективного мира, как не
сомневается в реальном существовании Солнца любой из нас, как верующие не сомневаются в объективном
существо-
вании Бога. Никто из них никогда не считал и не считает собственное или общечеловеческое
смыслочувственное восприятие мира единственной реальностью бытия. И все же мыслить мы можем только
мыслимое.
Чтобы отнестись непредвзято к этому утверждению, нужно посмотреть на субъективность человеческого
бытия и объективность мира не взором созерцателя, как бы со стороны относящегося отдельно к миру и
отдельно к себе, в нем присущем. Прежде всего стоит воспринять и осмыслить то, что их неразрывно
связывает, — способ и средства их взаимосвязи, порождающие их друг для друга: мир — как
воспринимаемый и осмысливаемый, человека — как способного мыслить и воспринимать. Ибо: чтобы
признать мир существующим вне меня, признав это на обыденном или на теоретическом уровне, надо
удивиться своей способности сознавать внешнее со-образ-но его реальности. И тогда придется признать:
нельзя сообразить (осмыслить), если не вообразить.
Тем более что воображение — главная, базальная, исходная сила всех сил, всех способностей души
человека, творящая изначально активную и креативную самость его субъективности. Это способность
нашего восприятия переводить «во образ» все попадающее в поле чувственности. Ибо даже самая
элементарная человеческая чувствительность по отношению к любому ей внешнему предмету спешит
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
135-
-135
«ощупывающим» движением органов чувств выстроить, преодолевая его сопротивление, его же
субъективный смыслонесущий образ. Но не в нейронах мозга, не в нервных окончаниях рецепторов, а вне
их — на чувственной границе объективной внешности этого предмета. Поиск памятью значимого образа
(представление) — это тоже «ощупывание» желаемого образа в пустом «пространстве» потребности видеть.
Это — тоже воображение. Так, чтобы увидеть слепящее нас Солнце как реально существующее, как именно
то, что зовется всеми «Солнце», мы включаем воображение, и, тем самым, образы культуры (см.:
Мышление, II).
И нет при этом необходимости проходить путь, привычный для эмпирика: экспериментально
разыскивать в каждой способности души — в памяти, аффектах, мышлении, волении и т. д. — «следы»
воображения для подтверждения вышесказанного. Более того: сие занятие заведомо бесперспективно, так
как в каждой из них будут тут же обнаружены «следы» всех других. Без памяти, воли, эмоций, воображения
и т. д. нет мышления, как нет любой иной способности, реализующей субъективность отношения человека к
себе и к миру, без эмоциональной осмысленности воображаемого, памятного, желаемого и т. д. Кроме
констатации и без того ведомого, этот путь ничего не даст. Кроме пустой
134
видимости научной объективности трудов психолога, тоскующего о ранге настоящего
природоиспытателя, равном рангу представителей всех «истинных наук» — наук естественных.
Еще надо доказать, что аффективность воображения есть первая способность атрибутивной
субъективности отношения человека к миру и к самому себе, изначально преображающая его исторически
наследственные способности — чувственность, витальные нужды, инстинкты, ситуативный интеллект и т.
п. Но доказать это возможно только другим, не эмпиристским, способом — иной логикой, иным методом.
Именно этот способ (метод, логика), непроизвольно освоенный фундаментальной наукой, позволил
математике, логике, физике, генетике вырваться вперед других и в «приложениях» своих изменить
цивилизацию землян.
Возможность собственной фундаментальности и для гуманитарных наук — прежде всего для
культурологии — непосредственно связана с определением предмета, мыслимого именно ими. Но если
принимать за предмет, например, культурологии, историческую реальность бытия людей в творимой ими и
их творящей культуре, то потребуется ее онтологическое определение — определение ее как особой
реальности. И тогда предметом ее окажется нечто отличное и от эмпиристски осмысляемых отдельных
реалий передметно-духовной жизни людей, и от всего того, что входит в реестр забот Министерства
культуры (в отличие, например, от реестра забот Министерства образования или других министерств).
Нижеследующее рассуждение — не отвлечение, а введение в проблему онтологии культуры.
Традиционная для граждан России убежденность в том, что любая инновация в их жизни может и
должна быть инициирована правительством, поддерживает вредную иллюзию неизбывной
государственности при осознании предметного поля наук, в частности — иллюзию особости предметов
теории образования и теории культуры. Отсюда молчаливое наше согласие с тем, что проблемы культуры
наших народов — дело ученых, работающих во властных и научных государственных учреждениях,
ведающих культурой. А проблемы образования решаются другими государственными ведомствами:
министерством образования и приближенными к нему учеными, в том числе Государственной академией
образования, ее институтами. Всем прочим субъектам, пусть даже кровно заинтересованным в решении
острых проблем образования и культуры, следует заниматься своими делами, также подвластными
чиновничьей регламентации и властному контролю.
Но для Министерства культуры предметом его забот остаются такие государственные институты, как
театры, библиотеки, музеи и т. п., а для Министерства образования все образовательные институты — от
детских садов, школ и вузов до... институтов Российской академии образования. Чем радикально искажается
сама духовно-практическая предметность общего поля культуры, в котором народное образование — одно
из самых существенных его воплощений. И наоборот — культура для теории и практики образования — это
их главная цель, их единственное средство, их единственно возможное предметное содержание.
Образование, по воле власти замкнутое на себя, теряет живую культуру человеческого типа жизни. В свою
очередь, культура, ставшая особым предметом институций властного управления, оказывается не личностно
активным перевоссозданием (в том числе ученическим) вечно живых произведений личного творчества, а
стандартными технологиями репрезентации для потребления своих стандартизированных форм и канонов.
И культура, и образование одновременно (но порознь) превращаются из животворного процесса взаимного
обогащения поколений в принудительное служение интересам власти. При этом претендующая на
фундаментальность теория культуры (органично включающая в себя культуру взросления новых
поколений), ориентированная на столь извращенное понимание своего предмета, вынуждена ограничить
себя чисто эмпиристской методологией: «обобщенно» описывать безнадежно устаревшие практики
формального обучения и всех других неэффективных способов приобщения к культурным ценностям, их, и
только их, считая своей онтологией.
Библиография
1. Беркли Дж. Алкифрон. Работы разных лет. СПб., 1996.
2. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1-2. М., 1994.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
136-
-136
3. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. Книга 1. М., 1911.
4. Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Соч.: В 3 т. М., 1997.
5. Платон. Кратил // Платон. Соч. Т. 3. М., 1997.
6. Риккерт Г. Границы естественно-научного образования понятий. СПб., 1997.
ОНТОЛОГИЯ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ
4. Онтология научной теории — теории культуры в том числе
Прежде всего следует иметь в виду, что онтология как философская категория не претендует на
определение субстанции: материальной или идеальной. Не является она также и простой отсылкой к факту
объективной реальности изучаемого предмета. Проблема онтологического определения осмысливаемого
предмета — это проблема определения его природы: как воз-
135
можен этот предмет, каково Начало, порождающее подобное, каковы силы, создавшие все формы его
существования. Иными словами, онтология — это и есть определение порождающего и воспроизводящего
отношения. В обиход теоретического осмысления всего мыслимого этот единственно возможный смысл
категории «онтология» ввел на все последовавшие затем эпохи (до Канта, Гегеля, Хайдеггера и всех наших
современников) Ансельм Кентерберийский своим онтологическим доказательством бытия Бога. «Как
возможен Бог?» — в ответе на этот вопрос и мыслимая сущность Бога, и его существование как
непреложная заданность мысли именно о нем. Но рассудочный эмпиризм ограничился пониманием
онтологии как предмета теории (и вообще мышления), имеющего быть вне теории (и вообще мышления) —
как объективное существование того, о чем мыслит человек.
Перелом в эмпиристском сознании исследователей логики научного знания был подготовлен
философией как почти всеобщий и весьма продуктивный для науки отказ от эмпиристских робинзонад
(социальных, экономических, языковедческих и прочих), шоры которых на органах умозрения даже многих
философов (таких, как рационалисты и эмпирики XVII, метафизики XVIII, позитивисты XIX и ХХ вв.)
суживали поле онтолого-гносеологической видимости почти всех теоретиков до прямого как стрела пути от
объекта к субъекту-индивиду. Этот перелом произошел под влиянием происходившего в начале ХХ в.
решительного поворота как философии, так и «объектных теорий» к окончательно и для них явной
реальности — реальности идеального, интерсубъективного, надындивидуального, трансцендентального
(любой термин здесь годен) языкового (текстового) поля духовной культуры всех человеческих общностей.
Теоретическое осознание онтологии чувственно-сверхчувственной сущности языка и текстовой
культуры как возможности существования особой надындивидуальной реальности, случайные
«вспучивания» которой образуют сознание и самосознание своим рождением входящих в нее индивидов
Homo sapiens, потребовало специального исследования этой реальности. Оно и проводилось всей мощью,
всем арсеналом... естественного языка, языков науки и конструированием искусственных языков. Можно
считать определением этой новой онтологии вывод: все средства общения людей, и прежде всего —
естественные языки (а на их базе все остальные), есть не что иное, как овнешненная речью и тем
объективированная своей всеобщей формой реальность интимно-субъективного переживания индивидами
своего бытия. Любой реализуемый их общением (речью) фрагмент языка — те-
перь уже не только их переживание и мысль, но и некая иная реальность. К тому же реальность внешняя
их актуальному себячувствию, их самоосознанию. Именно эта реальность данных и заданных ему в
представлении (представших перед ним) его же смыслонесущих аффектов порождает мотивы и сам смысл
их обращений друг к другу и к себе самим.
Форма (пространственность) обращений людей друг к другу и к самим себе хранит на протяжении веков
их смысловую связность и сопричастность. Что и позволяет в любой, даже самой экзотичной эпохальной и
этнической культуре — пусть по-своему — воспроизводить образный строй смыслов и смыслы образов
любой иной культуры, существуя при этом столь же реально и в этом смысле объективно, как и любая
естественная форма природных процессов, однако нацело принадлежа субъективности общечеловеческого
самосознания.
Потому она, эта форма, не может быть безразличной их постоянно актуальной смысло-
самочувственности и, замкнувшись в себе и на себя, быть равнодушно-безразличной процессу творения
новых образов и смыслов — процессу познания. В нем и для него она обеспечивает тождество интер- и
интрасубъективности, служит опорой всех здесь и теперь рождающихся и возрождающихся смыслов и
эмоций как их causa formalis — порождающая, энтелехиальная сила человеческого познания и
самосознания. И именно поэтому ее собственные свойства и принципиально потенциальные возможности
могут продуктивно исследоваться логикой, независимо от содержания оформленных ею частных смыслов.
Каждая из устойчивых и строгих форм нашей речи (в основании построения которой — устойчивые
формы наших общих целесообразных поступков и дел) каждым нашим обращением urbi et orbi рождается и
заново возрождается всегда лишь в личностно-субъективном своем воспроизведении. Но всем нам эта
форма, однако, общая (всеобщая) и всем необходимая (иными словами — аподиктичная), а по содержанию
полученного в ней и с ее помощью следования — априорная любому возможному казусу и капризу
мышления, чувств и дел. Такова онтология человеческой субъективности.
Данному подходу к онтологии культуры мешает быть единственно признанным не что иное, как
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
137-
-137
сохранение в науке о науке («по примеру» наук о природе) контрарной противоположности двух
«онтологий». А именно — внешне объективной человеку (реальное бытие природы и мира людей) и
субъективной только по факту, только «по месту» существования, но столь же объективно представленной
теоретику своими непреложными законами и формами (канонами, правилами и т. п.) языкового и
логического построения креативной мысли. Про-
136
тивопоставление друг другу этих двух «онтологий» обнаруживается во всех аналитиках научного знания.
Что не случайно, ибо это противопоставление двух «онтологий» не только имеет солидную (мало сказать —
тысячелетнюю) традицию обыденного, философского и научного эмпиризма, но давно уже и вполне
натуральную неизбывную причину.
Тысячелетия назад в родовых общинах в строгом ритуале их бытия господство коллективных
представлений (обоснование этого термина — у Эмиля Дюркгейма) над индивидуальными восприятиями и
смыслонесущими переживаниями мира было настолько естественно, что индивид буквально не отличал
себя от общности едино-род-ных. У него не было необходимости в местоимении первого лица
единственного числа. Антропологи и палеоэтнографы свидетельствуют: в языках так называемых
«примитивных народов» чаще всего отсутствует местоимение «я», и в ответ на вопрос «кто ты?»,
обращенный к любому члену родовой общины, вы непременно услышите: «мы...» (далее следует имя
тотема: мы кенгуру и т. п.). В интерсубъективной реальности их общей предметно-духовной культуры
образы умерших предков и образы живых соплеменников, образы-символы растений, животных, значимых
мест, явлений природы и образы ожидаемых (воображаемых) событий были единозначными для всех.
Это естественное (можно сказать: непосредственное) тождество интер- и интрасубъективности несло в
себе, однако, и начало их особости, а вместе с нею — их пока еще не выявленное противоречие. Но уже
древние цивилизации, рожденные великой неолитической революцией, противопоставили друг другу
группы, а вслед за ними и отдельных людей, сделав историческим фактом противопоставление и
противоречие индивидуальной и общественной субъективности. И тем самым в общей культуре народов из
состояния совместно переживаемой сплошности в конечном счете вышли, обособляясь, различные...
субкультуры. Вплоть до неустранимого различения культурного облика отдельных индивидов.
Но лишь в индустриальных и постиндустриальных цивилизациях противостояние «мы» и «я» достигло
своего полного развития и воплощения в торжествующем индивидуализме. Тут уж каждый не только
умирает в одиночку, но и живет, постоянно ощущая, а нередко и болезненно переживая свое одиночество.
Потому и чисто психологически, в своем восприятии мира людей и природы, он отстраняет себя, свое Я и от
субъективности Я других людей, и от всего телесного мира — и от мира природы, и от предметов и средств
жизни, и от орудий, и от тела своего. И даже от создан-
ных им научных приборов, кои также есть не что иное, как обращение к субъективности всех и каждого.
Мир вещный и мир его души (мир наших душ — мир культуры) прочно встали друг против друга.
Такова внешняя причина противопоставления двух «онтологий» — онтологии научной теории (иными
словами: ее вполне реального предметного интерсубъективного поля) и онтологии мыслимого Бытия —
непосредственного чувственного опыта. Опыта жизни людей, а для эмпиристов — опыта и эксперимента в
научном испытании природы, почти сливающегося для них с жизненным опытом человечества. При этом
следует иметь в виду, что глубинного, исторически обоснованного (онтологического) различия между ними
нет.
Эта же причина и в логике сохраняет за онтологией статус необходимого онтологического допущения
(допущения без обоснования) объективного наличия предметов, представленных мышлению и его логике
так называемыми идеализированными объектами. Тем самым логикой и наукой о науке в качестве своих
предметов (своей онтологии) признаются исключительно «идеализированные объекты». А опыту и практике
уже без каких-либо допущений достаются реальные, вещные объекты, существующие вне и независимо от
человеческой субъективности, чем и сохраняется в логике и в науке о науке эмпиристская методология
осознания когнитивных процессов.
При определении онтологии теории «идеализированные объекты» подчеркнуто противостоят объектам
реальным. Противостоят так, как будто образы обычного восприятия не идеализируют реально вещные
объекты! А ведь именно с ними, если верить хотя бы классику эмпиризма — Джону Локку, имеет дело
разум. Но в данном случае (опять-таки и по канонам эмпиризма) их идеализация пока еще только в том, что
это — всего лишь субъективные образы объективного мира, как писал Фейербах. В логике же анализа
онтологии научной теории этому слову (термину) придается иное значение. А именно: его суть отнюдь не в
том, что предмет теории вообще (фундаментальной — тем более) субъективен по месту и времени своего
присутствия в бытии. Но в том, что для его там появления и пребывания требуются особые, уже не
естественно телесные, а искусственные средства, способы и формы. Хотя бы упомянутые ранее
искусственные языки, специально разработанные правила и матрицы их применения и многое другое из
арсенала логики и научной методологии.
«Натурально телесная» орудийность перевода «во образ» объекта чувственной активности человека
принимается при этом как нечто само собой разумеющееся, столь же естественное, как сама природа. Будто
способность тела человека так идеализировать внешний
137
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
138-
-138
мир ничего по-настоящему идеального в себе не содержит. Это, мол, дело вполне телесных органов
чувств, рецепторов, анализаторов, соответствующих им центров головного мозга. Все — как и у животных.
Словом — психика как естественная, натуральная функция высокоорганизованной материи. Совсем другое
дело — часы, весы, линейка, наконец, изобретенный физиками синхрофазотрон, искусственные языки,
изобретенные не менее хитроумными логиками! Тут в основании процесса идеализации природных
объектов заложена идея, а не физиология, не рецепторы. И только в этом случае мы и имеем истинную
идеализацию, а следовательно, и истинно идеализированные объекты.
Но исторически рефлексивной логики (потому и содержательной) здесь как раз и нет. Ведь и
математический логик, защищая свой тезис о радикальнейшем, принципиальнейшем отличии онтологии
своей науки от онтологии опыта естественных наук, а заодно — и всех предметно-телесных условий и
средств обыденной жизни, неосознанно обращается, по сути дела, именно к содержанию исходных
предпосылок любой теории. Тем самым он обращается к содержанию, подготовленному для него историей.
Историей науки, принципиально невозможной вне истории индустрии, техники, истории общественных
форм труда, истории духовной культуры человечества, а следовательно, и без понимания того, что и по-
человечески организованное тело со всеми его способностями — продукт той же истории, сотни тысяч лет
назад начатой антропогенезом. Он поневоле обращен к старому, для него всегда новому, вопросу: «Почему
глаз орла видит несравненно дальше и точнее человеческого глаза, однако человек видит несравненно
больше орла, во всем видимом замечая и разыскивая взглядом смысл и назначение?»
Иммануил Кант смело утверждал априоризм трансцендентального единства апперцепции — саму
способность человека образовывать (от слова образ) пространственно-временные формы собственного
вчувствования во внешний чувствам мир («гештальт» — сказали бы психологи-гештальтисты). Этим он
утверждал и то, что субъективность человеческой жизнедеятельности вносит в этот мир — в мир вещей-в-
себе, смыслонесущий порядок. Но он не связывал себя обязанностью найти объяснения данного факта в
истории появления, становления и укоренения человека на Земле. Георг Вильгельм Фридрих Гегель искал
его в истории, но... Духа. Эдмунд Гуссерль постулировал его как исходный феномен всей феноменологии
Бытия. Но почему же речь идет только о них! Ведь философы — то есть создатели своего особого видения
мира и человека, видения, претендующего на абсолютную всеобщность, — исходили из общего и
изначального для них
всех допущения такой онтологической предпосылки всех деяний и проблем человека, как
произвольность и целесообразность... его чувственности. Все, кроме тех, кто в угаре сциентизма ХХ в.
поспешил отринуть от себя философскую «заумь» и вслед за эмпиристами-натуралистами признал: наука —
сама себе философия, и философские проблемы тоже должны решаться экспериментально.
Но старый-престарый для сциентистов, бесконечно от них далекий Томас Гоббс оказался более глубоким
и более современным мыслителем благодаря своему пониманию пространственно-временных форм не в
качестве акциденции Тела (по его терминологии — телесной субстанции, определяющей все проявления
едино сущего, включая все телесные функции человека), а в качестве сущностного проявления человеческой
природы, в качестве его особой способности воспринимать все телесное. Точно так же, по сравнению с
нашими сциентистами, Джон Локк, автор библии эмпиризма — знаменитых «Опытов о человеческом
разуме», оказывается ближе к XXI в. благодаря его идеям рефлексии, фактически управляющим идеями
чувств. Более того, для всех рефлексивно мыслящих теоретиков исходной предпосылкой их обращения к
онтологии теории (теории вообще, фундаментальной тем более) было априорное принятие смысловой
ориентировочно-поисковой произвольности чувственности человека. Ее, чувственности, креативной
идеальности.
Задолго до изобретения искусственных языков и до исследований их когнитивных возможностей любой,
даже самый первобытный язык, был столь же... искусственным. И он выполнял для идеализации
(одухотворения) объективной реальности ту же роль, что и языки, изобретаемые сегодня специально для
этой цели.
Интересно, что Рудольф Карнап основанием своей иерархии логических и языковых каркасов
человеческой субъективности назвал «язык вещей», выделив тем самым как субъективно значимое не
объективные признаки особости каждой вещи, а их и ее «лексические значения» [1].
Идеализация бытия, его, если хотите, одухотворение, имеет одну природу, одно начало и одну суть,
воплощенную как в искусственных, так и в «естественных» средствах обращения людей друг к другу и к
себе самим.
«Естественных» в кавычках потому, что данные нам от рождения органы, способные быть
использованными для обращения друг к другу, приобретают эту роль лишь в процессе культурного
общения, и в этом качестве они осваиваются так же, как осваивается каждым из нас язык народа и все
остальные «искусственные» органы нашей жизни, создававшиеся тысячелетиями.
138
На самом деле они для человека самые естественные, ибо самые необходимые ему для физического
выживания.
И это начало, эта единая их суть — реальный постулат как всеобщей истории и теории культуры людей,
так и истории и теории любой ее исторически обособившейся разновидности. Не являются исключением из
правила и все теории природоведения. Слишком смелые для эмпиристов утверждения становятся
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
139-
-139
обоснованными при определении непременной априорности постулатов собственно теоретического
мышления. Хотя бы потому, что развитые формы процесса позволяют узнать и понять содержание
изначальных и менее развитых его форм.
Таким образом, онтология теории культуры — реальное динамичное тождество интер- и
интрасубъективности: реальный процесс «идеализации» (одухотворения) условий, предметов, средств и
способов бытия человека в объективном мире Природы.
Библиография
1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972. (Раздел второй. Гл. 3).
2. Гоббс Т. Сочинения. Т. 1-2. М., 1989, 1991.
3. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Собрание сочинений. Т. 1. М.,
1994.
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М., 1991.
5. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. Т.З. М., 1997.
6. Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
7. Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет. М., 1997.
ПОСТУЛАТ
5. Постулаты фундаментальной теории
К проблеме постулата любой фундаментальной теории реального мира и его «фрагментов» Декартово
определение порождающего отношения имеет самое прямое и непосредственное... порождающее идею
постулата отношение. Тем самым оно может быть понято и в качестве логического основания (или, что то
же самое, — постулата) всех возможных будущих способов и средств понимания предмета теории, ибо
служит первичным способом и изначальным средством его выделения из мыслимого Универсума. Но в
Декартовых, а тем самым и в наших, определениях скрыто до поры нечто вроде парадокса. Его заметил и
обсуждал сам Декарт, на него обратил внимание его оппонент Томас Гоббс. Так или иначе — со ссылками
на «первоисточник» или без оных — к нему постоянно обращались и до сего дня обращаются философы.
Дело в том, что, признавая отношение мысли к любым иным предметностям Бытия необходимым и дос-
таточным определением его собственного существования в качестве обособленной и особенной
реальности, мы в качестве «онтологического допущения» a priori признаем существующим само Бытие.
Причем выделение термина a priori необходимо для выявления логического статуса Декартова рассуждения.
Существование Бытия (в качестве словосочетания на любом языке) сворачивает все рассуждение в
логический нонсенс — в circulus vitiosus: все Сущее... существует. Но для философии и любой
фундаментальной теории онтологический вопрос: «Как существует — в сознании или реально?» — остается
нерешенным до тех пор, пока философия для всех теорий, а любая частная теория для себя, не найдут
необходимых и достаточных аргументов для однозначного ответа на него (см.: Позиция 3.2).
Для философии эта проблема — ключевая и никоим образом не смешиваемая с твердой уверенностью
каждого из нас (в том числе и каждого философа включая Дж. Беркли) в собственном существовании в
реально существующем мире, что и было продемонстрировано всей историей философии как особой
формой культуры — культуры самопостижения духовности людской. Тем же Декартом не в последнюю
очередь: кто же не помнит его знаменитое: cogito ergo sum — мыслю, следовательно, существую!
И до наших дней, как бы в продолжение фундаментального вывода Декарта, тянется последовательная
экспликация проблемы мыслимого Бытия: человек живет в виртуальном мире собственного мышления,
настойчивое преобразование и предметно-деятельное, целесообразное овнешнение которого (воплощение
— от слова «плоть») изменило планету Земля; тем самым наша планета всеми своими явлениями предстает
перед каждым из нас нашими же чувственными образами, их именами и смыслами, распространяющимися
на всю воспринимаемую Вселенную; а так как и само наше телесное существование есть нечто, данное нам
опять-таки смыслообразующей чувственностью нашего Я, то в своем логическом пределе вопрос о
действительной, истинной реальности всего сущего — реальности, существующей вне и независимо от
нашего Я... принципиально неразрешим (Кант).
Выход из этого логического тупика сам Декарт находил в том, что любое сомнение в существовании
предметов мышления и самого мыслящего Я есть акт мышления. Как таковой, он реально и безусловно
существует. Следовательно: пока неизвестно, как там все прочее, но мысль-то уж точно существует. И
мысль эта... чья-то. Она инициирована и проведена от начала и до конца не кем иным, как тем, кто мыслит.
Но если мысль о чем-то точно существует, то столь же оп-
139
ределенно существует и тот, кто мыслит. И от врожденности некоему мыслящему его мышления Декарт
начинает свое доказательство изначальной врожденности (только поэтому — постулативности) ряда общих
идей, атрибутивно характеризующих всеобщие условия для определения предметов мышления, предметов
страстей человеческих. А коль скоро каждый из нас — человек страстно мыслящий, то мышление и страсти
каждого из нас своим отношением к их предметности обнаруживают и подлинно реальное существование
таковых.
Здесь одно мы должны принять не на веру, а в силу логики, явно при-сущей каждому из нас: Декарт
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
140-
-140
определил существование как мышления, так и всего для мышления сущего, оставаясь верным первому
постулату своей теории: их бытие определяется через их отношение. Через отношение к мышлению. Но
ведь и мышление определяется только через его отношение к мыслимому Бытию. Поэтому вопрос о
постулате фундаментальной теории культуры без обсуждения постулата всех теорий Бытия и Мышления
так и останется висеть в туманной атмосфере разных мнений.
Бытие не имеет своей исходно сущностной собственной формы существования. Тем самым — и
собственного единозначного определения. Как всеобще сущее, оно есть нечто такое, что самим фактом
существования не определимо. Оно вообще лишается смысла, ибо быть вечно и во всех формах чем-то всем
— значит быть ничем определенным. В этом смысле — ничем, или, что то же самое, определенным как не
существующее само по себе вне этих преходящих своих форм. Безначальное и нескончаемое отрицание
какой-то одной собственной природы, самой сути всего того, что есть, превращает утверждение реальности
«все это есть» в отрицание этой реальности как чего-то определенного. Бытие, как сие ни парадоксально,
есть и не есть одновременно. Вернее, «Есть» и «Не есть» здесь равнозначны, они переливаются друг в друга,
теряя себя в своей противоположности, чтобы тут же вновь появиться, растворив в себе свое отрицание. И
обращаясь к истории философии в полном ее объеме, нетрудно убедится в том, что далеко не только Гегель
так же постулирует логику мышления о Сущем.
Таким образом, за первый постулат осмысливаемого Бытия мы просто вынуждены принять
неустранимое противоречие в его изначальном смысле. Ведь это противоречие было так же предопределено
самим способом полагания Сущего, как противоречие в понятии геометрических точки, линии, плоскости и
т. д. было предопределено способом их полагания. Действительно, исходной мерой непрерывного
простирания явно Сущего мы с необходимостью вынуждены утвердить
нечто, что, по определению, не имеет пространственных определений (мер) а именно — точку.
Если бы точку можно было бы измерять как нечто пространственно сущее, то она не смогла бы стать
родоначальницей всех прочих искусственных мер пространства.
Мало этого. Любая мера непрерывности простирания всего сущего автоматически становится тем, что
прерывает эту актуальную его непрерывность. Поэтому именно точка заставляет быстроногого Ахиллеса
спотыкаться об нее, потому он и не способен догнать черепаху, чем Зенон и продемонстрировал
принципиальную неразрешимость постулативного противоречия прерывности и сплошности теоретически
мыслимого пространства-времени. А ведь мыслимое движение именно точки образует все мыслимые меры
непрерывного пространства — все геометрические фигуры, каждая из которых, в свою очередь, прерывает
сплошность простирания и дления всего мыслимого Сущего. Все геометрии также построены на своих
априорно заданных постулатах, каждый из которых есть констатация неустранимого противоречия
прерывности и непрерывности мыслимого пространства-времени, как все философии построены на
неустранимом противоречии Бытия и Небытия.
Можно продемонстрировать с еще большей точностью, что и постулаты классической механики, не
говоря уже о механике квантовой, утверждают в качестве эвристического начала развития всей физики не
что иное, как противоречие. Но тут достаточно отослать читателя к рефлексивным поискам априорных
Начал физики самих ее творцов: начните с Э. Маха, А. Эйнштейна и Л. Инфельда, Н. Бора, А. Йоффе и
других классиков неклассической физики, чтобы прийти ко многим книгам о неизбежности странного мира
квантовой механики, в том числе и к книгам B.C. Библера о мышлении как творчестве.
Итак, Бытие есть всегда бывшее, всегда Сущее и всегда имеющее быть, и всегда же — по определению,
не-Сущее, ибо извечной бесконечностью своих трансформаций отрицает ответ на вопрос: что же в нем есть
одно определенно и истинно сущее. Или: в каком наличном своем определении оно есть Бытие. Но именно
эта констатация противоречия в исходном смысле слова «Бытие» отграничивает его «онтологию» от любых
иных предметностей мысли.
Таким образом, философы задолго до Ансельма постулировали тождество Бытия и Небытия. Причем в
рассуждениях не только о мере совершенства, но и о других всеобщих мерах всего сущего. Тут нельзя не
вспомнить элеатов — их отрицание безмерного образа Небытия. Или Платона, утверждавшего в качестве
140
истинно сущего лишь бытие всеобщих мер (прообразов, идей) в отличие от всего недолго и отдельно
сущего. Ученика его — Аристотеля, с его формой форм, энтелехиально преобразующей мир всего сущего из
будущего и, одновременно, как бы «изнутри» его наличных форм. Или — Единое неоплатоников (единое
Начало и всеобщую Меру всего сущего).
Впрочем, не только названные, но и все те, кто с пристрастием пытал человеческую мысль на
способность удерживать в качестве своей основы единство противоположностей — Бытие и Небытие,
именно это единство принимали за первую всеобщую меру всего мыслимого Сущего как необходимое
условие «мыслимости» и мира в целом, и любого отдельного его явления.
Для них именно взаимоопределяемость смыслов (Бытие и Небытие, их тем самым тождество при
внутреннем отрицании друг друга) всегда была всеобщей мерой мыслимого. Тождество этих
противоположностей делает все сущее осмысляемым. Чтобы чему-то или кому-то быть в мысли, надо быть
«измеренным» соотнесенностью — как с всеобщей мерой Бытия, так и с определенной ею безмерностью
мыслимого Небытия. И прежде чем некая наличность подвергнется вопросу «что же оно есть?», происходит
ее мыслимое включение в целостность Сущего в качестве полномочного представителя всеобщей меры
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
