Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
111-
-111
увлечения автора «Заратустры» оказались в конце концов бессильными. Еще более ясно мысль о критерии
оценивания выражена в таком фрагменте: «В оценках находят свое выражение условия сохранения и роста»
[507]. Точкой отсчета в создании ценностных картин мира (существенно, что их много) является отнесение
всего сущего к условиям сохранения и роста данного сущего («центра сил»). И другого мира, кроме того,
что видится в зеркале индивидуального оценивания, не существует. Так называемый «истинный мир»
(например, мир платоновских идей, равно как и мир классического материализма) это именно
вымышленный мир, но вымышленный ради каких-то целей и полезностей, т. е. мир, преломленный
оценивающим. «Мы спроецировали, — говорит Ницше, — условия нашего сохранения как предикаты
сущего вообще. Из того, что мы должны обладать устойчивостью в нашей вере, чтобы преуспевать, мы
вывели, что "истинный мир не может быть изменчивым и становящимся, а только сущим"» [507]. Этот
аксиологический редукционизм по отношению к истине вписан в метафизику воли к власти, действующую в
философии жизни Ницше. Я снова подчеркиваю тождество воли к власти и жизни на уровне
аксиологического подхода. Действительно, «ценность для жизни, — замечает Ницше, — является
последним основанием» [493]. А высказывания о том, что «само оценивание есть воля к власти» [657], мы
уже приводили.
Не следует думать, однако, что Ницше ограничивается этим узким кругом избирательного и
деформирующего переноса элементов биологического знания в свою философию, пролагая путь
прагматизму и постмодернизму ХХ в. Нет, он широко применяет свои метафизические положения в
критическом анализе современной ему европейской культуры. Прежде всего он типологизирует ее ценности
соответственно основным биологицистски и даже физиологицистски определяемым различениям. Так,
например, Ницше различает ценности сильных и ценности слабых, ценности жизни восходящей и жизни,
клонящейся к упадку. Более того, он не ограничивается статикой подобных типологий систем ценностей, а
применяет их для описания динамики культуры в истории. И именно в этом он видит свои важнейшие
открытия: «Я открыл, — пишет Ницше, — что все высшие ценности, господ-
108
ствовавшие над человечеством, по крайней мере, над укрощенным человечеством, могут быть сведены к
оценкам истощенных» [54]. Свое открытие он подробно развивает в работе «К генеалогии морали» (1887),
разбирая механизм «восстания рабов в морали», когда ценности плебейские вытеснили ценности
аристократические, получив при этом ореол универсальности, нимб «общечеловеческих» ценностей (Ницше
прежде всего имеет в виду ценности христианской культуры). «Суждения истощенных, — говорит он, —
проникли в мир общих ценностей» [54]. В такого рода суждениях и проявляется то экзистенциально
наполненное активное отождествление себя с жизнью и культурой в их предполагаемом тождестве, о
котором мы уже сказали выше. Это отождествление, играющие роль самосознания жизни, служит основой
для генеалогии (см.: Генеалогия, II) европейской культуры (прежде всего морали и христианской религии)
выступающей, согласно Ницше, как ее окончательное разоблачение.
Какие же конкретно сдвиги в проблематике ценности жизни характеризуют позицию Ницше по
отношению к позиции его предшественников, обсуждавших ее, в частности Дюринга? Отметим здесь два
момента. Во-первых, вся тематика жизнеотрицания, обычно подвёрстывающаяся под философский
пессимизм, уходит у Ницше, подвергается критике, заменяясь проблемой нигилизма (см.: Нигилизм, II). Для
Ницше речь идет уже не о том, что пессимизм угрожает жизни, ее полноте, здоровью, творческим силам
человека. Нет, «самым жутким из всех гостей», когда-либо посещавших человечество, является нигилизм, а
пессимизм, упадничество — только его частные симптомы. О нигилизме после Ницше написаны
библиотеки. Мы бы кратко определили суть этого фундаментального явления так: нигилизм — «зависание»
человека между двумя позициями, между, с одной стороны, утратой веры в «истинный мир» (это кавычки
Ницше, не наши) традиционной религии и философии, а с другой — еще не наделенной оправданием, но
уже проснувшейся верой исключительно в посюстороннюю жизнь, в «действительный, настоящий мир»
(это наши кавычки). Итак, между выдохшимся антижизненным смыслом (так считает Ницше) и
бессмысленной, но полной сил жизнью — вот позиция нигилизма, позиция перехода, отплытия от старой
гавани без, однако, приплытия к новым надежным берегам. И цель Ницше как спасителя культуры и
целителя жизни в том, чтобы достичь этих берегов, водрузив «новое небо» над новой землей, к которой
человек современности явно прибивается всем потоком истории с ее центральным событием — с
богоубийственным закатом религий и метафизик.
Во-вторых, и это связано с первым моментом, Ницше переоценивает самое соотношение сферы смысла и
сферы жизни в пользу последней. Сферой смысла мы называем мир идеалов, высших моментов сознания,
духа, религиозных и нравственных ценностей. Сфера жизни, по Ницше, определяется рамками метафизики
воли к власти.
«Известное количество сил, связанных общим процессом питания, мы называем
"жизнью"». Этот процесс предполагает: 1) противодействие другим силам; 2)
приспособление; 3) их оценку [641]. Все это и означает, что жизнь есть «воля к власти»
[254].
И вот Ницше радикально и безоговорочно провозглашает примат жизни над смыслом. Он применяет для
обозначения этого превосходства такие слова: жизнь есть цель, а сознание — только средство для нее. Сам
этот ход мысли нам хорошо знаком — по «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса. Радикальный
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
112-
-112
материализм или натурализм (мера его историзации здесь не важна) выступает против всей метафизики и
идеалистической традиции, куда присоединяет и религию: вот смысл этого поворота. Отшельник из Сильс-
Марии опять протягивает руку автору «Капитала». Если соответствующие цитаты из классиков марксизма
более или менее широко известны, то аналогичные ницшевские высказывания известны все же меньше.
Поэтому процитируем ключевые из них: «Сознательный мир, — говорит Ницше, — не может считаться
исходным пунктом ценности... Мы не имеем никакого права считать этот клочок сознательности целью
целого феномена жизни, его "почему". Совершенно очевидно, что сознательность есть только лишь
средство для развития жизни и расширения ее власти. Поэтому наивно было бы возводить удовольствие,
или духовность, или нравственность, или какую-нибудь другую частность из сферы сознания на степень
верховной ценности и, может быть, даже с помощью их оправдывать "мир"...»
Пафос всеобщности соединяет Ницше со всей традицией немецкой философии, но видит он ее
не в разуме и логике, а в алогичной жизни.
Это мое основное возражение против всех философско-моральных космодицей, против всяких "почему",
против высших ценностей прежней философии и философии религии. Известный вид средств был
неправильно взят как цель, жизнь и повышение власти были, наоборот, низведены до уровня средств»
[707]. По отношению к Дюрингу, символизирующему непоследовательность позитивизма и
материалистического редукционизма, это означает, что Ницше отбрасывает всякий «моралин» в такого рода
позитивизме и доводит тем самым его до конца, благодаря чему уже не нужно быть «заподозревателями
жизни» [116], правда, це-
109
ной постановки под самое радикальное подозрение всей сферы смысла. Подозрение (это слово выражает
суть ментальной мироустановки), таким образом, лишь меняет свой вектор (на 180 градусов).
У Ницше жизнь никогда не подозревается и не ставится под вопрос: она у него всегда права и за ней
ничего другого не предполагается. Напротив, все остальное должно получить у жизни, через свою связь с
нею, через свое соучастие в ее работе свое оправдание. Жизнь у Ницше — своего рода имманентный бог,
сама реальность как таковая в ее самоактивном сосредоточии, в ее непостижимости, в ее безусловном
превосходстве над всякой своей концептуализацией и осмыслением.
Ницше, однако, ее жестоко концептуализировал, как мы видели. Еще одно противоречие его философии
жизни.
Жизнь борется, распространяется, растет, рискует, цветет, гибнет. Она всегда стремится к своему
расширению и самоутверждению, к усилению, умножению мощи или власти... Невольно вспоминается при
этом тот саморастущий «коралл», который под именем капитала изобразил в своей теоретической эпопее
Маркс. Сходство Марксова капитала с ницшевской жизнью очевидно. Но существенно и по крайней мере
одно отличие (помимо других, тоже важных): Марксов капитал движется к самоупразднению, а ницшевская
жизнь, напротив, к самоутверждению в сверхчеловеке и вечном возвращении того же самого. Но обе
«живые» субстанции одинаковым или сходным образом ответственны за все фантомы сознания — за
фантом сознания как такового. Бездна бытия или бытие как бездна (как «глубокое» жизни и труда),
раскрывшееся перед европейцем в конце классической эпохи (конец XVIII- начало XIX в.) обнаружилось в
этих саморастущих «чудовищах», наукообразная форма подачи которых не смогла затенить их
(анти)утопическое мифологическое значение в судьбе цивилизации Запада. Ницше, правда, только страстно
стремился к научному обоснованию своих поздних мифологем. Маркс же далеко продвинулся по пути
сциентификации своих видений «глубины» мира. По Ницше, наиболее близкими к самой жизни способами
ее схватывания выступают в конечном счете интуиция и инстинкт — полномочные представители жизни в
мире познания. Разум и рассудок он стремится «прочитать» тоже сквозь виталистические концепты — через
инстинкты жизни, стремление к самосохранению, выживанию и, главное, росту силы. В этих моментах
философия жизни Ницше пролагает путь для прагматизма и подобных ему истолкований познания.
Два понятия, как минимум, нужно иметь в виду, когда мы пытаемся представить себе, что же понимал
Ницше под жизнью. Это, во-первых, становление и, во-вторых, величие. Алогическое становление
прежде всего величественно — «цинично и непорочно», наделено мощью, самостоянием и поэтому
достоинством и независимостью. Кроме того, с жизнью как волей к власти у Ницше связывается тема
априорной трагедии на дне мира, неизбежно открываемая при постижении его правдивым взглядом.
Различие между величием и трагизмом примерно таково: трагедия — это план онтологии (онтология рока
или судьбы), а величие — деонтологический план, т. е. то, к чему надлежит стремиться, чем должно быть,
чего следует добиваться. Если величие — мера для оценивания живущих, то трагедия — характеристика
жизни под властью рока. Величие означает высоту жизненного и, значит, культурного ранга,
самодостаточность, красоту и мощь. Величие, в конце концов, в том, чтобы вынести трагедию бытия, даже
абсурд, сказав ему звонко «Да!» (принцип amor fati).
Над жизнью и творчеством Ницше витает презумпция, что результат познания непременно должен быть
трагическим, что истина чудовищна и не несет с собой ни утешения, ни красоты, ни, тем более, блаженства.
Правда жизни — страшна и сурова. Априорные условия возможного опыта по познанию мира можно
определить только в терминах ужаса и трагедии. Опыт тождествен «грустному опыту» [1:136].
Кстати, не есть ли это то самое «оклеветание жизни», с которым так страстно борется
сам Ницше? Еще одно противоречие его философии.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
113-
-113
Итак, познание у Ницше изначально поставлено в перспективу трагедии. Почему? При попытке ответить
на этот вопрос нужно иметь в виду и наследие шопенгауэровского пессимизма и собственный личный опыт
философа, наполненный разного рода разочарованиями, опыт романтика в эпоху постромантизма. Это,
наконец, и результат раннего и по-ницшевски надрывного разрыва с христианством. Last but not least.
Величие жизни в том, что она существует (должна существовать), по Ницше, без Бога, без какой бы то
ни было поддержки со стороны трансцендентных высших энергий. В том, считает Ницше, ее достоинство.
Правда, он не отрицает за религией, за культурой монастырей, в частности, важной роли в воспитании
человека с аристократическим комплексом качеств — этому служат дисциплина, строгий этикет, тренаж
души и тела, суровость к себе, закалка и т. п. Все эти качества он оценивает позитивно, противопоставляя
человека, прошедшего такую школу, современному секуляризованному человеку с чрезмерной
изнеженностью, переутонченностью, большой нервной возбудимостью, с пониженной энергией жизни и
творчества, т. е., одним сло-
110
вом, «декаденту». Но, с другой стороны, мы знаем, что именно христианская религия есть, по Ницше,
один из главных источников декаданса. В этом обнаруживается еще одно из многочисленных нами
отмечаемых противоречий немецкого философа, усвоившего себе внутренне несовместимые ценностные
позиции (критика современности с ее научным атеизмом и, одновременно, критика религиозного сознания).
Ницше, может быть, устроила бы религия без религии, точнее, без трансценденции — религия земли,
благочестие чистой посюсторонности. Он и попытался выработать именно такое «благочестие», создав его
символический каркас — вечное возвращение и «сверхчеловека». Интеллектуальная ошибка Ницше при
концептуализации жизни в том, что он обеднил многомерное (и разномерное) понятие жизни, превратив его
в катафатическое биологицистское понятие, отбросив его апофатическую глубину и антиномическую
структуру. Суть антиномизма понятия жизни предельно кратко можно обозначить как совмещение (и
удержание) в нем формально-логически, как это кажется, взаимоотрицающих друг друга тезиса и
антитезиса. Шаг Ницше состоял в том, что он принял только тезис, отказавшись от антитезиса. О каком
тезисе идет речь? Вот как его формулирует сам Ницше: «Жизнь, — говорит он, — кончается там, где
начинается "Царствие Божие" [4:2:575]. Антитезис, соответственно, должен звучать так: жизнь начинается в
Царствии Божием («Я есмь путь, истина и жизнь». — Иоан., 14, 6). Иными словами, Ницше отказался от
трансцендентного измерения жизни, сведя ее всецело к рассудочной имманентности (вопреки своему
собственному романтизму). От вечности жизни у него осталась только ее ходульная выморочная тень в виде
вечного возвращения того же самого, являющегося на самом деле триумфом не жизни, а плоского
механицизма, поглотившего мир. Жизнь как мистерия, тайна, как объемлющее и пронизывающее мир
начало всеобщей одухотворенности, что знали, кстати, досократики, которым он симпатизировал (например,
Фалес или пифагорейцы), все это он полностью исключил из состава своего понятия о жизни в пользу
одномерного динамического механицизма воли к власти. Положив в основу своей философии
искусственную и не-жизненную пару суждений (жизнь — антибожественна, бог — антижизнен), он создал
явно искажающую суть дела конструкцию, облегчающую работу мысли и производство соответствующего
морального пафоса, подчеркнуто имморалистического и антиморального. Почему он так поступил? Потому
что не любил божественное как таковое, а любил только «человеческое, слишком человеческое», не
догадываясь о нерасторжимой связи од-
ного с другим? Или это был просто «ресентимент» (см.: Ресентимент, II) в адрес христианской морали,
для которого в его жизни, вероятно, были основания? Так как его антихристианство действительно было
злым и неистовым, то можно сказать, что не исключена и такая версия. Однако мы не можем здесь решать
этот вопрос. Нам важно только подчеркнуть логическую несостоятельность понятия Ницше о жизни.
Отметим еще одно противоречие философии жизни Ницше. Преклоняясь перед дионисийством греков,
он истолковал жизнь как хаос сил, или динамический «хаосмос» (как бы осмос хаотизирующих мир сил
вместо космоса как гармонии). Но даже его любимые досократические мыслители (к Гераклиту он был
особенно неравнодушен) понимали мир именно как космос, т. е. как прекрасный порядок и слаженность
всего со всем, поддерживаемый логосом, нусом или разумом. Все они были космоцентристами, в то время
как сам Ницше явно — «хаоцентрист». Его индивидуалистический витализм воли к власти тяготеет к
онтологической анархии и акосмизму. У греков же, напротив, индивидуальное как частное, частичное и
отколовшееся от целого было подчинено суровому суду логоса и номоса (знаменитый фрагмент
Анаксимандра красноречиво говорит о том).
Одним из источников противоречивости философии жизни Ницше выступает несогласованность его
подходов к оценке явлений. В частности, его биологизм, витализм и эволюционизм не всегда согласуются с
его эстетизмом (мир оправдан как эстетическое явление). Вот один только тому пример. Для Ницше как
эволюционистского биологициста атеистическое общество будущего представляется высшим по
отношению к обществу, в котором господствует религия. «Богоубийство», о котором кричит безумец из
«Веселой науки» [4:1:592-593], — величайшее событие, после которого должна наступить «высшая»
история (подобно тому как у Маркса — после победы пролетарской революции). Но рассматривая историю
с эстетической точки зрения и обращая внимание на то, что древнее человечество умело освящать
повседневную жизнь светом божественного, Ницше признает, напротив, большую высоту древних обществ
по сравнению с современными: «Все переживания светились, — говорит он, — иначе, ибо некое Божество
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
114-
-114
просвечивало из них. Мы наново окрасили вещи, мы непрестанно малюем их — но куда нам все еще до
красочного великолепия того старого мастера! — я разумею древнее человечество» [4:1:604].
Итак, мы видим, что исходные позиции для производства оценок и суждений не всегда у Ницше
согласуются между собой. Его эстетизм заставляет его более чутко и взвешенно относиться и к
христианской куль-
111
туре, что вполне вписывается в образ Ницше-романтика. Однако ницшевский биологизм с его жестким
редукционизмом по отношению к христианской морали, его волюнтаризм и преклонение на этой основе
перед язычеством древних определяют прямо противоположные оценки.
Что же произошло в результате всех этих коллизий жизни и ценности у Ницше? Ценности здесь
выступают как то, что дает смыслу возникнуть: жизнь, реализующая ценности, является осмысленной.
«Красивое» устранение «истинного мира» (а то, что эстетические аргументы или соблазны были здесь не
последней сиреной, доказывать не приходится), включая «богоубийство», Ницше разрисовывает пусть и
трагическими, но по-своему привлекательными красками спасения жизни. И иначе и быть не может, раз
«истинный мир», как он говорит, был «опаснейшим покушением» на жизнь [583в]. Получается, что для
спасения жизни нужно убить ее смысл! Оправдание этого парадоксального хода мысли ясно: смысл, мол,
пришел в негодность, в упадок, вера в него утратилась, он стал антижизненным (по Ницше, он с самого
начала, генеалогически был таковым). И в итоге возникает трагическая дилемма: или опасное покушение на
саму жизнь (со стороны смысла) или не менее опасное покушение на смысл (со стороны защищающейся
жизни). В условиях такой дилеммы не было выхода, кроме попытки создания нового смысла — начертания
скрижалей новых высших ценностей. В этом и состоял его рискованный эксперимент с переоценкой всех
ценностей. Подчеркнем: ценность как позиция, как идея и функция не была при этом преодолена.
Переоценке была подвергнута не сама идея ценности как таковая, а только ее конкретное наполнение. В
результате метафизика субъекта как метафизика ценностности осталась не преодоленной.
Библиография
1. Риккерт Г. Философия жизни. Петербург, 1922.
2. Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. IX. М., 1910.
3. Ницше Ф. Собр. соч. Т. II. По ту сторону добра и зла. М., 1903.
4. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990.
СМЫСЛ
4. Эксперимент с высшими ценностями: урок Ницше
Задача, которую ставил перед собой Ницше, была, по сути дела, неисполнимой. Действительно, он хотел
идти до конца в разоблачении всех высших ценностей, прежде всего религиозных и нравственных. Но
«освободив» человека от нравственно-религиозных идеалов, он хотел возникавшим на их месте трактовкам
человека как «больного зверя» придать все тот же
идеальный пафос или ореол. Кажется, что нет философа равного ему в способности разоблачать мифы
сознания. Но равным образом нет философа, столь же озабоченного и созиданием новых мифов. Идеал был
для Ницше подобен голове легендарной гидры — сколько ни отсекает ее Геракл, она все равно тут же
вырастает.
Подчеркнем еще раз: задача Ницше — сокрушить все прежние ценности с водружением на их место
новых — была в себе самой противоречивой. Ведь смена ценностей сохраняла саму функцию ценности как
таковой, к которой относилась и критика ее Ницше. Разоблачение идеалов оставляло нетронутой
потребность в идеале. Остаться при одной витальной жизни оказалось невозможным. «Больной зверь»
нуждается в излечении, и для этого ему все равно нужны ценности, идеи, идеалы... В конце концов, ценой
собственного разума Ницше все же провел свой грандиозный эксперимент с высшими ценностями. И этот
опыт, надо в этом признаться, провалился. Человечество не усвоило себе ницшеанских идеалов. Вечное
возвращение того же самого, сверхчеловек, воля к власти и «смерть Бога», открывшая путь к этим идеям-
мифам и освободившая для них место, стали не более чем симптоматикой глубокого кризиса культуры и
человека, символами анонимно-машинного прогресса секуляризованной цивилизации как техники
покорения природы и обустройства «пристегнутого» к ней мира человека. Воля к власти как
метафизическое сосредоточие этого процесса стала, по словам Хайдеггера, «волей к воле», так как какое-то
особое содержание воли, отличное от нее самой, как выяснилось, отсутствует. Но описав в общем-то
горькую для человеческого достоинства и жизни ситуацию, мифологемы Ницше, повторяю, не стали
осознанными живыми идеалами людей, не стали содержанием их свободы.
Ницше претендовал, конечно, на всемирно-исторический поворот, в его воображении, все более
погружающемся в гордыню, сопоставимый по своим масштабам с событием боговоплощения. Но
воплощением его «сверхчеловека» оказался лишь европейский «технократ» и «империалист». Ницше не без
оснований был признан пророком ближайшего будущего Европы, ее очередного исторического этапа — но
не более того.
Ницше хотел, чтобы человечество окончательно рассталось с христианскими началами цивилизации и
перешло к началам языческим, к дионисийству, к кастовому строю с воинствующей аристократией,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
115-
-115
исповедующей псевдорелигию земного могущества. Но и это сорвалось, даже в своем гротескном и
карикатурном варианте, благодаря краху фашизма и коммунизма,
112
говоря политически и исторически. В результате отрицательного итога этого эксперимента («событие
Ницше») Европа подтвердила свое христианское основание как первое по рангу и значимости. Языческое
греко-римское наследие было поставлено на свое место. И при этом скорее в своей, так сказать,
аполлоновской, а не в дионисийской версии.
На языке семиотических аналогий Ницше своей философией жизни хотел как бы «кастрировать» символ,
устранив из его структуры сферу значения, оставив один только «знак» — одинокий человек на одинокой
(«без неба») земле. Его философская страсть к разрушению категориального мира за счет устранения таких
понятий, как «вещь», «субстанция», «бытие», привела его к одностороннему аффекционизму по ту сторону
даже и самой метафизики воли к власти как чего-то цельного и единого. Но в результате всей этой
семиотической «диверсии» познание и сознательная жизнь делаются невозможными — «висеть» на самих
себе ощущения, переживания и атрибуты не могут. Аффектам нужен субъект. Становлению нужен
становящийся, сохраняющий свою идентичность. Мышление подобно магниту: пытаясь устранить один из
его полюсов, мы сталкиваемся с его самовосстановлением. Такова и природа символа и всей системы
познавательных категорий вообще.
Ницше попытался «небо» без всякого остатка растворить в «земле», но при этом саму землю сделать
«небом» — идеалом, в котором не было бы и тени трансценденции. Но земля была для него как «правда» и
как «истина» трагедией: обезбоженность, пустота нигилизма, насилие, безысходность алчности и смерти,
войны и роскоши. И всему этому по логике ницшевского (анти)идеала надо было говорить громкое «Да!»,
причем, чем громче, тем лучше, ибо тем мужественнее принятие жизни, тем благороднее позиция.
Но «небо» и «земля» — взаимосвязанные подсимволы целого символа: невозможно устранить один
конец их связки, оставаясь при этом наедине с нетронутым другим. Связка при подобной операции
самовосстанавливается. И, действительно, после «крутых» ницшевских опытов «небо» только проясняется:
«небесные» коннотации «земли» обретают новые силы и земная цивилизация с ее искренними или
лицемерными заботами о правах человека, о научно-техническом прогрессе, обо всем благоустроении
человека на земле видится «размокшей баранкой», плавающей в «молоке» небесной премудрости.
И мысль теперь понимает ясно: сама ее ясность в том, чтобы непостижимое называть непостижимым и
хранить тайну в качестве таковой. Мысль теперь сама становится на свой пост, но уже не по разоблачению
потустороннего, ставшего якобы известным в его ан-
тижизненности и в его происхождении из посюстороннего, а по обретению неизвестного, недоступного
для нее самой, но символически ценного для самого бытия человека человеком. Мысль простирает теперь
свою заботу если и не на полную действительность трансцендентного (что превышает ее возможности), то
по крайней мере на саму возможность символической связи с ней. Иными словами, интеллектуальная
честность мысли (ницшевский, кстати, point d'honneur) теперь не в том, чтобы разоблачать святое и
третировать священное как фикцию или иллюзию, а в том, чтобы сказать: «Стоп! Здесь святое! Назад!»
Еще одна интеллектуальная ошибка Ницше, на наш взгляд, в том, что он отождествил смысл с
ценностью. Однако сфера смысла в отличие от ценности неотделима от онтологического измерения.
Вторжение самой идеи ценности в мир человека означает, что то, что выступало до того бытием, т. е.
самосущим истоком себя и своего другого, превращено в нечто зависимое от нового начала или того, что
выступает таковым или принимается за таковое. Мы говорим о ценности жизни, здоровья, религии,
нравственности и т. п., имея в виду, что все это служит чему-то другому, входит в состав его
обусловливания, в его «расчет». Что же это такое, если не человек как субъект сегодняшней цивилизации?
Здоровье и сама жизнь человека ценны постольку, поскольку они необходимы для эффективного
производства и поддержки цивилизации. Религия и нравственность нужны для поддержания социального
мира и опять-таки для правильного течения материальной цивилизации. Быть ценностью — значит быть
средством. Бытие же, напротив, есть идея (по крайней мере, бытие как идея) абсолютной цели (а не
средства). Поэтому само аксиологическое зрение, ценностное мышление — симптом чрезмерного
«раздувания» человека как субъекта, свидетельство опасного «злоупотребления ипостасностью» (С.
Булгаков). По отношению к смыслу ценность поэтому выступает как его деградировавший в силу
чрезмерной субъективизации синоним. Но Ницше отождествляет смысл и ценность [1, 12, 113, «Воля к
власти» цит. с указанием номера фрагмента], приравнивает его к ней. В результате возникает усеченный и
доступный для произвола субъекта ценностный знак, или знак ценности, который может силовым методом
инвестироваться в вещи или изыматься из них. Поэтому герменевтика Ницше оказывается по сути своей
агрессивно-насильственной. Истолкование как агрессия, насилие как результат и средство борьбы ничем не
сдерживаемых сил стало постулатом его постструктуралистских последователей. Итак, сила (произвола)
субъекта властна, в конечном счете, над ценностью, но не над смыслом.
113
Подведем итоги нашего анализа связи жизни и ценности в философии Ницше. Принимая к сведению
уроки эксперимента Ницше с высшими ценностями, мы уже не можем считать жизнь как таковую всегда
правой, не чувствуя при этом высшей оправданности разума и веры наставлять ее, выправлять ее стихийные
импульсы, оформлять ее хаотическое кипение. Иными словами, эксперимент Ницше своим результатом
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
116-
-116
способствует возвращению логосу тех прав, в которых европейский человек усомнился. Опыт Ницше
продемонстрировал нам границы всех возможных философий жизни — они в себе не полны, если не
дополнены философиями логоса и разума. Жизнь, исходя из самой себя в своей земной имманентности,
бессильна дать себе действительно прочный смысл. Сфера смысла превосходит сферу непосредственной
изменчивой жизненности и тем более никак не может быть к ней сведена. Так мы можем сформулировать
один из главных уроков, извлекаемых нами из опыта Ницше с переоценкой ценностей.
В качестве критического оружия против фальши и лицемерия, наслаивающихся на земных воплощениях
сферы смысла, натурализм и витализм в стиле Ницше сохраняют свою относительную и условную
значимость и сегодня. Но надо ясно отдать себе отчет в том, что, проделав опасную работу каскадера
культуры, пытавшегося водрузить новые высшие ценности на месте старых и сорвавшись при этом, Ницше
освобождает нас от необходимости повторять его рискованные трюки на канате богоборчества.
Провал эксперимента Ницше с высшими ценностями, эксперимента, проводившегося им как бы от лица
самой жизни, свидетельствует об устойчивости смысла как тоже своего рода жизни, устраняясь от которой,
чисто биоподобная жизнь оказывается несостоятельной в своих претензиях на полагание нового смысла,
исходя только из самой себя.
Если социолатрия Маркса в результате эмпирически осуществленного краха основанной на ней и (на
время) реализовавшейся утопии способствует освобождению человека от прельщения социальностью, то
сорвавшийся эксперимент с высшими ценностями, проделанный Ницше, освобождает нас от бездумного
обожествления жизни как витального хаоса, от безоговорочного поклонения жизненным стихиям, от
безоглядной витомании и биолатрии.
ПОЗИЦИЯ 2.3. ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕЯ КУЛЬТУРЫ - Межуев В. М. -
Концепты: знание о культуре, культура как идея, открытие культуры,
классическая модель культуры, свое и чужое в культуре
ЗНАНИЕ О КУЛЬТУРЕ
Историю культуры следует отличать от истории знания о культуре. Нельзя смешивать эти истории:
люди живут в культуре, творят ее, но не сразу делают ее предметом своего знания (подобно тому, как все
живут в истории, но не все являются историками). В составе современного знания о культуре особое место
принадлежит философии культуры, прямо не совпадающее с тем, которое занимает сегодня культурология
— наука о культуре. Здесь то же различие, что между философией истории и исторической наукой,
социальной философией и социологией, философской и научной антропологией и пр. Граница между
философией культуры и культурологией не всегда отчетливо формулируется, но она очевидна при
сопоставлении, например, трудов немецких культурфилософов и американских культурных антропологов.
Последние противопоставили философскому воззрению на культуру ее научное изучение, базирующееся на
сборе и анализе эмпирических данных, получаемых в ходе «полевых исследований» и наблюдений над
жизнью примитивных народов. По словам американского культурного антрополога Лесли Уайта,
предпринявшего попытку обосновать право культурологии на самостоятельное существование в ряду
социальных наук, «... важнее всего то, что культурология отвергает и упраздняет философию, которая
веками оставалась дорога сердцам людей и которая по-прежнему вдохновляет и питает представителей
общественных наук и дилетантов. Это древняя и почтенная философия антропоцентризма и Свободной
Воли»[ 1:154]. Подобная претензия на упразднение философии заставляет более внимательно отнестись к
тому, что значит быть философом культуры, в чем состоит философское отношение к ней.
Проще всего, конечно, понимать под философией культуры то, что писали о культуре философы
прошлого и настоящего. Такое знание, однако, по справедливому замечанию Б.Г. Капустина, сделанному им
относительно политической философии [2:83] .свидетельствует более об информированности в философии
культуры, чем о ней самой. Оно необходимо любому культурному человеку, но само по себе не делает его
философом культуры (равно как и начитанность в художественной литературе не делает его писателем).
Философия культуры — не просто сумма высказываний о культуре отдельных философов, но часть
философской системы, необходимо вытекающая из ее общего замысла. Что это за часть и как она связана с
системой в целом?
На этот счет мнения расходятся. Согласно одному из них, о чем бы ни говорил философ — о мире,
природе, обществе, человеке, — он говорит о культуре.
114
Природа философской рефлексии такова, что любой ее объект раскрывается как феномен культуры. По
определению М.Б. Туровского, «рефлексия на культуру и есть философия» [3:33]. Значит ли это, что любая
философия есть философия культуры, что история последней совпадает со всей историей философии?
Философ может не называть себя философом культуры, но его философия именно такова.
По другому мнению, философия культуры — одна из дисциплин в «энциклопедии философских наук». С
какого времени эта дисциплина обретает право на существование? Выступая в 1939 г. с лекцией перед
студентами Гетеборгского университета, Э. Кассирер начал ее следующими словами: «Из всех отдельных
частных областей, которые мы обычно различаем в систематическом целом философии, философия
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
117-
-117
культуры образует, вероятно, самую сомнительную и более всего оспариваемую часть. Границы самого
понятия ее никоим образом четко не установлены, и оно однозначно не определено... Эта характерная
неопределенность связана с тем, что философия культуры — самая молодая среди философских дисциплин
и что она не может, подобно им, оглядываться ни на какую гарантированную традицию, ни на какое
многовековое развитие» [4:301].
Мнение о том, что философия культуры — не вся философия, а только ее часть, разделяется и рядом
наших отечественных авторов. Задачей этой части, как считает М.С. Каган, является теоретическое
моделирование культуры в «еереальной целостности и полноте конкретных форм ее существования, в ее
строении, функционировании и развитии»[5:21]. Сходное определение дается П.С. Гуревичем: «Философия
культуры (культурфилософия) — философская дисциплина, ориентированная на философское постижение
культуры как универсального и всеобъемлющего феномена»[6:497].
Нельзя не отметить наличие определенной тавтологии в таком определении. Ясно, что философия
культуры может быть только ее философским постижением и никаким другим. Указание на то, что
философия постигает культуру в ее целостности, вызывает недоумение — разве наука как-то иначе
постигает ее? В том же словаре, где помещена статья П.С. Гуревича, культурология определяется А.Я.
Флиером как «наука, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и обществе
и изучающая культуру как целостность, как специфическую функцию и модальность человеческого бытия»
[6:248] Итак, философия и наука изучают культуру в ее целостности — в чем тогда различие между ними?
Данное различие и необходимо, видимо, учитывать, при определении специфики философского знания о
культуре.
Зафиксируем для начала очевиднейший факт: философ, что-то утверждающий относительно культуры,
до всякого суждения о ней сам принадлежит к определенной культуре, включен в ее контекст. Философия в
любом случае есть часть культуры, причем не вообще культуры, а вполне конкретной — европейской,
начало которой было положено греческой Античностью. Философия, по словам итальянских историков
западной философии Д. Реале и Д. Антисери, есть «создание эллинского гения». «Действительно, — пишут
они, — если остальным компонентам греческой культуры можно найти аналоги у других народов Востока,
достигших высокого уровня цивилизации раньше греков (верования и религиозные культы, ремесла
различной природы, технические возможности разнообразного применения, политические институты,
военные организации и т. п.), то, касаясь философии, мы не находим ничего подобного или даже просто
похожего» [7:3]. В равной мере это касается и науки, ибо последняя также «не есть нечто, что возможно в
любой культуре» [7:3]. Философия, родившаяся в Античности, сделала возможным и появление науки,
причем долгое время они существовали нераздельно друг от друга. Только когда наука «отпочковалась» от
философии, стало ясно, что их разделяет в плане познания мира.
Будучи обязаны своим происхождением одной и той же культуре, философия и наука по-разному
реагируют на свою связь с ней, на факт своей культурной обусловленности. Для философа данный факт
является определяющим: он смотрит на мир «глазами» своей культуры, сквозь ее призму. Мир для него —
это мир культуры, в котором он живет и с которым связан самым непосредственным образом. Даже когда он
пытается облечь свою мысль в научную форму, она для него — лишь перевод свойственных его культуре
смыслов и значений на язык науки.
Философская картина мира не выходит тем самым за культурный горизонт своей эпохи, существенно
преобразуясь по мере того, как одна эпоха сменяется другой. Античность, Средневековье, Новое и
Новейшее время — вехи не только в истории европейской культуры, но и в процессе смены философских
мировоззрений. Наука тоже существует в определенном культурном контексте, но этот контекст
воспринимается ученым, скорее, как помеха на пути к объективному знанию, так что лучше вынести его за
скобки, исключить из состава теоретических выводов и положений. Если бы истины науки признавались
таковыми только для определенной культуры, наука была бы невозможной. Культурный контекст, в
котором существует наука, учитывается при исследовании истории науки, но, как правило, исчезает при ее
логико-методологическом обосновании.
115
В отличие от научного философское познание предельно контекстуально, имеет смысл лишь в границах
определенной культуры. А так как такой культурой является, как уже говорилось, европейская, мир в
представлении философа — мир человека этой культуры, мир, как он дан его сознанию. Наука в своих
теоретических построениях обладает свойством всеобщности, выходящей за рамки любой культуры,
философия — свойством культурной уникальности. Можно сказать, что ученый познает мир в его
объективном существовании, т. е. вне связи с собственной субъективностью, философ же пытается постичь
его в прямой и непосредственной связи со своей субъективностью, всегда культурно обусловленной. Нет
одной философии на все времена и для всех народов, выводы же науки не могут быть оспорены
обстоятельствами места и времени.
Библиография
1. Уайт Л. Наука о культуре // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997.
2. Капустин Б.Г. Что такое политическая философия? // Полис. 1996. № 6.
3. Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М., 1997.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
118-
-118
4. Кассирер Э. Натуралистическое и гуманистическое обоснование философии культуры //
Постижение культуры. Ежегодник. Вып. 7. М., 1988.
5. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
6. Культурология. ХХ век. Словарь. СПб., 1997.
7. Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: Античность. СПб.,
1994.
КУЛЬТУРА КАК ИДЕЯ
Начиная с греков, философия стала для европейского человека главным органом его самосознания, его
взгляда на мир и самого себя. По своим истокам европейская культура — прежде всего философская;
философия занимает в ней центральное место. Европейская культура отличается от любой другой не только
по своей религиозной вере — богами, в которых верят люди этой культуры, — но и как философская идея. В
философии Э. Гуссерль усматривал «изначальный феномен духовной Европы» [1:304], определяя ее
«духовный облик» как «явленность философской идеи» [1:159], берущей начало у греков.
Изначальная тождественность европейской культуры с философией объясняет и то, почему последняя
стала здесь исторически первой формой знания о культуре. Европеец ранее других догадался, что живет в
культуре, оформив свою догадку в виде философской идеи культуры. Ее следует отличать от научного
понятия культуры, посредством которого культура фиксирует-
ся как предмет научного знания. Идея и понятие — не одно и то же. Идея также существует в форме
понятия, но в отличие от последнего заключает в себе нечто большее, чем простое обобщение данного в
опыте эмпирического материала. По словам П.В. Копнина, «в идее предмет отражается в аспекте идеала, т.
е. не только таким, как «он есть», но и каким он «должен быть». Идея направляет практическую
деятельность, образуя идеальную форму будущей вещи или процесса» [2:236]. В идее любой объект
представлен со стороны своего значения (ценности) для субъекта; иными словами, идея есть рационально
выраженный субъективный смысл объективно существующей вещи, создаваемый не ее телесными,
природными свойствами, а ее отношением к иному — внеприродному — миру, к миру человеческой
субъективности.
В самой по себе вещи, взятой в соотнесенности с собой, нет никакого смысла. В своей
самотождественности она есть природа, равнодушная ко всему, что выходит за ее пределы. Вещь наделяется
смыслом, когда перестает быть равной себе, становится знаком, символом «другой природы» —
божественной или человеческой. Так, предметы религиозного культа обретают сакральный смысл в точке
пересечения «естественного» и «божественного» миров, на их стыке. Смысл вещи, выраженный в идее, и
есть то ее значение, которое она получает в контексте своего не природного, а какого-то иного бытия.
Во все времена человек был убежден в том, что вещи, с которыми он имеет дело в своей жизненной
практике, заключают в себе нечто большее, чем ему только видится, слышится, осязается в них. В вещах
ему постоянно чудился какой-то «тайный смысл», скрытый от внешнего наблюдения и имеющий для него
значение более важное, чем просто эмпирическое знание о них. Подобное убеждение растет из особого
положения человека в мире: будучи сам «родовым» существом, он и в вещах ищет их «общий вид», «эйдос»,
или «идею». Его интересует в них не их природная, чувственная данность, а их человеческая значимость.
Многообразие смыслов, которыми человек наделял окружающий мир, было следствием его меняющегося
положения в этом мире, того, как он чувствовал и осознавал себя в нем.
Способность вещи излучать из себя человеческий смысл (точнее, способность человека наделять ее
таким смыслом) и превращает ее в предмет культуры. Философ обладает умением «видеть» этот смысл,
постигать его «особым зрением» — умозрением, выражая его в идее. Все, что попадает в поле его зрения,
предстает для него не в своей объективной данности, а в своей значимости для той культуры, которую он
представляет. Картина мира, создаваемая философом, по-
116
добна зеркалу, в котором человек находит и узнает себя, судит о том, кто он сам в этом мире. В
европейской культуре философия и выполняла функцию такого зеркала, давая человеку знание о самом
себе. В том же духе действуют миф, религия, искусство, но в отличие от них философия решает эту задачу
рациональными средствами знания. И только наука смотрит на мир как бы через прозрачное стекло, видит в
нем то, что существует независимо от познающего человека.
Философия с этой точки зрения есть, действительно, «рефлексия на культуру», что, однако, еще
недостаточно для возникновения философии культуры. Воспринимать мир «глазами» своей культуры (т. е.
философски) не значит еще иметь идею культуры (равно как мифологическое восприятие мира
первобытным человеком не означало наличия у него идеи мифа). Выработка такой идеи и составляет задачу
философии культуры. В ней фиксируется не просто факт существования культуры, который можно
наблюдать в обычном опыте, а то ее значение, которое она получает в европейской культуре, которое ей
придает человек этой культуры. В любой идее фиксируется не фактическая (объективная) данность
предмета, а его значение (ценность) для определенного сообщества людей. Идея культуры, с этой точки
зрения, — это идея европейской культуры, то, что она значит для европейских людей.
Различие между понятием и идеей можно пояснить на примере того, как слово «культура» используется
в нашем языке. Когда мы говорим о ком-то, что он — культурный человек, мы даем ему положительную
оценку, а называя кого-то некультурным — отрицательную. О культуре можно говорить, однако, как и о
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
119-
-119
том, что присуще любому человеку — во все времена и при любых обстоятельствах. Данное слово имеет как
бы два значения — «оценочное» и «описательное» (нормативное и дескриптивное). С одной стороны, оно
означает определенную оценку с точки зрения некоторой идеальной нормы (о культуре говорят в этом
случае как о качестве или свойстве, которое присуще или не присуще объекту — наряду с «культурой»
возможно «бескультурье»), с другой — обозначает класс элементов, существующий безотносительно к
оценке. В описательном значении слово «культура» используется, как правило, в науке, в оценочном — в
обыденной речи и... в философии, что свидетельствует о ее большей близости к повседневному сознанию
людей. За различным словоупотреблением скрывается, следовательно, проблема взаимоотношения
философии с наукой, разобраться в котором можно лишь после того, как станет ясно, что, собственно, в
философии понимается под | культурой, какое значение она придает этому понятию.
Библиография
1. Э. Гуссерль. Кризис европейского человека и философия // Культурология. ХХ век. М.,
1998.
2. Философская энциклопедия. М., 1962.
ОТКРЫТИЕ КУЛЬТУРЫ
В отличие от истории культуры история знания о ней начинается с того, что можно назвать открытием
культуры. Когда и где произошло это открытие, в чем оно состояло? На этот счет мнения также расходятся.
Вот одно из них, достаточно распространенное: «Уже в античном обществе культура как совокупность
навыков и умений, а также результатов деятельности человека была выделена в качестве предмета
осмысления» [1:6]. Сошлемся, однако, на другое мнение, принадлежащее такому безусловному
философскому авторитету, как Мартин Хайдеггер. В статье «Европейский нигилизм» он пишет: «Всякий
историографический анализ тотчас берет на вооружение господствующий в современности образ мысли и
делает его путеводной нитью, по которому исследуется и вновь открывается прошлое... Так люди сразу же
после появления ценностной мысли заговорили о «культурных ценностях» Средневековья и «духовных
ценностях» Античности, хотя ни в Средневековье не было ничего подобного «культуре», ни в Античности
— ничего подобного «духу» и «культуре». Дух и культура как желательные и испытанные основные виды
человеческого поведения существуют только с Нового времени, а «ценности» как фиксированные мерила
этого поведения — только с Новейшего времени. Отсюда не следует, что прежние века были
«бескультурными» в смысле погружения в варварство, следует только вот что: схемами «культура» и
«бескультурье», «дух» и «ценность» мы никогда не уловим, к примеру, историю греческого человечества в
его существе» [2:72]. Понятия «античная культура», «средневековая культура», будучи относительно
верными в плане истории культуры, лишены смысла в плане истории знания о ней. Они не могли
возникнуть раньше, чем люди Нового времени открыли для себя факт собственного существования в
культуре. Греки не были варварами, из чего никак не следует, что они были философами культуры.
Вот еще одно мнение: «Открытие своей культуры, вообще культуры как таковой стало возможным тогда,
когда были открыты культуры (во множественном числе). Благодаря этому культура как таковая стала
предметом исследования. Именно в XIX в. возникли философия культуры и культурная антропология как
систематические науки. Тогда же появилась социология, которая, по сути, началась и развивалась как наука
о культуре» [3:24]. С этим мнением, по существу, солидаризируется А.Л. Доброхотов, считающий, что
«куль-
117
тура как предмет знания не существовала вплоть до XVIII века» [4:11 ] По его словам, «проблема
культуры не возникла и в эпоху гуманизма» [4:12].
Оба автора не делают различия между философским и научным открытием культуры, полагая, что это
примерно одно и то же. Мы придерживаемся иного мнения: «открытию культур (во множественном числе)»
— научному открытию — предшествует «открытие своей культуры», которое является уже философским.
Чтобы называть «культурами» чужие миры, надо уже знать о собственной причастности к культуре. Хотя
термин «философия культуры» появится, действительно, только к концу XIX в., культура будет открыта
философами намного раньше. В чем же состояло это открытие?
Оно заключалось, видимо, в открытии особого рода бытия, обязанного своим существованием не Богу и
не природе, а самому человеку как существу относительно свободному от того и другого. Культура — все,
что существует в силу человеческой свободы в противоположность тому, что не зависит от человека,
существует по собственным законам. Открытие свободы в мире природной и всякой иной необходимости и
стало открытием культуры, в результате чего она обрела в общей картине бытия собственную территорию.
Когда же произошло это открытие?
Долгое время люди жили с сознанием своей полной зависимости от потусторонних сил в лице демонов,
духов и богов. Такое сознание мы называем мифологическим. Это сейчас миф — явление культуры; для
людей, верящих в него, он — не культура, а область сакрального и непостижимого, чему нет никакого
разумного объяснения. В границах мифа все совершается по воле высших сил, тогда как удел человека быть
их послушным исполнителем. Любое отклонение от этой воли влечет за собой неминуемое возмездие.
Самостоятельность человека сведена здесь практически к нулю, а значит, нулевой является и сфера
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
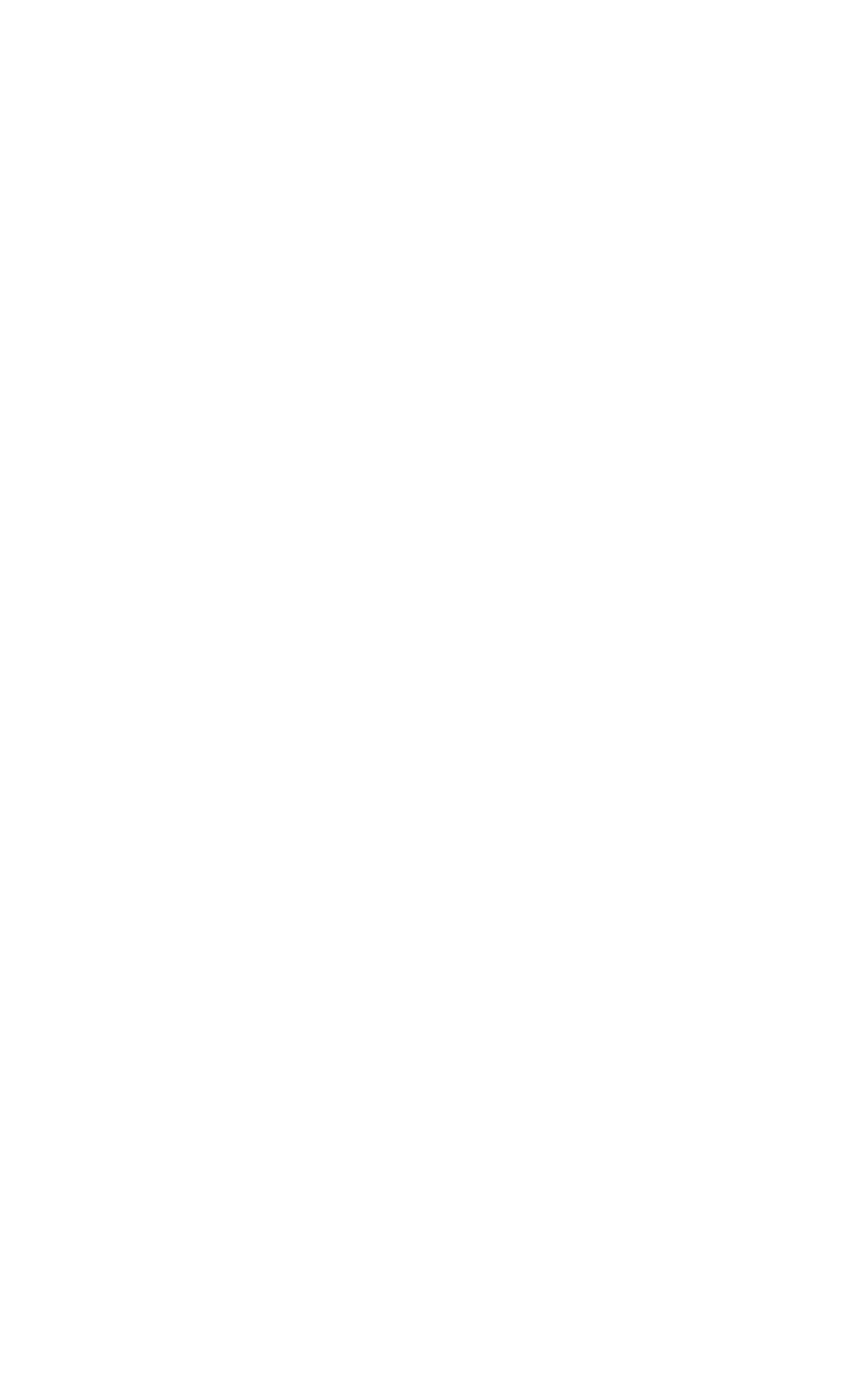
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
120-
-120
культуры.
Правда, уже греки считали себя свободными гражданами города-государства (полиса). Однако в
границах этой свободы они полагали своей высшей добродетелью следование раз и навсегда заведенному
порядку вещей — мировому «логосу». Человек может познать этот порядок, но он включен в него с той же
необходимостью, что и остальные вещи. Известная, но не очень ценимая греками способность человека
трудиться (обрабатывать землю, вести домашнее хозяйство, создавать изделия ремесла) служила для них
доказательством не столько свободы человека, сколько его зависимости от собственного — смертного —
тела и его природных потребностей. Потому труд в их представлении являлся уделом не свободных
граждан, а рабов и женщин. Даже вменяемая свободному гражданину обязанность воспи-
тания и нравственного совершенствования (по греч. «пайдейя») не отменяла общей для всей Античности
космоцентрической картины мира с его универсальными законами и субстанциальным единством.
В жизни люди, конечно, отличали искусственно созданное от естественно существующего, техническое
от физического. Однако это различие долго не получало понятийной, философски осмысленной формы
выражения. Тому препятствовало стремление философии — от Античности и до Нового времени —
руководствоваться в познании мира одними и теми же принципами — либо метафизическими, либо
математическими. Мир мыслился как единая в своей основе субстанция — материальная или идеальная, но
в равной мере включающая в себя природу и человека.
В христианской теоцентрической картине мира, ставшей господствующей во времена Средневековья,
также не нашлось места культуре. Христианство, конечно, не отрицало наличия у человека свободы воли, но
видело в ней лишь условие исполнения им воли Божьей. Свобода дана человеку для того, чтобы он мог
служить Богу не по внешнему принуждению, а по добровольному согласию. В любом другом случае она —
источник своеволия и греховности, причина отклонения человека от божественного предопределения и его
подпадения под власть Сатаны. Свобода здесь — постоянно грозящая человеку опасность искушения и
соблазна со стороны темных сил. А открытие культуры связано, видимо, не просто с признанием наличия у
человека свободы воли, но с ее утверждением в каком-то ином — позитивном — качестве.
Люди, конечно, никогда не сомневались в своей способности что-то создавать в мире. Более сложным
был вопрос о том, кто создал их самих. Если они — порождение природы, то и созданное ими есть результат
действующих в них природных сил. Если же они — тварь Божья, то и созданное ими есть божественное
деяние, реализация замысла и воли Бога. Человек свободен в той мере, в какой творит себя сам, является
результатом собственного деяния. Тогда и созданное им обретает значение не природного или
божественного, а человеческого деяния, предстает как действие в сфере культуры. Открытие свободы как
самопроизводства, самотворения человека и стало открытием культуры.
Начало этому открытию было положено эпохой Возрождения. Отличительной чертой этой эпохи явилось
обращение ее выдающихся представителей к античному (языческому в сознании людей Средневековья)
философскому и литературному наследию, его культурная реабилитация в глазах христиански верующего
человека. На примере Античности деятели эпохи Возрождения утверждали право человека на соб-
118
ственную мысль и деяние, не сводимые целиком к божественной «мысли» и «деянию». Именно в эту
эпоху культура постепенно отделяется от культа, обретает светский характер, во всем противоположный
средневековой культуре с ее господством Церкви и религии в духовных и мирских делах. Творцом этой
новой культуры считается уже не Бог, а человек, причем не вообще человек, а вполне конкретная личность
— художник, поэт, писатель, философ. Созданное человеком как бы уравнивает его с Богом: своими
трудами он завершает дело творения мира. Во всяком случае, в мире существует нечто такое, что обязано
своим возникновением исключительно человеку.
Интерес к человеку становится в эту эпоху преобладающим. Соответственно возрастает роль наук,
получивших название studia humanitatis — филологии, риторики, истории, этики. Особое значение
придавалось изучению словесности, как она представлена в античных (классических) образцах. Знания о
человеке оцениваются здесь намного выше любого другого знания. Так, Петрарка равно не приемлет ни
средневековую схоластику, ни естественные науки. «... К чему, — спрашивает он, — знать свойства зверей,
рыб и змей, если не знать или не желать узнать природу человека, ради чего мы рождены, откуда приходим
и куда идем» [1:45]. Познание человека противостоит и бесполезным попыткам проникнуть в мир природы,
и тщетным усилиям человеческого разума открыть для себя тайну Бога. «Загадки природы, непостижимые
тайны Бога, которые мы принимаем со смиренной верой, они тщатся понять в хвастливой гордыне, но
никогда не достигают этого и даже не приближаются к этому» [1:45]. Возрождение стало эпохой рождения
нового типа мировоззрения, получившего название гуманизм (см.: Гуманизм, II). В русле этого
мировоззрения впоследствии и сложится философская идея культуры.
Под гуманизмом принято понимать, во-первых, возникшее в эпоху Возрождения движение
образованных людей по изучению, переводу и комментированию античных источников. Гуманисты
признали в древнем греке и римлянине такого же человека, как они сами, живущие и воспитанные в
христианской вере. Гуманизм, собственно, и означает признание в человеке иной веры и культуры существа,
равного себе и столь же полноценного. Во-вторых, гуманизмом называют мировоззрение, в центре которого
— человеческая личность, свободная индивидуальность, заключающая в себе причину собственного
существования. Возрождение утверждает антропоцентристскую картину мира, в которой человек
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
