Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
261-
-261
Как это возможно в отношении к культуре? В составе какого отношения к ней, посредством какой
формы, внутри каких границ культура может допустить в человеке нетронутым покой его внутреннего
пространства и как этот покой может стать позицией исследовательского внимания к культуре? По-
видимому, вопрос установления границ незатронутости внутреннего пространства человека — ключевой
для современной культуры. Насущной задачей культуры сейчас является поиск форм, которые позволяют
сформировать и защитить внутреннее пространство людей, поскольку это внутреннее пространство
непрерывно подвергается агрессивному давлению нынешнего образа жизни, постоянно требующего от
человека выбора, но одновременно разрушающего это внутреннее пространство и вместе с ним саму
возможность выбора и позицию для рефлексии. Как сформировать позицию для рефлексии в самом течении
обыденной жизни современного человека? Ведь требование рефлексивного выбора звучит именно в
обыденной жизни, и человеку пока не удается этому вызову соответствовать.
271
По сути, получается, что найти исследовательскую позицию для теоретической рефлексии на культуру
означает решить проблему современности — сформировать позицию для рефлексии и внутреннее
пространство как ее условие. Но тогда и наоборот: собственным предметом культурологии, имеющим
принципиальное теоретическое значение для нее и для ее возможности быть самостоятельной дисциплиной,
является поиск в культурах всего многообразия форм, посредством которых формируется внутреннее
пространство личности и позиция для ее рефлексивного выбора.
Знаменательно, что в контексте этой фундаментальной культурологической задачи по-новому начинают
звучать существовавшие в истории формы определения внутреннего пространства человека и его
отграниченности от иного. Очень интересно проанализировать с этой точки зрения роль математики,
которая как раз и давала формы мыслимости иного [8]. В этом смысле задача современной культурологии,
на наш взгляд, может быть метафорически определена как поиск своего рода «математики» культуры,
некоей новой mathesis universalis.
Та математика, которая позволяла мыслить иное как мир (космос) в Античности, отличалась от
математики, позволявшей мыслить иное как мир в Новое время. Математика Античности позволяла
мыслить покой, равновесие, гармонию, пропорцию. Само движение представало в ней как подвижный образ
вечности, т. е. опять-таки покоя. Эта форма мыслимости соответствует созерцанию иного как
пропорционального, гармоничного целого — космоса. Но здесь лучше воздержаться от того, чтобы сказать,
что речь идет о С. — его нет в Античности в том смысле, который это слово приобрело в Новое время. С. в
понимании Нового времени — это С. деятельности, причем понятой иначе, чем в Античности, когда высшей
формой деятельности у Аристотеля мог оказаться энергийный покой мыслящего себя Ума.
Но каким образом С. Нового времени мог стать именно субъектом деятельности? Причина в том, что
движение, которое этот С. (человек, приобретший форму мыслимости движения) оказался способен
воспроизвести, он воспроизвел тоже через некую форму мыслимости, в качестве которой и выступила
математика Нового времени.
Математика, по Канту, занята априорным синтезом в сфере чистого созерцания. Что означает здесь в
контексте нашей проблемы чистота созерцания? Созерцание часов, подсказывающих, что мне пора уходить,
не является чистым, поскольку они нарушают покой созерцания, возмущают мое внутреннее пространство.
Если я могу придать своему созерцанию такую форму,
в которой этот покой оказывается не нарушен, то само созерцание, т. е. внешнее отношение к иному как
к созерцаемому, оказывается возможным. Внешнее отношение оказывается при этом результатом, его
осуществление — это некое дело, оно никогда не дано с самого начала. Поэтому не дано сначала и
внутреннее, а значит, математическая форма одновременно оказывается способом формирования
внутреннего пространства — пространства чистого созерцания.
Новое время нашло форму мыслимости действия, движения, которое позволяло его созерцать подобно
тому, как Античность могла созерцать покой и его отношения и пропорции. Этими формами оказались
аналитическая геометрия и исчисление бесконечно малых, способные представить как внешние предметы
сам процесс смены, текучесть, континуум, остановленные и оставляющие в покое созерцающего их С.
Античность имела дело с пропорциями и отношениями покоящегося, соотнесенного, статичного. Движение
в его текучести — немыслимо (апорийно). Приобретя в новой математике форму данности для мысли этой
текучести движения, Новое время смогло научно описывать ускоряющееся или замедляющееся движение —
полет ядер, движение корабля, падение тел, а не только движение небесных сфер, с его правильными и
статичными пропорциями и разложимостью на простые равномерные статичные движения — подвижные
образы неподвижности. Оказалось возможным иметь дело с возмущениями движения, которые стали
предметом мысли, поскольку опыт их восприятия полагался мыслимым, внешним, дающим место субъекту
быть и познавать его извне.
В Новое время возникло новое место для рефлексии — не для ума, созерцающего отношения и
пропорции чувственного мира, а для С, в своем действии на другое остающегося незатронутым — до тех
пор, пока не нарушены сами границы, лежащие в основе этой незатронутости и дающие форму иному,
которое всегда угрожает нарушить границу и войти внутрь, разрушая внутреннее. Иное остается
прирученным только в обозначенных границах, за которыми возникает и существует нужда в новом
полагании границ и нахождении нового места для возможной рефлексии.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
262-
-262
Этот анализ показывает, что возможность науки зависит от возможности обеспечить специфическую
незатронутость познающего сознания при помощи конструирования формы данности иного. Подобное
конструирование позволяет сознанию, касаясь иного, удерживать форму его данности, так что наличие этой
формы дает мыслить иное. Можно также сказать, что создание формы мыслимости образует фундамент
самой науки и ее собственное дело, которое становится ос-
272
новным, выходит на первый план, когда идентичность познающего С. оказывается поставлена под
вопрос. Это происходит в современной культуре. Но если фундаментальной научной деятельностью
действительно является конструирование формы данности иного [8], то наука не отжила свой век в
культуре, а просто иначе должна быть востребована сейчас — не как образец познания внешнего объекта, а
как опыт и искусство находить такую форму для иного, которая позволила бы, даже погружаясь в иное,
сохранять способность к осознанному разумному изменению себя самого (принимая во внимание
рискованность своих действий и ответственность за них). Поиск новой формулы идентичности, способной
разумно меняться при переживании встречи с иным, — актуальная задача современной культуры.
Поиск внутренней позиции перед лицом свойственной нашей культуре постоянной инверсии отношения
внешнего и внутреннего (см.: Интериоризация, I) — насущная, жизненно важная задача современности.
Проблему разграничения внешнего и внутреннего приходится решать каждый раз не так, как это делали
Античность или Новое время, которые могли позволить себе выносить всю проблематику определения
формы мыслимости за рамки обыденности и как бы за границы самого процесса. Сейчас установка формы
предметности и позиции его мыслимости — это одновременно попытка понять, каково место самой
возможности мыслить этот предмет в каких-то границах и что значит вообще мыслить его.
Представляется, что интерес к культурам и самому феномену культуры подспудно обусловлен
стремлением найти в них способы формирования субъектности, формы укоренения рефлексии и пути
создания и защиты внутреннего пространства. И именно этим определяется актуальность культурологии для
современности.
Библиография
1. Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения в двадцать
первый век. М., 1991.
2. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-логос.
Вып. 1. Общество и сферы смысла. М., 1991.
3. Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск, 1999.
4. Наливайко И.М. Топос и атопия (К проблеме специфики типов субъективации в контексте
диалога культур) //Топос. Минск, 2000. Т. 1.
5. Сильвестров В.В. Культура. Деятельность. Общение. М., 1998.
6. Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М., 1997.
7. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998.
8. Черняк Л. С. Органическое как аналогия разумного: Телеология у Канта // Вопросы
философии. 1997. № 1.
РЕФЛЕКСИЯ
2. Условие самоидентификации — обретение оснований рефлексии в по вседневной
жизни
Кризис идентичности, выдвигая на первый план самоидентификацию как насущную для каждодневного
существования задачу, ведет к включению Р. в ткань повседневной жизни. Когда вопрос о
самоидентификации рассматривается в рамках социологического подхода, идентичность понимается либо
как субъективная психологическая характеристика индивида (чувство его единства с собой или внутренней
целостности), либо как объективные социальные и культурные свойства, приобретая которые человек
получает определенный социальный статус, идентифицируется с какой-либо группой. В контексте такого
подхода Р. как способность делать осознанный выбор анализируется, исходя из наличия соответствующих
социальных и культурных институтов, которые свидетельствуют о ее характере и значимости для общества.
Однако вопрос о Р. предполагает необходимость отдать себе отчет в основаниях и следствиях самой его
постановки (см.: Позиция 3.2).
Понятие Р. в узком смысле слова, как оно исторически сложилось, прежде всего означает осознание
содержания мысли. Рефлектируя некое свое знание, я не просто знаю нечто, но и знаю об этом моем знании.
В этом смысле Р. есть лишь знание о знании, или — соответственно — мыслительная процедура,
направленная на осознание содержания мысли.
Однако стремление к такому осознанию, принципиальное настаивание на его необходимости (для того
чтобы мысль могла стать всеобщим достоянием) исходит из пафоса ответственности мыслящего за ход и
результаты своего мышления, поскольку его ответственность и основана на осознании всего, с чем
мыслящий имеет дело. При этом осознание — предельная артикуляция хода мысли — полагается в качестве
идеала. Однако требование предельности имеет и другую сторону. Оно не останется пустой декларацией
лишь при некотором условии. Таким условием является погруженность корней Р. в самые глубины
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
263-
-263
неотрефлектированного бытия мысли, в ее истоки. Только при подобной внутренней рефлексивности
мышления и структуры его объекта возможна Р. как внутренний принцип мышления, а не просто
декларативное требование, внешний идеал.
Но если мы примем рефлексивность как внутренний и неотъемлемый принцип мысли, то именно в силу
предельности этого принципа придется принять, что он действует в самых глубинах мышления, т. е. там, где
ход мысли совсем не прояснен, не артикулирован и не осознан актуально. Т. о., техническое понимание Р.
273
как осознанного выделения некоторого содержания мышления, как знания о знании, оказывается
слишком узким для подобного прочтения Р. в качестве принципа мышления. Осознанность мысли как идеал
ответственного и основательного мышления оборачивается не данностью, а заданностью.
Понятие Р. складывается исторически на основе идеи самопознания. В платоновском диалоге
«Алкивиад!» (133с) сократовское требование самопознания характерно трактуется как задача всматриваться
в Бога и в божественное в себе, т. е. в разум [6:218]. Так же и у Аристотеля ум, мыслящий самого себя, —
это ум космический или божественный. Р. здесь понимается как в конечном счете космический процесс
возвращения к источнику бытия.
Во вставке в текст того же платоновского диалога, принадлежащей, вероятно, Евсевию Кесарийскому
(христианский писатель II-Ш в. н. э.), божественное, в которое человек должен всматриваться, трактуется
как зеркало. Эта классическая метафора Р. не случайно присутствует у христианского писателя. Библейское
воззрение на человека как на образ и подобие Бога дает возможность понять сократовское самопознание не
только как космическое возвращение к истоку бытия. Отражение в зеркале является здесь метафорой
внутреннего рефлексивного процесса: Р. толкуется не столько как общее космическое движение, сколько
как путь покаяния и нравственного очищения души. Подобием зеркала выступает Бог как первообраз,
вглядываясь в который человек только и может в истинном свете увидеть собственный образ. В Р.
выделяется более индивидуальный аспект, и она уже являет собой не возвращение вещей к их началу, а
личное покаяние-обращение. Это неудивительно для христианского сознания, основанного на вере в то, что
Добрый Пастырь печется о каждой овце из стада и на небесах больше бывает радости об одном грешнике
кающемся, чем о ста праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Уже в Новое время Локк, споря с Декартом о врожденных идеях, апеллирует к Р. как источнику идей,
имея в виду опыт самонаблюдения человека над собственной мыслью. У Канта Р. — это присущая «силе
суждения» способность восходить от частного к общему и тем самым подводить его под понятие. Р. идет по
пути сравнения одних представлений с другими; трансцендентальную же Р. Кант определяет как средство
выяснить, к какому источнику познания следует возводить то или иное представление. Основанием
всеобщего характера результатов Р. у эмпириков выступает единство природы человека (и его разума), а у
Канта — трансцендентальный субъект, т. е. другая ипостась того же естественного света разума.
Т. о., Р. может пониматься двумя разными способами, определяющими и ее место в самоидентификации.
Р. может, во-первых, пониматься как мышление о наличном содержании сознания, определенном как данное
до и независимо от Р. При этом считают, что восприятие (в традиции английского эмпиризма — Локк, Юм)
и даже понимание (в экзистенциальной феноменологии — Гуссерль, Хайдеггер, Гадамер) предшествует Р., а
последняя рассматривается как орудие абстрактного мышления, следующего заранее принятой установке, и
эта установка организует переживание бытия в совокупность объектов. Единство мира сущего при таком
подходе оказывается следствием исходной установки, эксплицирующей позицию трансцендентального
субъекта, т. е. субъекта, помещенного рефлексией в точку, находящуюся вне переживаемого индивидом
опыта (трансцендентную ему). Понимание бытия и переживание его как временного потока присутствия
рассматривается как принципиально дорефлексивный процесс, в который благодаря Р. могут лишь
вноситься иллюзии и искажения.
Согласно другому подходу Р. не предполагает готовое содержание сознания, а конституирует его,
придавая форму единства любому конкретному многообразию опытных восприятий и смыслополаганий.
Так, Кассирер ведет речь о многообразии символических форм культуры, посредством которых выражает
себя дух [4]. Эта единая основа символического формообразования, оказывающаяся в конце концов основой
осознания внутренней рефлексивности символизма в мышлении, и проявляет себя в мифе, в языке, в
научном познании. Предвосхищение такой позиции Кассирер находит у Гердера, у которого функция
полагания единства приписывалась чувству, придававшему единство разнородным восприятиям, не
подвергшимся обработке мышления. Здесь Р. выступает не только в качестве свойства абстрактного
мышления — она действует как имманентная особенность чувства, принадлежащего переживающему
реальность духу.
В единстве формообразующего принципа культуры можно услышать отзвук идеи трансцендентального
субъекта, по отношению к которому индивид оказывается в роли его функции, подчиненного момента.
Подобное растворение индивида во всеобщем, как представляется, может быть преодолено на путях,
намеченных М.Б. Туровским и его школой. Речь идет о том, что универсальным принципом,
конститутивным для опыта, организованного в качестве рефлексивного, выступает не трансцендентальный
субъект, позиция которого трансцендентна переживаемому опыту, а открытость реальных эмпирических
субъектов миру, точнее — их открытость иному.
274
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
264-
-264
Посредством этой открытости они конституируются в качестве субъектов опыта, и посредством нее же в
переживание опыта вносится необходимый для возможности Р. «трансцензус», т. е. выделенность позиции
субъекта Р. Но этот «трансцензус» вносится в опыт имманентно каждому элементу последнего, поскольку
сам опыт на всех его уровнях конституирован разными формами открытости иному. Тогда благодаря
подобной встроенности открытости в существование человека для переживания опыта оказывается
конститутивной и Р., причем имманентность открытости не требует позиции вне опыта, т. е.
трансцендентального субъекта: достаточно открытости к иному.
В человеческой жизни открытость иному реализуется в полагании целей; это полагание имманентно
несет в себе трансцензус, предстающий как определение себя через радикально иное. Поэтому не понимание
(как чистое умозрение), а открытость иному, актуально реализованная в целеполагании, выступает у
Туровского фундаментальной характеристикой человеческого отношения к миру.
В терминах экзистенциальной феноменологии конститутивность открытости для существования
раскрывается Вальденфельсом в ходе анализа феномена чужого. Он показывает, что при адекватной
интерпретации этого феномена приходится принять во внимание, что для самой сути чужого конститутивен
особый тип вмешательства в переживание опыта, составляющее мое бытие. Это вмешательство,
составляющее суть феномена чужого, требует от меня ответа, выходящего за пределы восприятия и
сознания. Чужое обнаруживает, что мое переживание не является чистым восприятием смысла, но
представляет собой трансцензус — открытость к переживанию радикально внемысленного иного.
В эволюционной биологии, как показывает Туровский и позднее развивает O.K. Румянцев [7], она
представлена концепцией В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. В рамках такого подхода к Р.
органичным выступает представление о различии ее форм и поэтапном формировании сообразно разным
типам открытости к иному.
Феномен кризиса идентичности, сопровождающийся заключением Р. в скобки как орудия лишь
абстрактного мышления, дополняется вынесением за пределы сознания современного человека также и
иного как элемента, сопряженного с его повседневным существованием и включенного в ценностный
порядок его жизни (ср. анализ изменения отношения человека к смерти у Ф. Арьеса [ 1 ] ). Причиной
очевидного обеднения понятия Р. является историческая особенность развитой «модерном» формы
открытости миру, кото-
рая представлена в возникающем в это время образе жизни. Причем это искажение роли Р. связано как
раз с тем, что «модерн» обнаруживает совершенно новые перспективы ее развития (см.: Позиция 1.1).
Формирование Р. традиционно основывалось на выделении иного из повседневности; при этом иное
рассматривалось в качестве предельного (обобщенного, надэмпирического) основания повседневности —
Космоса, Бога или Природы. Таким образом, Р. требовала выделенной из каждодневной жизни позиции и,
следовательно, была неразрывно связана с теоретическим отношением к миру и к себе, с познанием и
самопознанием. Именно поэтому в философской литературе Р. обычно определяется как теоретическое, или
объективирующее, отношение к содержанию мысли [5]. Вместе с тем в традиционном обществе иное не
изолировалось от повседневности, а, напротив, входило в нее. Однако образ иного в традиционных
обществах сохранял в себе черты слитности в ином личного и безличного начала. Представляя последнее и
овладевая им, человек становился не только манипулятором, но и репрезентантом безличных сил, сам
попадая под их власть. Историю проекта «модерна» (если рассмотреть ее в такой перспективе) можно
представить как историю различения в ином личного и безличного начала (см.: Модерн, I). Важнейшим
этапом на этом пути стало рождение новой науки, которая принципиально приняла на вооружение принцип
«познать — значит сделать». Пафос метода — пафос конструирования своего предмета — позволил открыть
для мысли бытие, которое настолько отлично от мысли, что не адресуется само к мыслящему как имеющее
смысл. Оно требует от мыслящего взять на себя ответственность не только за идею, им явленную, но и за
форму непосредственной данности в пространстве и времени (см. выше: Субъект, I).
Новое время произвело разделение иного (как источника всеобщей значимости индивида) на имеющее
целью человека в его уникальности и на безразличное к нему иное; первое было адресовано самому
человеку — точнее, его разуму (получившему статус трансцендентального субъекта), а второе было
отождествлено с иным как предметом человеческой деятельности. Иное как имеющее целью человека — это
и есть для мысли Нового времени разум, трансцендентальный субъект, с которым индивид должен
отождествиться в своем развитии.
При этом сам человек распался на дух и тело, где тело попало под власть безличных сил и стало
воплощением и моделью объективных законов в самом человеке, препятствующих его самоопределению в
качестве тождественного разуму. Самоопределение мыслящим самого себя (посредством иного как
радикально
275
от него отличного) в самой задаче самоопределения вынуждено было сохранить определение себя через
иное, причем не только через материальное иное, но также через иное в самом себе, поскольку стать чистым
разумом — означает занять место трансцендентального субъекта. Но тем самым выяснилось обстоятельство,
которое, будучи осознано, намечает выход из этого внутреннего раскола. По сути, оказалось, что
определение себя через самого себя — т. е. на пути само-определения — возможно лишь как открытость к
иному, причем открытость, ищущая в ином также формы открытости к иному и потому способная открыть в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
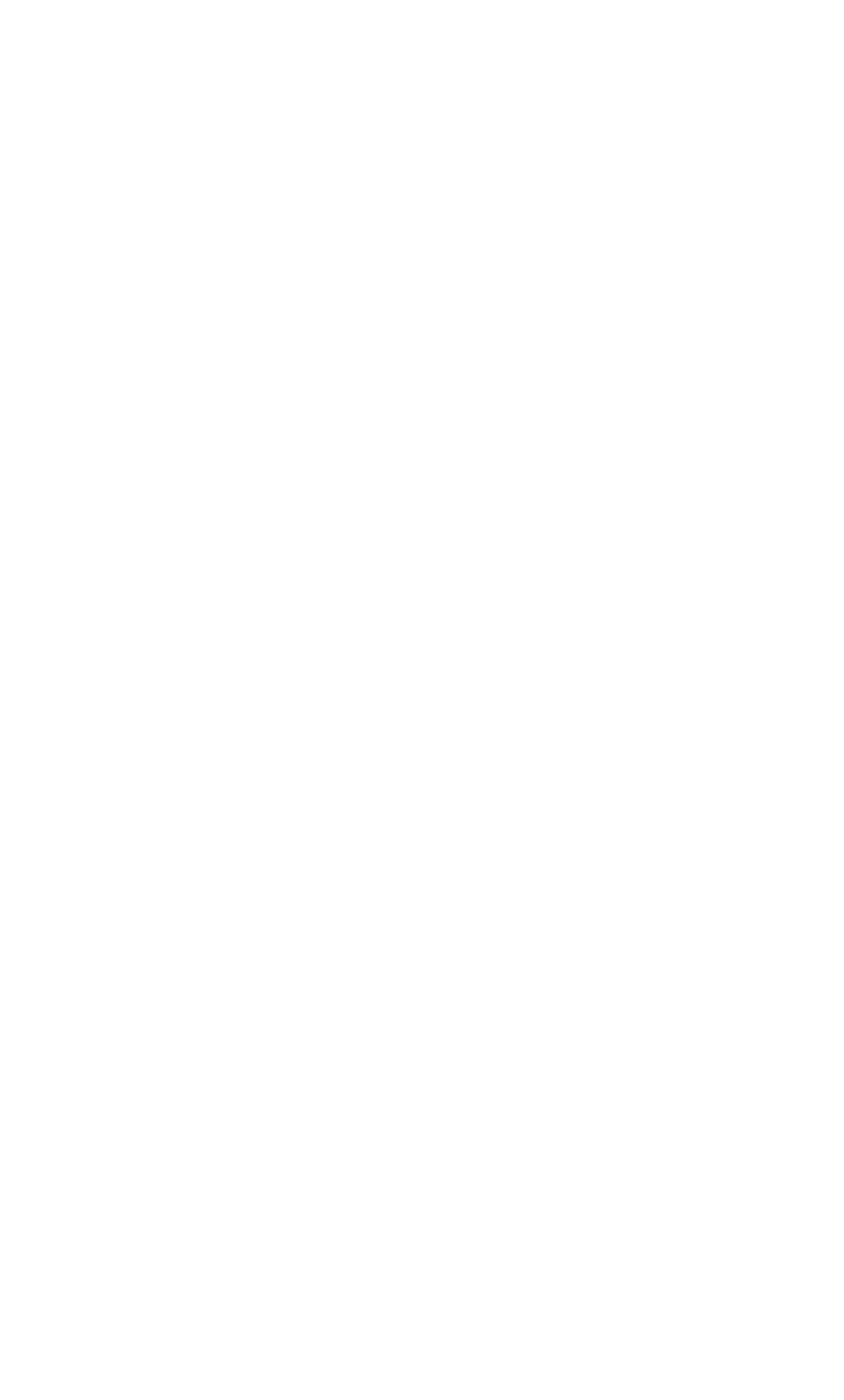
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
265-
-265
ином и то, что само к человеку не обращено (см.: Открытость, I).
Вместе с тем разделение Новым временем духа на разум, направленный на освоение и преобразование
материального объекта, и тело, выступающее в роли пассивного объекта манипуляции, породило новые
проблемы.
Во-первых, сам разум разделился на средство преобразования материальных обстоятельств жизни
человека и на судью, выбирающего конечные цели и смысл этой жизни. Причем, несмотря на исходную
установку — определить себя на основе познания мира (при этом мир оказывается совокупностью средств
для самоопределения человека, а познание — фундаментом бытия мыслящего Я: говоря словами Галилея,
«быть — значит познавать»), — оказалось, что конечные цели и смыслы существования человека (если речь
идет о поступках человека в отношении к себе подобным и к самому себе как духовному существу) не
выводятся из познания материального мира, а должны им предшествовать. Тем самым разделилась и Р.: на
калькуляцию имеющихся в распоряжении человека средств для достижения готовых целей и на определение
себя в отношении конечных целей и смысла бытия человеком (см.: Самость, 11).
Во-вторых, выяснилось, что дух не сводится к разуму, а тело — к пассивному объекту манипуляции.
Воображение получило статус силы, производящей художественный образ, а чувственная материя —
материала для искусства. Причем область искусства стала сферой и эстетического выражения нравственных
коллизий человека Нового времени, и поиска путей их решения — но без гарантии на успех, которую, как
представлялось, вначале обещал познающий разум.
Осознание этих коллизий поставило проект модерна под вопрос. В первую очередь оно привело к
разочарованию в разуме как силе, способной решить проблему человеческого бытия, его смысла и цели. Но
тем самым оказалось под угрозой и достижение Нового времени — установка на самоопределение. Человек
этой эпохи осознал, что само-определение (осуществимое лишь на основе разума), чтобы оно было
возможно, должно быть понято в качестве открытости к другому. Тогда и в другом можно увидеть иную
форму открытости или обнаружить отсутствие таковой. Отстранение разума от вопроса о смысле жизни
породило и представление феноменологической социологии о распаде единого мира на множество
несвязанных друг с другом «конечных областей значения», основанных на требовании «заключать в
скобки» (т. е. не рассматривать в пределах привлекшей внимание «конечной области значений») все, что не
соответствует «когнитивному стилю» этих областей.
Теперь формирование Р., имманентной существованию, становится затрудненным, поскольку принятые
в прошлом его способы предполагали вынесение позиции Р. вовне повседневности и связывались с
ценностным доминированием иного как недифференцированного начала. Это ценностное доминирование
иного позволяло идентифицировать себя относительно него, а поскольку оно было культурным фактом, то
иное в рамках конкретной культуры получало статус общего основания жизненного мира. Устойчивое
сопряжение повседневного порядка с ценностно значимым иным (с единством живого, наполненного
богами космоса, или с Богом общей веры, или даже с единой по своим законам природой) позволяло людям
идентифицировать себя друг с другом на основании отношения к иному (эллины — как носители общего
мифического предания; христиане — как единоверцы; наконец, человек вообще — как обладатель единой
разумной природы и связанных с ней естественных прав).
Отстранение разума от вопроса о смысле жизни (как результат разочарования в проекте модерна)
означает изгнание вопроса о самоопределении, включая и обсуждение ответственности за формирование
этого смысла. Р. становится принципиально ретроспективной, и в деле поиска смысла жизни уступает
позиции якобы не нуждающемуся в Р. пониманию традиционно передаваемого смысла предания. Причем у
человека не остается даже засвидетельствованных в прошлом возможностей обсуждения предания, когда у
Р., в силу обычая, было свое место в выяснении обращенного к мысли традиционного содержания, а тем
самым оставалось и место для человеческого самоопределения.
Потребность в проникновении Р. в повседневность вступает в противоречие с теми границами, в которых
Р. оказалась заключена на исходе Нового времени, причем в значительной мере из-за принятой в этот
период формы (неоправданные притязания научного разума
276
быть заменой религии). В итоге нарушается сопряжение Р. с лежащим в ее основе различением
определяющего себя бытия человека и иного. Позиция Р. теряет очевидную для человека культурную
значимость. Она (позиция Р.) не может служить основанием для идентификации себя с другим — напротив,
выступает как точка уникальности, особенности, однако вне устойчивой связи с радикально отличным и
потому значимым иным. Существование не только отдельного человека, но и всего человеческого рода
осознается в качестве бытийно необеспеченного, случайного, что не соответствует реализованным в
истории культуры попыткам обосновать позицию Р. в абсолютном и всеобщем. Достижение идентичности и
выступает насущным (требуя сформировать позицию для Р., чтобы обеспечить возможности быть
субъектом в повседневных ситуациях), и в то же время оказывается затруднено (поскольку должно быть
определено вне необходимой связи с ценностно значимым и потому культурно признанным иным).
Это современное положение Р. имеет многообразные проявления; часть из них можно наблюдать в
феноменах семиотизации образа жизни и виртуальной реальности (см.: Интериоризация, II). Семиотизация
предполагает, что значением любого феномена выступает бесконечный ряд отсылок к другим феноменам —
ряд, который никогда не размыкается на иное по отношению к нему, т. е. на иное, способное выступать как
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
266-
-266
собственно реальность. Иное, т. е. позиция, точка отсчета, для Р. предстает лишь как фигура умолчания по
отношению к миру «значимого». Тем самым иное выступает как радикально отличное от мира
семиотических перекодировок, которые становятся миром значимого без означаемого [2, 3].
В этом мире любая воспринимаемая реальность выступает в роли данной в восприятии модели мысли, в
виде чувственного аналога своего рода семиотической машины. Она оказывается виртуальной реальностью.
Виртуальной, т. е. способной быть, как будто она сама есть реальное, здесь выступает мыслительная
конструкция — отрезок семиотического ряда. Важно понять, что происходит при этом с восприятием
реальности как целостности в условиях, когда отрезки семиотического ряда претендуют на способность
быть. Реальность начинает переживаться и мыслиться под знаком виртуальности, когда «быть» — эта
«доблесть, способность, талант» (лат. virtus) — становится принадлежностью умеющей себя показать как
реальность части, а не целого. Это значит, что часть, становясь фрагментом бесконечного семиотического
ряда отсылок, обретает способность показывать себя как целое, как обращенное к воспринимающему иное.
Библиография
1. Аръес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
2. Березовчук Л.Н. Облик: знак или образ // Киноведческие записки. Историко-теоретический
журнал. 1992. № 16. С. 147-165.
3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
4. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1-3. М.-СПб., 2002.
5. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.
6. Платон. Диалоги. М., 1986.
7. Румянцев O.K. Диалектическая телеология. М., 1998.
8. Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in late Modern Age. Stanford (Cal.),
1991.
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
3. Парадоксальность самоидентификации в условиях кризиса идентичности
Понятие идентичности, получившее сегодня широкое распространение в социологической,
психологической и философской литературе, является транслитерацией термина (латинского по своему
происхождению), имеющего то же значение, что и русское слово «тождество». Соответственно, С. — это, по
буквальному смыслу, процесс достижения тождества с собой, или самоотождествление. Среди причин,
вызвавших введение этого термина, называют и ту, что само понятие тождества, как и другие понятия
классической метафизики, становится проблемой [12]. Зачастую с его помощью пытаются обозначать
внутреннюю и как бы субстанциальную основу личности, общества, культуры, но парадокс в том, что в
современной науке и философии тождество, или идентичность становится особой темой как раз в связи с
феноменом кризиса идентичности, т. е. в связи с трудностями установления тождественности человека или
культуры самим себе.
С термином «идентичность», как считает П. Рикёр (см.: [11] в библиографии к статье
Самость, II), связаны два значения. Первое отличает неизменное от меняющегося.
Неизменное выступает как остающееся тождественным себе при изменениях («то же
самое» — idem, греч. — homos, homoios), то есть как постоянное во времени. Второе
значение — любой индивид есть он сам (ipse — сам, греч. — autos), в этом смысле он есть
тот же, а не другой. В одном случае речь идет о данном в опыте постоянстве во времени,
а в другом — о тождественности себе, а не другому. Иногда оба значения объединяют,
говоря, что реальная идентичность определяется конкретной способностью
противостоять, сопротивляться меняющей силе времени, тогда как значение тождества
себе объекта, поскольку он мыслится, остается формальной стороной понятия
идентичности (тождества). Оба значения оказываются связанными, если идентичность
понимается как проблематичное и подверженное кризисам единство человеческой жизни,
как существование во времени (а не вневременная сущность), существенным момен-
277
том которого является интеграция противостоящего человеку иного. Эта
интерпретация предполагает, что изменение понимания тождества не итог
терминологических уточнений, а результат исторического изменения жизненной ситуации
и соответствующего ей типа знания и самосознания людей определенной эпохи. Внутри
складывающегося знания нового типа вся история категории тождества (как и других
философских категорий, а также научных понятий) выступает как последовательность
осознания особой роли культуры в организации жизни, постепенно приобретающей
благодаря посредству культуры качество человеческой.
Проблема С. проявляет динамичность современной жизни и порождаемые ею конфликты. В силу
неустойчивости структуры нынешнего социального бытия люди вынуждены постоянно пересматривать
множество аспектов своей идентичности — профессиональный, социально-стратификационный,
образовательный, экономический и пр.
Немаловажную роль в том, что С. становится проблемой, играют масс-медиа. Новые
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
267-
-267
информационные технологии делают доступным небывалый объем информации и
одновременно топят в ней человека, заставляя очерчивать небольшие, локальные
островки реально освоенного опыта. В этой ситуации определить свою позицию
становится все труднее. К кризису идентичности ведет также расширение для
современного человека возможностей быть субъектом (субъективация). Кризис
идентичности проникает до уровня каждодневного существования людей, до их
повседневности (см.: Субъект, Г).
Имеется множество факторов, вызывающих у современного человека проблемы в С, но основное
внимание здесь будет уделено вопросу, содержит ли современная культура основания, конститутивные для
самоотождествления человека? Ответ на этот вопрос будет означать, с одной стороны, описание того,
каковы эти основания. С другой стороны, он тесно связан с темой определения самого понятия тождества.
Но такое определение, коль скоро речь идет о самотождественности человека, должно учитывать историко-
культурный смысл С. человека; оно не может строиться без моделирования смысла этого тождества в
контексте культур разного типа.
Для постановки проблемы С. существенно определить понятие современной культуры в ее
соотнесенности с культурой традиционной. Новое время — эпоха «принуждения к самоопределению» (3.
Бауман [4] ). Оно поставило перед человеком задачу определения себя в оппозиции предрассудкам, в
оппозиции традиции. Человек этой эпохи осознал свое время как Новое, а себя как со-временника своей
эпохе именно в этой оппозиционности традиции. Поэтому сравнение современности и традиции
закономерно присуще об-
разу мысли Нового времени. Рефлексивная по своей сути задача само-определения побуждает смотреть
на традиционную культуру и как на своего оппонента, и как на предшественника, искать в ней предпосылки
и предвосхищение современного образа жизни.
Вопрос о тождестве себе — тоже вопрос рефлексии (см.: Рефлексия, I), сравнения себя с самим собой,
которое уже предполагает внутреннее различие. Поэтому чувствовать себя со-временным означает
непрерывно хранить верность своему назначению — определять себя самому. В этом отношении проблема
С. внутренне неотъемлема от современности, причем не столько в ее оппозиции традиции, сколько в
осмыслении последней. Следовательно, анализ проблемы С. в современной культуре требует выяснения
возможности С. человека в культуре традиционной.
Коль скоро самоотождествление имеет своим условием рефлексию (сравнение себя с собой),
предполагающую различение внутри себя, то спрашивать о самоидентичности человека традиционной
культуры — значит выяснять, в какой ситуации здесь возможна проблема индивида, т. е. при каких
условиях индивид выступает как проблема для себя и других. Или — каковы основания для того, чтобы
человеку этой культуры увидеть в себе различие с собой, а также основания, чтобы выделиться в своей
обособленности как себе тождественный?
Этот вопрос и станет путеводной нитью для дальнейшего анализа. Исходя из него, методологический
смысл последующих обращений к материалу иных культур и эпох будет носить характер моделирования
этого первоначального вопрошания (об условиях проблематичности, обособленности, выделенности
индивида для себя и других в культуре). Здесь на первое место выступает смысловая связь подобных
моделей с вопросом о возможности С, т. е. об определении самого себя в отношении к (принятой от других)
культурной традиции как к потенциально общему достоянию. Только в ходе самоопределения общее по
факту может становиться всеобщим по смыслу. Тем самым исходный вопрос о С. создает для современной
мысли возможность моделировать иные культуры и эпохи, не отказываясь от современности своей позиции
(от самоопределения). Подобный метод нацелен на то, чтобы действовать как эвристический принцип
моделирования связи традиции и современности, каждый раз показывая, как установить возможную
преемственность между ними, а не просто отсылая к интуитивному вживанию в иную культуру. При этом
неизбежно будет возникать и вопрос об ограниченности подобной методологии, причем он возникнет в
связи с границами самоопределения.
278
Говоря о традиционной культуре, вначале резонно ограничиться рассмотрением культуры,
непосредственно предшествовавшей современности, от которой она в первую очередь отталкивалась —
культуры европейского Средневековья. Для того чтобы понять, как появлялась проблема индивида в
западной средневековой культуре, удобно обратиться к фигурам монаха и светского государя.
Разобраться в ситуации помогает тезис, что тождество себе становится для человека проблемой в
ситуации сравнения с иным. В традиционной культуре в качестве особого — и в этом смысле в качестве
индивида — признавался тот, кто живет особой, иной, чем у других, жизнью (не случайно греческое слово
«монах» переводится на русский язык словом «инок»: «ин» — это и «один», и «иной»). Право на
обособленность ему давало посвящение себя служению «Царству не от мира сего». В Средние века монах,
инок таким посвящением отличался от изгоя, который был никем, поскольку никого и ничего собой не
представлял. Знатный дворянин или государь был особой, т. е. являл собой самого себя, именно постольку,
поскольку он репрезентировал некое иное: с одной стороны, был символом коллектива, с другой —
представлял божественную власть. Монах, отказавшийся от мира, от того, чтобы быть в нем кем-то, не был
особой, но в некотором смысле он являл собой нечто большее, чем государь, хотя и мог стать жертвой
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
268-
-268
произвола последнего. Однако государь не имел власти над тем, что репрезентировал инок, так как
признавал это сверхъестественной основой власти себя самого как светского владыки.
Оба персонажа, поскольку они являют собой типы обособленности, кажутся чисто символическими, так
как они обособлены от других в той мере, в какой представляют собой нечто иное. Однако король — это
такой символический персонаж, который являет собой социальное целое, будучи носителем верховной
власти. Государь должен постоянно соотносить символичность своей особы с наличными возможностями
власти над репрезентируемым им социальным целым. Возможность быть символической фигурой —
королем — зависит от множества внешних обстоятельств: личной харизмы, расклада сил, природных
бедствий и других случайностей. Также и в этом смысле «короля играет свита»: он представляет социум,
поскольку ему удается удержать реальную власть над ним.
У монаха, хотя и нет власти, есть позиция, которую светский владыка не способен
отнять, поскольку он знает, что его власть не распространяется на ту силу, которой отдал
себя инок. В меру полноты своей самоотдачи инок может сказать: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос». В таком
случае его жизненная позиция реально оказывается устойчивее королевской.
Верность этой жизненной позиции делает его неподвластным внешним превратностям
жизни. Его позиция, именно в силу радикальности задействованного в ней символизма,
оказывается не менее реальной, чем позиция короля.
Упомянутые выше фигуры инока и короля являются примером того, как в культуре Средневековья
обособление человека оказывается функцией от приобретения им общезначимой символичности.
Единичность и обособленность этих фигур, оправданная в глазах других, следует из того, что один (инок)
являет собой предельно иное для мира и тем самым — мир как целое, а второй (король) — власть над
«миром сим» и потому также и мир иной (божественный источник его власти). В обоих случаях речь идет
об отношениях универсального и уникального.
Итак, при обособлении человека, т. е. при его индивидуализации, для того чтобы человеческая
индивидуальность стала фактом культуры, чтобы она превратилась в общепризнанную, человек должен
представлять собой для других общепризнанное иное (в данном примере — коллектив или трансцендентные
силы). Реальность индивида зиждется, таким образом, на том, что человек обособляется, когда становится
символом, т. е. начинает собой представлять иное. Это имеет прямое отношение и к проблеме С, поскольку
она связана с вопросом, как сам человек осознает свою символичность и что должно произойти с его
самосознанием, чтобы стало возможно самообособление как индивидуальный проект.
Прежде чем подступаться к ответу на эти вопросы, необходимо прояснить те аспекты символизма в
культуре, которые существенны для дальнейшего анализа. Культуре как способу обобщения и трансляции
опыта (от человека к человеку и от поколения к поколению) свойствен символизм, поскольку символ и есть
способ презентации для сознания перехода от единичного к общему — перехода, лежащего в основе
превращения случайного взаимодействия в опыт культуры. Чтобы единичный опыт мог быть обобщен в
культуре (иначе говоря, представлен как значимый для других), должен быть предъявлен (другим и
каждому) сам переход от единичного к общему, что и происходит в символе.
Здесь для дальнейшего важно отметить ряд моментов, присутствующих в символе. В нем одно начинает
представлять другое, только и выделяясь в этом представительстве как нечто одно, как единичное. Причем
единичное являет представляемое именно как иное по отношению к этому представляющему его феномену.
Поэтому символ воспроизводит дистанцию с представляемым (что накладывает на иное печать
неопределен-
279
ности) и вместе с тем показывает некий путь преодоления дистанции и ограничения неопределенности.
Этот путь также задает связь единичного и представляемого им иного (получившего печать
неопределенности). Символ выступает как способ обобщения, поскольку, показывая способ преодоления
этой дистанции и неопределенности, он дает связь представляющего (единичного) и представляемого
(иного) обобщенным образом. Это означает, что всякое культурное обобщение несет на себе отпечаток двух
аспектов — неопределенности иного и определенности способа связи этого иного с представляющим его
единичным. Поэтому символ одновременно и отрывает обобщение от обобщаемой реальности, и позволяет
применять его за узкими пределами конкретного и всегда уникального реального опыта. Иначе говоря,
символ представляет реальное в форме идеального, осуществляя тем самым его реальность в сфере
культуры.
Любое явление в той мере, в какой оно входит в совокупность человеческого опыта, несет для человека
смысл, поскольку воплощает человеческое отношение к миру в обобщенной, или идеальной, форме. Смысл,
даже если он присущ уникальному предмету или событию, потенциально обращен к любому человеку.
Будучи понятым другим, он может стать общим для многих и в этом отношении имеет форму общего,
является универсальным. Все, что может попасть в поле осмысленного внимания, наделяется для человека
смыслом и тем самым воплощает для него общительно представленный опыт других людей, становится
феноменом культуры и ее результатом. В свете сказанного выше смысл есть результат символического
обобщения, связь единичного и иного, стоящего за выступающим в качестве символа единичным.
Если символ запечатлевает в культуре переход от единичного к общему (что и делает возможной
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
269-
-269
индивидуализацию как факт культуры), самоидентификация как особым воплощает
переход от общего к единичному. Этот переход устанавливает тождество между отношением одного и
значимого иного и самим одним как представителем связи собственной единичности и иного. С. тогда
означает осознание символичности своего бытия, а в той мере, в какой символичность предполагает
осознание не только представляемого символом смысла иного, но и себя, она предполагает и С. При этом
осознании источником символичности оказываются тогда не другие, не социальная конвенция коллектива,
признание которого составляло ее до осознания человеком-символом своей символичности, а сам индивид.
В этом смысле осознание человеком любой своей роли в традиционном коллективе уже в некотором
отношении опирает-
ся на рефлексивное саморазличение, без которого нет самоотождествления и тем самым нет осознания.
Индивид в таком коллективе, поскольку он осознает свою роль, заведомо выступает источником
собственной символичности, но возможность осознания своей «истоковости» зависит от характера
саморазличения, от его радикальности. Поскольку же от способа представления человеком иного зависит
радикальность саморазличения, то возможность осознания ответственности за собственное бытие как
символа иного также оказывается производной от способа представления иного.
Осознание своей ответственности не только за собственную символичность, но и
символичность любого единичного предполагает радикальное различение с иным в
качестве условия такого осознания. Именно тогда выявляется субъектный аспект смысла
любого символа, что определяет ответственность за него человека как субъекта
осмысления. С. оказывается тесно связана с идентификацией любого объекта и в этом
смысле является предпосылкой осмысления вообще.
В идеальном можно вычленить два тесно связанных, но нетождественных аспекта — всеобщность и
общезначимость. Схематизируя, можно сказать, что всеобщность воплощает целостность смысла, втягивая в
себя субъекта — источник универсальности — в качестве проблемы (проблемы, неотъемлемой от
осмысления). Общезначимость выражает социальную конвенцию и опирается на объектный состав
совместного действия коллектива. В последнем случае единичное как символ отсылает к другому символу,
который, в свою очередь, выступает в качестве репрезентанта иного и т. д. Поэтому в границах
общезначимости до выявления радикально иного дело может и не доходить, и целостность смысла как связи
единичного с радикально иным не достигаться.
В основе того, что универсальность свойственна любому способу обобщения и трансляции
человеческого отношения к миру в культуре, лежит присущая этому способу направленность на Другого.
Фундаментом символизма вообще является возможность единичного представлять иное, т. е. показывать
связь одного и иного. Способность посредством одного иметь представление о другом требует от
представляющего и в себе самом различать одно и иное, а это различение предполагает также отличение
себя от Другого. Причем в том же самом смысле, в каком осознание своей традиционной роли уже есть С,
основанная, по существу, на радикальном различии внутри себя, также и осознание представленности
одного через другое предполагает радикальность иного и радикальность отличия Другого, который
выступает как субъект, источник сим-
280
волизма в культуре. Эта предположенность радикального различия, правда, не обязательно осознается.
Другой является источником и определенности опыта, подразумеваемой общительным сотрудничеством
друг с другом в совместном целеполагании, и основой его принципиально неустранимой неопределенности,
привносимой единичностью каждого из участников культурного общения и деятельности. Эта
неопределенность вытекает из того, что в культуре Другой неустранимо является и источником, и адресатом
обобщаемого опыта, поэтому всякое культурное обобщение возможно лишь в зыбком пространстве между
единичным адресатом и источником обобщаемого опыта.
Благодаря этой неустранимости Другого из культурного способа обобщения
определенность и неопределенность всегда идут рука об руку, причем обе они имеют как
позитивные, так и негативные аспекты. Неопределенность Другого как общительного
партнера по взаимодействию в культуре может разрушать определенность возможного
сотрудничества с ним; вместе с тем та же неопределенность лежит в основе творческой
продуктивности и новаций, необходимых для решения новых задач сотрудничества и
обобщения опыта. Определенность опыта необходима для возможности общезначимости,
лежащей в основе сотрудничества; но она же сложившимися стереотипами может
препятствовать адекватной интерпретации ситуации этого сотрудничества.
В силу того, что направленность на Другого как на источник всеобщности неустранимо принадлежит
культурному способу обобщения и передачи опыта, Другой не может служить только средством обобщения
опыта, сотрудничества людей в обществе и т. п. Чтобы было возможно воспроизводство такого способа
жизни через обобщение опыта в культуре, Другой должен являться всегда также и целью культурного
общения. Культурный способ жизни возможен, лишь если он включает в себя этическое измерение, т. е. в
нем необходимо появляется проблема самоценности каждого как общительного Другого. Обращенность на
Другого как на источник и определенности и неопределенности опыта общения и сотрудничества
составляет всеобщий аспект любого результата культуры.
Его имеет смысл обозначить как всеобщий также и потому, что Другой есть источник определенности и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
270-
-270
неопределенности смысла в каждом результате культуры. Благодаря направленности на Другого
удерживается потенциальная открытость культурного феномена прошлому и будущему ( новациям как
ответам на вызовы новых ситуаций). Благодаря ей также осуществляется связь смысла любого феномена с
историей его становления, т. е. обеспечивается процессуальность культуры.
Общезначимость приводит универсальность смыслов культуры к наличному, ограниченному и потому
всегда условному консенсусу — и в этом смысле к настоящему. Она делает возможным сиюминутное, по
обстоятельствам места и времени насущное сотрудничество, собирая людей в коллектив. Но она же может
заслонять, закрывать для них источник становления культурного опыта, грозит превратить наличное в
мнимое настоящее — в настоящее сиюминутной данности, оторванное от ответственности за эту данность
каждого участника взаимодействия как источника процесса культуры.
В европейском историко-культурном ареале радикальность иного, определившая неотмирность позиции
человека, осознается в христианстве. Для христианского сознания собственно иное по отношению к миру
(трансцендентное) — это Бог, сотворивший мир и задавший тем самым свою связь с любым единичным.
Причем каждый человек являет собой образ Божий и потому имеет способность не
только к воспроизведению этой связи (возделывать и хранить эдемский сад. — Бытие.
2:15), но и к ее установлению. Так, Адам нарекает имена всем птицам и зверям (Бытие.
2:18-20), т. е. участвует в творении. Бог выступает здесь как такое иное, которое имеет
своей целью человека, первоначально являющего собой обращенность мира к Богу.
Для понимания того, как осознается обращенность этого трансцендентного иного к
человеку, показательна символика фрагмента о грехопадении. Согласно библейскому
рассказу, человек, вняв обольщению змия («будете как боги, знающие добро и зло». —
Бытие. 3:5), предпочел знать добро и зло независимо от Бога (как боги), а не от Него
самого (не по Его заповеди). Иначе говоря, он предпочел представлять не такое иное,
которое имеет его целью, но иное само по себе, не обращенное к нему. Он захотел быть
как Бог, но не смог взять ответственность за такое не обращенное к нему иное, а тем
самым попал под его власть прежде всего в самом себе. В этой символике обыденные
реалии человеческой жизни (труд для пропитания, господство и подчинение в
отношениях людей разного пола) представлены как следствие забвения и разрыва
истинных отношений с Источником бытия (Бытие. 3:16-19).
Отсюда следует, что отношения с Богом осознаются как строящиеся не ради хлеба и
власти, в этом смысле как отношения с радикально Иным. Бог определяет смысл жизни
человека только в обращенности к нему и сам себя представляет как существующего
лишь в этой обращенности и потому не имеющего собственного образа или воплощения.
Отношения с Богом осознаются построенными на верности, любви и служении, понятыми
как противовес господству и подчинению; следовательно, они осознаются не как
средства обеспечения хлебом насущным и не являются освящением отношений
господства в семье и обществе.
281
Библейское сознание, как оно представлено прежде всего в Пятикнижии и Пророках,
противопоставляет себя религиозному сознанию других народов («язычникам»), потому
что культовые изображения этих богов для иудейского сознания ставят их в один ряд с
изображающими их фигурами, на один уровень с обыденным планом человеческой
жизни, пронизанной отношениями всеобщей безличной зависимости (людей от людей,
людей от природы, людей от богов, людей и богов от стоящей над всеми судьбы), а это, с
позиции Библии, означает, что «боги народов — идолы». Радикальное отличие Бога
Библии от богов других религий не в его произволе, могуществе и власти над миром, а в
его обращенности к миру и человеку. Могущество и власть Бога подчинены этой
обращенности. (Особо следует упомянуть иконопочитание в непротестантских
вероисповеданиях христианства, которое традиционно служило и служит поводом для
обвинений в поклонении идолам. Не входя в детали этой проблемы, можно сказать
только, что в христианстве было разработано целое богословие, призванное показать, что
иконопочитание не представляет собой идолопоклонства и не нарушает запрета на
изображение Бога.)
Думая властвовать над иным как Источником жизни и смысла (быть как боги, знающие
добро и зло), человек сам попал под власть логики представления иного самого по себе,
вне отношения к человеку. Человек, став представителем безличного иного, выступил его
сущностной силой: иное, получив человека в качестве своего репрезентанта, обрело его
субъективность в качестве выражения безличных отношений. Отношения принуждения,
опирающиеся на социальные санкции, получили статус самодовлеющих и независимых от
отношений с Иным как источником смысла. Причем самодовлеющий характер отношений
с безличным иным выясняется задним числом по отношению к открытию Иного как
обращенного к человеку. Человек как уникальный и самоценный является таковым в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
