Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
231-
-231
главное — стратегия в изучении языка состоит не в поиске некоей универсальной системы, а в интересе к
самобытности языков, их использованию во всех наличных формах речи. «Узус», использование языка,
практика применения языка, язык в действии составляет ведущую ориентацию лингвистов Возрождения.
Этим объясняется их интерес к родному языку, к грамматическому описанию многообразных языков,
характерных для Италии эпохи Возрождения. Ф. Фортунато выявляет грамматические правила народного
языка (1516), Л. Альберти — правила флорентийского языка, Д. Бартони анализирует тосканскую речь
(1584). П. Бембо, М.А.А. Карлино, А. Аккаризи, Ф. Петрарка, Ф. Алунно, K.M. Ареццо, П. Ф. Джамбуллари,
Д. Джелли описывали грамматику родного языка. Взяв в качестве критерия использование языка, они
вычленили в грамматике: 1) естественную (или узуальную) часть; 2) положительную, описывающую
грамматические правила (нормы) языка, рассмотренного в модусе речи; 3)спекулятивную, в которой
раскрываются нормы и их причины и которая является частью логики.
Грамматическое описание родного языка осуществлялось на базе латинского языка. Он был тем
масштабом, который позволял оценить структуру языка, выявить отклонения от норм латинского языка и т.
д. Были созданы латинско-бергамская, латинско-веронская, латинско-венецианская грамматики. Латинский
язык
238
рассматривался как всеобщий язык культуры. И долгое время латынь была языком, которому
подчинялись ряд жанров литературы (исторические сочинения, юридические речи). Латынь соответствовала
требованию чистоты языка, а итальянский-де возник в результате смешения латыни с языками варваров. Но
вскоре ценностные знаки поменялись: необходимо отдавать предпочтение итальянскому языку, который
является живым в отличие от латыни, переставшей существовать. Теперь латынь нуждалась в защите. Ф.
Флоридо написал «Защитительную речь против хулителей латинского языка». Л. Балла — трактат
«Тонкословие латинского языка» (1449). Латинский язык Лоренцо Балла называл замечательным, поистине
божественным злаком, дающим пищу не телу, а душе: «Ведь именно он научил все племена и народы тем
искусствам, которые зовутся свободными, он научил наилучшим законам, он открыл людям путь ко всей
мудрости, он, наконец, дал нам возможность более не зваться варварами... И подобно тому, как бриллиант,
оправленный в золото, не портит, а украшает кольцо, так и наша речь, соединившись с местной речью
других народов, придала ей блеск, а не отняла его. И господство это было приобретено не оружием, кровью
и войной, а добром, любовью и согласием» [3:121-122].
Конечно, в этих словах очевидна идеализация тех процессов, с которыми было связано распространение
латинского языка и латинской культуры, но столь же очевидна апология Л.Валлой латинского языка в
эпоху, когда «никто не говорит по-латыни, даже не сможет понять написанного на ней», когда латинская
образованность превратилась в пыль и ржавчину. И он предвидит времена, когда «латинский язык, а вместе
с ним и все науки, будет в самом ближайшем будущем восстановлен в своем могуществе» [3:123]. И все же
основной интерес Л. Баллы, как и почти всех лингвистов Возрождения (от Данте, Д. Муцио, А. Читолини до
Н. Макиавелли) был направлен на апологию, защиту и уяснение правил родного языка. В этом повороте к
родному языку, к живой практике живого языка основная заслуга лингвистов Возрождения, хотя в их
мировоззрении нетрудно заметить амбивалентность между превознесением латинского языка и живым
интересом к живому родному языку.
Латинский язык был нормой вкуса. Культура вкуса определялась как культура высшего уровня и
высшего слоя. Так, Б. Кастильоне в 1528 г. выдвинул идею «придворного языка», понимаемого как язык
высшего образованного слоя общества. Поэтика и риторика Возрождения, ориентируясь на античные
образцы, оказывается той нормативной системой, которая задавала ориентиры для всей культуры. Поэтому
и ин-
терес к произведениям Аристотеля изменился: наибольшее внимание привлекали его «Поэтика» и
«Этика». Словесное искусство, язык в его действии оказывается принципом, которому надо следовать не
только в грамматике и поэзии, но и в живописи и в архитектуре. Архитектоника произведений словесного
искусства — парадигма для определения композиции и структуры архитектурных творений. Так, Л.
Альберти писал: « Я хочу, чтобы молодые люди, которые только что, как новички, приступили к живописи,
делали то же самое, что, как мы видим, делают те, которые учатся писать. Они сначала учат формы всех
букв в отдельности, то, что у древних называлось элементами, затем учат слоги и лишь после этого — как
складывать слова» [1:58]. В.П. Зубов отметил тесную связь теории архитектуры и риторики: «Особую
важность представляют связи альбертиевской теории архитектуры с античной и гуманистической теорией
красноречия... Самое представление Альберти об архитектуре, как особом виде человеческого языка,
приобретает особую значительность и раскрывается во всей своей глубине лишь на фоне античных учений о
человеческой речи» [ 1:63]. Целый ряд понятий риторики Цицерона и Квинтиллиана нашли свое применение
в теории архитектуры Альберти (например, оценка украшений) и вообще в научной и технической
литературе этой эпохи. Так, К. Толомеи, описывая фонетическое устройство языка, обращался к
архитектурным терминам: здание (edificio), строение (fabrica), сопоставляет тосканскую фонетику с
коринфским орденом, а латинскую — с дорическим. Дж. Царлино — выдающийся теоретик музыки
Возрождения — проводил аналогии между грамматикой и теорией гармонии: в самой речи он усматривал
проявление музыкальных принципов гармонии, ритма и меры, а в музыке — выражение смысла
человеческой речи: «Большая гармония находится в расположении и размеренном построении слов, а если
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
232-
-232
грамматик от этого отходит, то доставляет уху неприятность звучаниями своего текста, потому что едва ли
можно слушать или читать прозу или стихи, лишенные гладкости, красоты, украшений, звучности и
изящества» [11:433].
Самоопределение культуры в соответствии с греко-латинскими грамматическими моделями
основывалось на отождествлении культуры с культурой слова, с противопоставлением высокого и низкого
стилей речи, благородного и низкого языка. Эта культура слова, выраженная в диалоге как жанре не
только литературной, но и научной речи, была, по сути, культурой высокого вкуса, которой присущи
полемическая инвектива, дружеское собеседование, свобода личного самовыражения, отказ от следования
образцам систематическо-
239
го развертывания, культ произвола, своеволия, бурлеск, буффонада и т. д. Галилей, обосновывая
преимущества жанра диалога, говорил устами Сальвиати: «Рассуждения зависят от того, что приходит в
голову не одному, а троим. И, беседуя по своему вкусу, мы не связаны той строгостью, которая обязательна
для рассуждающего ex professo методологически об одном предмете... Я не хочу, чтобы наша поэма (так
Галилей называет свое научное произведение. — Авт.) была настолько связана требованием единства, чтобы
у нас не оставалось свободного поля для эпизодов; для их введения нам должно быть достаточно каждого
малейшего повода, как будто мы здесь собрались, чтобы рассказывать сказки» [4:130].
Даже Кант в «Критике способности суждения» подчеркивал парадигмальную значимость латинского
языка для риторических искусств: «Образцы вкуса в области поэзии и риторики должны быть составлены на
мертвом и ученом языке; на мертвом языке — для того чтобы не подвергаться изменениям, которым
неизбежно подвержены живые языки, когда благородные выражения становятся плоскими, обыкновенные
— устарелыми и в оборот на короткий срок пускаются вновь образуемые выражения; на ученом языке —
для того чтобы этот язык имел грамматику, которая не подчинена прихотливым переменам моды, а
сохраняет свои неизменные правила» [6:236]. Кант говорил о риторических искусствах, имея в виду всю
словесность, о мертвом языке, имея в виду латынь, об ученом языке, имея в виду учение о грамматике,
которая выявляет правила построения речей и следит за их неизменным соблюдением. Но существенно
здесь то, что в обращении к устойчивости древней традиции — и языка, и его грамматического описания —
Кант усматривал не только способ противостояния нововведениям в живом языке и моде, но и форму
оценки и суждения об изменениях, происходящих во вкусе. Иными словами, обращение к устойчивости
прошлого оказывается способом задания исторических изменений вкуса, способом видения инноваций, коль
скоро образец и идеал дан в прошлом и следование образцу — в настоящем. Конечно, нетрудно увидеть в
этих рассуждениях Канта архаичность его способа мысли, то, что он прошел мимо изменяющейся
интерпретации словесных произведений, устойчиво зафиксированных в древних текстах, но существенно
то, что культура вкуса, к которой он постоянно привлекает внимание и свое, и читателя, укореняется им в
том, что непривычно для современного человека, а именно — в пребывании в традиции, в сохранении
традиции, в следовании традиции. Историческое время здесь как бы свернулось. Оно возвращает нас к чему-
то устойчивому, не претерпеваю-
щему изменений. Традиция, следование древним образцам предстает как образец вкуса, как способ
оценки нового в настоящем времени, как способ постижения культурных инноваций и как форма
саморефлексии культуры.
Выход за пределы грамматизации культуры и сдвиг в сторону инновационного характера новой
культуры, очевидно, впервые был осуществлен Ф. Шлегелем в его лекциях 1827 г. о «Философии жизни» и
«Философии истории». Он настаивает на том, что «предмет философии... это внутренняя духовная жизнь, и
притом во всей ее полноте... философия жизни предполагает только жизнь, а именно сознание, уже
пробужденное к жизни и многосторонне развитое вместе с нею, потому что она имеет своим предметом и
должна познавать цельное сознание, а не одну какую-нибудь его сторону» [12:336]. Именно полнота жизни
вместе с полнотой сознания, вовлеченного в жизнь, исторические инновации во всей их полноте привлекли
внимание романтиков и противопоставлялись культуре как традиции. Точкой отсчета для философского (в
том числе и эстетического) размышления стали полнота жизни и исторические изменения в культуре. Они
уже сами по себе, вне соотнесения с классическими образцами литературы и искусства, оцениваются как
позитивные. Жизнь и история оказываются бесконечным процессом: «существует лишь одно становление,
существует только одна история; все подразделения носят позднейший и относительный характер»
[12:179]. «С высшей точки зрения существует только одно единое становление и, следовательно, только
одна единая наука — история, — делящаяся на разные сферы» [12:189]. И познание, и естествознание, и
философия должны быть пронизаны историзмом. И этот тезис, противостоящий «окостеневшей системе
мертвых формул» и «мертвой формальности» [13:375]) и укореняющий все формы сознания — от поэзии до
философии, от языка до культуры — в многообразной полноте и гибкости жизни, в темпоральном потоке
истории, задает новую перспективу в анализе и языка, и всей культуры. Сознание не оторвано от жизни, оно
не есть сознание-о-жизни или сознание-о-истории. Сознание вплетено в поток жизни и истории, является
одним из моментов самой жизни и процесса истории. Оно есть сознание-в-истории, сознание-в-жизни.
Шлегель, апеллируя в «Философии языка и слова»к гибкому живому языку, к выражениям, заимствованным
из самой жизни, ко всему богатству языка в многообразной полноте научного и даже образного и
поэтического выражения, даже во всевозможных оборотах разговорного языка, взятого из всех сфер жизни
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
233-
-233
[13:375], подчеркивает взаи-
240
мосвязь языка и культуры: «Различные эпохи в древнейшем языковом созидании образуют именно
различные ступени культуры в процессе развития человеческого духа» [13:364].
Романтики сделали принципом своего мировоззрения становление, процесс, историчность, которые
разрушают любые традиции и традиционный способ мысли, основанные на повторе и наследовании.
Инновация, став и эстетическим, и онтологическим принципом, создала новые парадигмы культуры,
мыслимой теперь как бесконечный процесс, как непрерывное становление, как уходящее в бесконечность
культурное творчество гениев. «Всякая самостоятельность исконна, оригинальна, и всякая оригинальность
моральна и есть оригинальность всего человека. Без нее не бывает ни энергии разума, ни красоты души»
[13:364]. Музыка как движение, в котором исполнитель и слушатель переживают сам процесс
художественного творчества, стала тем видом искусства, которое наиболее адекватно выражает существо
культуры. Напомним тезис романтиков об архитектуре как застывшей музыке или переинтерпретацию Ф.
Шлегелем Библии как «бесконечной книги» — такая «вечно становящаяся книга будет откровением —
Евангелием человечества и культуры» [13:361].
Библиография
1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 2. М., 1937.
2. Бокадорова Н.Ю. Грамматика и метафизика модистов как явление позднесредневековой
культуры: Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000.
3. Балла Л. Элеганции: Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. (XV век). М.,
1985.
4. Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой. М.-Л.,
1948.
5. Ганжа P.M. Спекулятивная грамматика как онтология // Логический анализ языка. Языки
этики. М., 2000.
6. Кант И. Соч. Т. 5. М., 1966.
7. Кузьменко Ю.К. Средневековые исландские грамматические трактаты: История
лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
8. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: Ее генезис и обоснование. М., 1988.
9. Ору С. История. Эпистемология. Язык. М., 2000.
10. Перельмутер И.А. Грамматическое учение модистов. История лингвистических учений.
Позднее Средневековье. СПб., 1991.
11. Царлин Д. Установление гармонии: Музыкальная эстетика западноевропейского
Средневековья и Возрождения. М., 1966.
12. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. II. М., 1983.
13. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. I. M., 1983.
14. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти // Леон Баттиста Альберти. М., 1977.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
6. Лексико-семантические модели β самоопределении культуры
Слово долгое время считалось и нередко до сих пор считается первичной единицей языка и смысла.
Слово (или лексема) содержит в себе смысл, а сложный смысл составляется из связи слов в предложении, в
свою очередь связь которых образует текст. Во взаимоотношении слова и предложения первичным является
слово, а вторичным — предложение. Элементарной и первичной единицей относительно предложения и
текста считалось слово. Лингвистический анализ осуществлялся в движении от слов к предложению, от
лексики к синтаксису, от лексикографии к учению о синтаксисе. Слово было той клеточкой, из которой
состоит «тело» языка. Такое представление кажется естественным. Действительно, слово дискретно по
своему смыслу, обладает семантической самостоятельностью и очевидной выделенностью в системе языка и
речи. Анализ слова проводится в трех аспектах: структурном (критерии выделения слова, его строение),
семантическом (смысл слова) и функциональном (роль слова в структуре языка и речи). Слово долгое время
трактовалось как архетип культуры. Различение внешней и внутренней формы слова, начатое В.
Гумбольдтом и продолженное Г.Г. Шпетом, разомкнуло единое слово и привело к смещению
лингвистических интересов в сторону семантики, анализа значения и смысла. Так, для Г.Г. Шпета
внутренняя форма слова задает движущие начала культуры: «Культура — культ разумения, слово —
воплощение разума» [5:380]. «Под структурою слова разумеется не морфологическое, синтаксическое или
стилистическое построение, вообще не «плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, вглубь:
от чувственно-воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета, по всем степеням
располагающихся между этими двумя терминами отношений» [5:382]. Структура слова задается его ноэмой,
как сказал бы Шпет, или его семантикой, его смыслом, как сказали бы современные логики и лингвисты.
Смысл слова задается интерпретацией. Изучение смысла лексических единиц — предмет семасиологии,
или лексической семантики, в которой анализируются отношения между словом и выражаемым им
понятием (сигнификатом), между словом и предметом, обозначаемым им в речи (денотатом). Существуют
два способа фиксации смысла слова, или два способа интерпретации — выявление синонимичности слова (и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
234-
-234
тем самым частичного или полного совпадения, или тождественности, смысла) и с помощью
дефинирующего описания.
241
Интерпретация смысла слова с помощью вычленения синонимии столкнулась с рядом трудностей.
Прежде всего синонимия связана с переносом известного нам слова на неизвестное, условием которого
являются имплицитная выраженность значения слова и высоко развитая способность интерпретатора к
экспликации смысла слова. Нередко и то и другое условие отсутствуют или представлены в слабой форме, т.
е. смысл слова дан имплицитно, а эксплицирующая способность интерпретатора не развита. Кроме того,
уже давно было обращено внимание на то, что синонимия основана на синонимической эквивалентности
слов. Изучение этого типа эквивалентности привело к различению семантической и стилистической
эквивалентности, когда слова, имеющие одинаковую предметную соотнесенность, обладают различными
стилистическими характеристиками и нагрузкой. Использование синонимов, взятых из различных
семантических и стилистических полей, например, из обыденной и книжной речи, позволяет выразить
определенную оценку интерпретатором обозначаемого объекта.
Процедура дефинирующего описания представлена прежде всего в определении через родовидовые
отношения. Оно включает в себя два компонента — интенсионал (содержание понятия, характеризуемое
через признак или предикат) и экстенсионал (объем понятия, характеризующий область его референции).
Определение через родовидовые отношения — центральное в логике Аристотеля. Оно основано на
различении имен и предикатов, коренится в различии семантических функций: имена служат для
обозначения предметов, а предикаты — для обозначения их признаков. Построенное на базе логики
Аристотеля древо Порфирия — - это типология имен, которая основана на дихотомическом делении. Если
имена имеют денотативный характер, то предикаты только сигнификативный характер. Типология имен и
предикатов строилась Аристотелем на основе десяти категорий, или десяти признаков (сущности,
количества, качества, отношения, места, времени, положения, обладания, действия, претерпевания). Важно
отметить, что эти десять категорий основывались на лексико-грамматическом строе греческого языка, на тех
формах синтеза, которые представлены в реальных и возможных высказываниях греческого языка. До сих
пор дихотомические критерии Аристотеля используются при составлении семантических рядов СЛОВ (см.:
напр., [4]).
Уже в средневековой логике определение синонимической эквивалентности через родовидовые
отношения было подвергнуто критике (например, Боэцием) и было обращено внимание на то, что
существуют имена с пустым экстенсионалом (например, кентавр
или ничто) и возможно образование имен на основе глаголов, которые характеризуют некое качество,
состояние, процесс, но для которых также нельзя указать экстенсионала (напр., бежать — бег и др.).
Семантический анализ слова, как значимой единицы языка, привел в ХХ в. к выделению минимальных
семантических составляющих — семантических компонент, семантических маркеров, ноэм или сем. При
установлении сходства и различия слов и при исследовании семантических полей слов были выделены
элементарные единицы семантического анализа — семы. Так, определение через родовидовые отношения
предполагает вычленение архисемы, или родовой семы, и дифференциальных сем, характеризующих
видовые отличия. Отношение между архисемой и дифференциальными семами — это отношение гиперо-
гипонимии, т. е. иерархическое отношение элементов внутри семантического поля. Хотя нередко сему
рассматривают как сложение лексических значений (Ю.Д. Апресян), все же внутри сем обычно выделяют
ядерные (повторяющиеся, устойчивые, доминантные) и периферийные (вариативные, вероятные,
дополнительные) семы, семантический (категориальный) признак и семантический конкретизатор (И.А.
Стернин). На основе выделения сем, или элементарных единиц смысла слова, различные слова
группируются по критерию сходства и различия, по различным типам отношений: тождества (синонимы),
оппозиции, противопоставления (антонимы), транспозиции (субстантивация, вербализация и др.).
Совокупность сем образует семантическую систему смысла слова, которая называется семемой. В языке
существуют омонимы — слова, принадлежащие одной лексеме, но обладающие разным смыслом.
Например, ключ как инструмент для открывания двери и как водный источник. Таких неоднозначных слов в
любом языке много. Различные варианты смысла, содержащегося в слове, получили название лексико-
семантических вариантов. Актуализация в речи значения слова выявляет лишь определенные аспекты
смысла слова. Актуализированное значение слова есть лишь конкретизация и редукция всего богатства
смысла слова к одному фиксированному значению и далеко не покрывает все грани смысла слова.
Понимание культур с помощью лексических моделей осуществляется благодаря фиксации лексического
богатства того или иного языка, частотности тех или иных слов в языке и через посредство ключевых
слов. Так, А. Вежбицкая, анализируя частоту употребления слов с эмоциональным значением в английском
и русском языках, пришла к выводу, что «русская культура поощряет «прямые», резкие, безоговорочные
оценочные суждения, а англосаксонская — нет» [1:32]. Идея о воз-
242
можности выявления ключевых слов всех культур, которая развивается в так называемой семантике
культуры, основывается на определенной трактовке языка и на определенной модели универсальной
грамматики. Эти ключевые слова по-разному назывались даже самой А. Вежбицкой — универсалиями,
единицами универсального естественного семантического метаязыка, культурными концептами,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
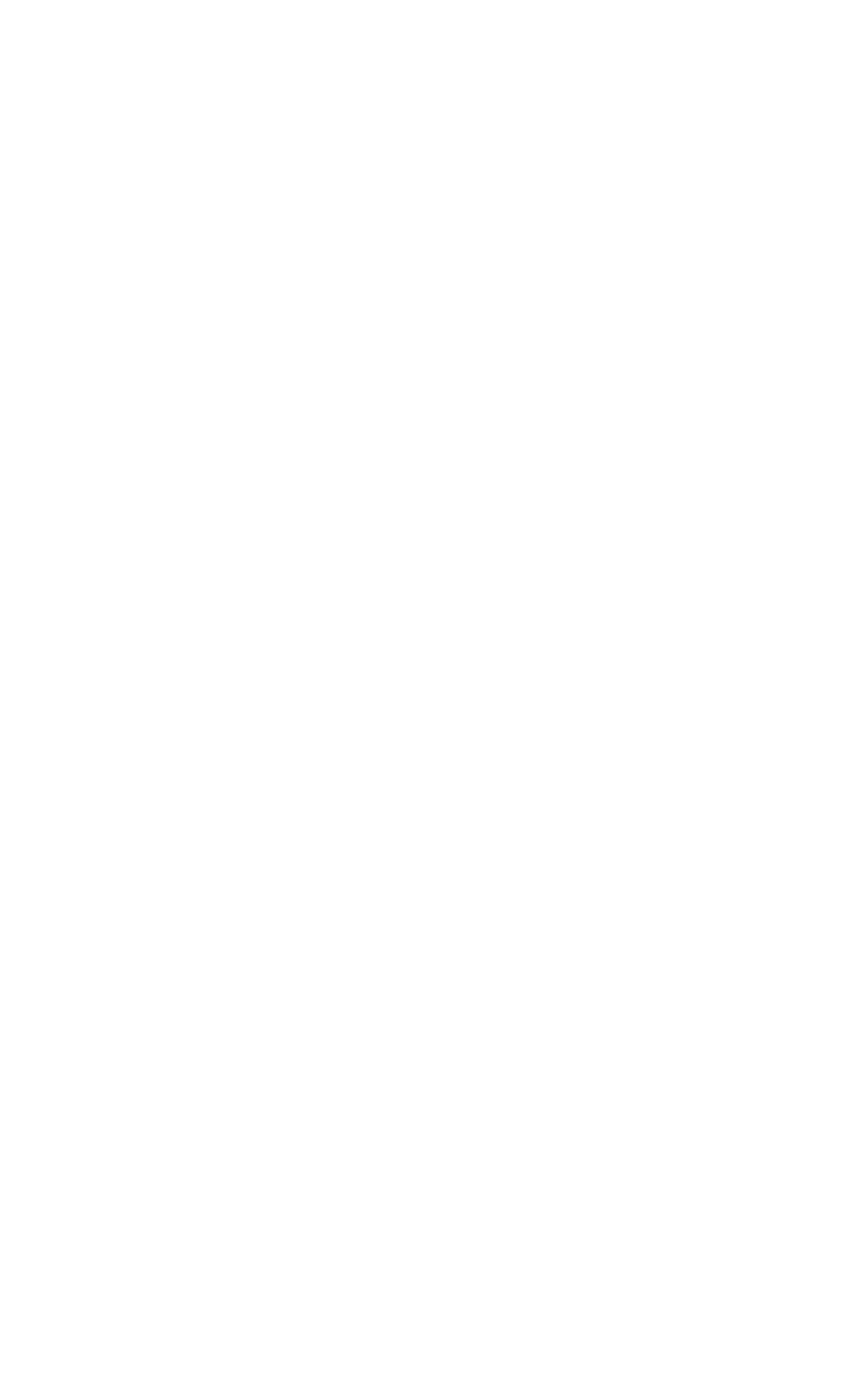
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
235-
-235
смысловыми примитивами, но существенно то, что эти ключевые слова характеризуют универсальные
первичные смыслы, без которых немыслима ни одна культура, и что выявление этих первичных смыслов
является задачей универсальной грамматики, понятой как семантическая теория метаязыка. Для
обоснования своей концепции А. Вежбицкая обращается к Лейбницу: «Не все можно объяснить... Какие-то
вещи должны быть самоочевидными (интуитивно ясными), а иначе бы мы никогда ничего не могли понять.
Объяснительная сила любого объяснения зависит от интуитивной очевидности неопределяемых
элементарных концептов, которые и составляют конечное основание. Естественный язык представляет
собою мощную систему, посредством которой можно сформулировать и передать другим весьма сложные и
разнообразные значения. Но возможность понять все такие значения опирается на существование исходного
набора элементарных концептов, которые не требуют каких бы то ни было объяснений, поскольку они
являются для нас врожденными и интуитивно ясными» [2:172]. Набор элементарных концептов — она
насчитывает их около шестидесяти и приводит их список — составляет минимальное ядро любого языка,
образует матрицу фундаментальных врожденных элементарных значений. Эти минимальные ядра
различных языков сопоставляются друг с другом для того, чтобы показать их соответствие друг другу и
вычленить минимальное ядро всех языков, отражающее «минимальное ядро человеческой мысли» [2:171].
Для концепции семантики культуры важно выявить элементарные сгустки смысла — концепты, описать их
конфигурацию и те акценты, которые специфицируют ту или иную культуру. Набор этих элементарных
смысловых структур образует фундамент всякого и всех языков, всякой и всех культур. Речь не идет об
актах смыслополагания, специфичных в каждом языке и соответственно в каждой культуре. Культура здесь
мыслится как конфигуративная онтология элементарных смыслов-концептов, а онтологической
структурой культуры оказываются концепты — первичные ячейки воплощенного смысла. Лингвистика
рассматривается как семантический метаязык, позволяющий вычленить и раскрыть эти элементарные ядра
воплощенного (реального) смысла. Однако в культуре
существенны не только акты порождения смысла, но и пересечение актуального и потенциального
смыслов, совокупно образующих поле возможностей, выбор из которых осуществляется в творчестве и
которые предполагают и акты антиципации художественной целостности, и акты восприятия Другим
смысла и возможностей разворачивания сюжета и действий персонажей.
Библиография
1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
3. Синцов Е. Рождение художественной целостности (авторская рефлексия потенциальных
возможностей мыследвижения). Казань, 1995.
4. Уфимцева A.A. Лексическое значение (Принцип семиологического описания лексики). М.,
1986.
5. Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989.
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
7. Пропозициональный подход к определению смысла
В первой половине ХХ в. в логике и лингвистике произошел сдвиг в понимании аналитической единицы
смысла: слово как таковое перестало считаться элементарной смысловой единицей, и весь интерес
сместился к поиску новых аналитических смысловых единиц. Первый шаг был сделан неопозитивистами,
усмотревшими в предложении основную логико-аналитическую единицу, а в пропозиции (суждении) —
единицу смысла. Пропозиция — это соединение субъекта суждения с предикатом, которое выражает
предмет мысли. В языке пропозиция получает многообразные формы и выражает некий инвариант смысла,
выявляющийся в переводе с одного языка на другой. Поворот к анализу предложений означал поворот
логики к логическому синтаксису как средоточию логического исследования и к синтаксису как ведущей
лингвистической дисциплине. Пропозиция оказалась той единицей, которая позволяла свести сложные
предложения к простым, фиксировать элементарность этих предложений, их автономность и целостность.
Л. Витгенштейн писал в «Логико-философском трактате»: «Только предложение имеет смысл: имя обретает
значение лишь в контексте предложения» [3:13]. Б. Рассел говорил о пропозициях как объектах
диспозициональных установок, Р. Карнап — о логическом синтаксисе языка, Куайн о пропозициях как о
тождественном значении предложений. В пропозиции Куайн увидел ключевую категорию, которая позволит
объяснить другие логические понятия. Однако при интерпретации пропозиции как тождественности
предложений были выявлены те же трудности, что и при анализе значения слов:
243
интерпретации с помощью понятия синонимии значений и аналитичности неудовлетворительны. Но все
же переводимость предложений одного языка на другой означает, что существуют определенные
смысловые инварианты, что при всей вариативности языковых выражений существует инвариант смысла,
представленный в пропозиции. Как говорил А. Черч, «смысл предложения можно описать как то, что бывает
усвоено, когда понято предложение, или как то, что имеют общего два предложения в различных языках,
если они правильно переводят друг друга. Как вообще в случае имен можно понимать смысл предложения и
при этом не знать о его денотате (истинностном значении) ничего, кроме того, что он определяется этим
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
236-
-236
смыслом. В частности, может случиться, что смысл предложения понят, но неизвестно, является ли истина
денотатом этого предложения» [6:31-32]. Суждение, которое имеет истинностное значение, Черч назвал
концептом, имеющим не языковую, а логическую природу, поскольку для него это «постулированный
абстрактный объект с определенными постулированными свойствами» [6:313]. Мы имеем дело (см.:
Артикулированный звук, I) с логико-математическим, достаточно узким пониманием концепта как
семантической единицы смысла. Лингвистика также обратилась к осмыслению пропозициональной
структуры смысла. Постепенно сложилась трактовка пропозиции как содержания сообщаемого,
независимого и от диспозиций говорящего, и от модальности суждений, безразличного по отношению и к
утверждению, и к отрицанию, и к предположению, и к сомнению. Пропозиция — это инвариантная
структура смысла, независимая от языкового выражения, это содержание высказывания, принимающего
любые языковые формы выражения. Смысл оказывается функцией пропозиции, ее конструкции, присущей
ей формы связи имени и предиката. Н.Д. Арутюнова, проанализировав пропозициональный подход в
лингвистике, отметила: «Пропозицией стали называть семантическую структуру, способную входить в
модальную рамку» [1:39].
Организация слов в предложении имеет двоякую направленность: синтагматическую, в которой соседние
слова связаны определенными смысловыми и синтаксическими отношениями, и парадигматическую,
которая фиксирует объединение слов в памяти или в сознании говорящего с помощью ассоциаций, в силу
общности их формы или содержания. Синтагматические отношения внутри предложения представлены в
трех аспектах — в семантической согласованности (слов, предикатов выбранным именам), в лексической
сочетаемости и в синтаксическом управлении последовательностью и согласованностью слов в предложе-
нии. Слова, имеющие различные лексико-семантические варианты, каждый из которых опирается на
группу сем, или семему, входя в состав предложения, реализуют лишь одну сему. Смысл предложения не
редуцируется к смыслу составляющих его слов. Это самостоятельное системное образование,
репрезентирующее семантически новый смысл.
В середине ХХ в. пропозиционально-синтаксический подход сменился подходом, который отрицает
значение не только отдельных слов, но и отдельных предложений, и акцент делается на прагматике языка,
на его применении. Согласно Куайну, значением может обладать только вся система предложений языка, а
не отдельное предложение как таковое. Нельзя проверить на истинность отдельное предложение. Лишь
система предложений в целом может быть проверена на истинность. Речь шла о теории как системе
предложений, в которой одни предложения составляют ядро теории, другие — ее периферию. «Мы не могли
бы утверждать, соответственно, что любое отдельное предложение S является истинным... предложение S
бессмысленно за пределами своей собственной теории... Мы можем говорить осмысленно о том или ином
предложении как об истинном скорее тогда, когда мы обращаемся к средней части фактически принятой,
пусть по крайней мере гипотетически, теории. Осмысленно можно применять термин «истинный» к
предложению, сформулированному в терминах данной теории и рассматриваемому в рамках самой теории и
постулированной ею реальности» [4:41]. Такого рода трактовка пропозиций, лишающая их осмысленности и
уводящая их в бесконечность целостной системы предложений, встретила возражения. Так, Д. Райнин
подверг критике тезис Куайна и назвал его догмой логического прагматизма: «Если составные утверждения
сами не имеют истинностного значения, то они не могут сделать никакого вклада в истинностное значение
системы как целого... Индивидуальное утверждение не просто могло быть осмысленным вне всей науки, но
оно должно быть таким, если оно может функционировать в пределах научной системы» [7:390-391]. Кроме
того, следует обратить внимание на то, что система предложений даже у Куайна основана на определенной
концептуальной схеме и воплощает ее в своей целостности и в ее онтологии. Поэтому каждая целостная
система пропозиций обладает своей собственной онтологией. В этом существо принципа онтологической
относительности Куайна. Среди множества концептуальных схем Куайн выделяет физикалистскую (точнее
говоря, бихевиористскую) концептуальную схему, для него предпочтительную.
244
Развитие методов актуального членения предложения (в частности, различение формального членения и
членения на тему и рему) привело к уяснению связей синтаксиса с контекстом и с сверхфразовыми
единицами (прежде всего с речью и речевыми актами). Лингвистика и логика перешла от анализа форм
явленности смысла (в слове и в пропозиции) к изучению сверхфразовых единств и к актам
смыслопорождения. Этот подход сразу же задал новую перспективу исследованиям языка и культуры.
Генеративная грамматика оказала большое влияние на когнитивные науки, на психолингвистику, на
синтаксический анализ формальных структур предложения в процессе понимания, на изучение процесса
усвоения синтаксических структур.
В генеративной грамматике Н. Хомского были вычленены два уровня синтаксических представлений в
языковом аппарате человека: 1 )глубинная и 2) поверхностные структуры, связь между двумя этими
уровнями осуществляется с помощью 3) трансформаций: любое высказывание оказывается производным от
глубинной структуры и создается посредством правил структуры составляющих. В синтаксических теориях
были выявлены различные способы задания структур предложения (между подлежащим и сказуемым,
между сказуемым и глаголом, между сказуемым и прямым дополнением и т. д.), формы трансформации
одного уровня в другой, универсальные синтаксические ограничения на возможные сочетания
составляющих предложений, на языковое варьирование в синтаксисе, различные виды связей между
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
237-
-237
уровнями синтаксического представления высказывания и его значением. Синтаксис для Хомского — это
проекция лексических ограничений (т. н. принцип проекции), что следует из трактовки грамматических
конструкций как аддитивных, как сводящихся к сумме значений составляющих его лексических единиц и
синтаксических правил, их соединяющих; глагол оказывается в центре синтаксической структуры, и не
учитывается значение самой конструкции. Глаголы, играющие важную роль в синтаксических структурах,
требуют восполнения соответствующими актантами (напр., объект и условия действия, носитель действия и
др.). Семантика накладывается на синтаксис, и можно говорить о семантике синтаксиса, о семантических
структурах синтаксиса (Е.В. Падучева, Н.Д. Арутюнова, ВТ. Гак и др.), о семантической репрезентации
предложения. Существенно то, что была подчеркнута смысловая новизна предложения (высказывания)
относительно составляющих его лексем. Актуализация смысла в конкретном высказывании (предложении)
предполагает, что из всего потенциального набора сем осуществляется лишь одна сема.
Какое отношение имеет пропозициональный подход (синтаксический и семантический анализ
предложения) к анализу культуры и к самоопределению культуры? Пропозициональный подход выразился в
формальном анализе структуры произведений, в том, что называется семиотическим анализом произведений
литературы и вообще искусства. Если для Соссюра лингвистика была частью семиологии как учения о
знаках, то ныне наоборот — семиотика является частью лингвистики, коль скоро любая семиологическая
система связана с языком и «должна заняться изучением больших значащих единиц языка» [2:115].
Библиография
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
2. Барт Р. Основы семиологии: Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
3. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.
4. Куайн У.В.О. Слово и объект. М., 2000.
5. Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики: Фундаментальные направления
современной американской лингвистики. М., 1997.
6. Черч А. Введение в математическую логику. Т. 1. М., 1960.
7. Rynin D. The dogma of logical pragmatism. Mind, 1956. Vol. 65.
СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
8. Структурно-семиотические методы изучения архаических форм культуры
Структурно-семиотический подход В.Я. Пропп применил сначала для синхронного описания сюжета
волшебной сказки («Морфология сказки», 1928) и затем для диахронного описания («Исторические корни
волшебной сказки», 1946). Им были проанализированы устойчивые формы сюжетов и композиций в
сказках, показана структурная эквивалентность ряда мотивов и персонажей, имеющих одну и ту же
функцию, описаны 31 функция персонажей и создана синтаксическая этносемиотика. Число функций
ограниченно, их внешних проявлений — неограниченно. Последовательность функций, согласно Проппу,
всегда одинакова. Он показал, что все русские волшебные сказки принадлежат к одному и тому же
структурному типу, т. е. выстраивают в ряд одни и те же функции, и можно говорить о протоформе русской
волшебной сказки. Этот же подход был продолжен А. Дандисом, который на материале индейских сказок
Северной Америки показал эвристичность подхода Проппа к анализу функции как единицы нарративного
повествования. К. Леви-Стросс назвал труд В.Я. Проппа трудом, который «вечно сохранит ценность
первенства», и назвал его великим открытием, предвосхитившим на четверть века попытки, предпринятые в
этом же направлении другими [3:33]. П.Г. Богатырев, проанализировав фун-
245
кции различных этнографических явлений, развил в 1920-1930-х гг. прагматическую этносемиотику [1].
О.М. Фрейденберг, И.Г. Франк-Каменецкий, М.М. Бахтин выявили структурную парадигматику
фольклорных феноменов (поэтики, жанров и др.).
К. Бремон в «Логике повествования» [9], следуя за Проппом, выбрал в качестве элементарной единицы
нарратива функцию, но исходил из возможности, которая может быть актуализирована или не
актуализирована, а, в свою очередь, законченное действие может осуществить поставленную цель или нет.
Иными словами, возникает гораздо большее многообразие — целая серия, или последовательность,
дихотомических возможностей. Роль трактуется как приписывание субъекту предиката-процесса, а
последовательность действий и есть упорядочивание ролей, которые могут быть двоякого рода: агенты
(действующие лица) и пациенты, последние, в свою очередь, подразделяются на два вида в зависимости от
того способа, каким осуществляется воздействие на них (модификатор или консерватор, помощник или
вредитель, защитник или обманщик). Элементарные последовательности, объединяясь, формируют сложные
последовательности («вереница», «чересполосица», «врастание»), повествовательные циклы.
«Элементарным повествовательным типам соответствуют более общие формы человеческого поведения.
Задача, договор, ошибка, ловушка и т. д. суть универсальные категории. Сетка их внутренних связей и их
взаимоотношений априорно определяет поле возможного эксперимента. Конструируя (начиная с самых
примитивных повествовательных форм) последовательности, роли, цепи все более и более
дифференцированных ситуаций, мы закладываем основы для классификации типов повествования; более
того, мы можем наметить план рекомендаций для сравнительного изучения этого поведения, которое,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
238-
-238
укладываясь в рамки одной и той же структуры, бесконечно варьируется в игре неисчерпаемых комбинаций
и возможностей выбора или в многообразии культур, эпох, жанров, школ и индивидуальных стилей»
[2:135]. Исследование Бремона относится к анализу поля возможных нарративов. Но, как отмечает П. Рикёр,
«логика повествовательных возможностей является только еще логикой действия. Чтобы стать логикой
рассказа, она должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования,
оперирующему в типах интриг, воспринятых из традиции» [6:50]. Нарратив укореняется в структуре
человеческого действия. Поэтому и семиотическая логика нарратива укореняется в антропологии. Для того
чтобы перейти от антропологии к культуре, необходимо выявить как типы интриг, закрепленных в культуре,
так и культур-
ные интерпретации логики действия, ее образцы и нормы.
В 1950-х гг. К. Леви-Стросс на основе структурного анализа мифов (его первая статья «Структурное
исследование мифа» опубликована в 1955 г., на русском яз. — в 1970 г. [10]) выявил гомологичность
определенных их структур и кодов как различных средств выражения, на базе лингвистики построил
концепцию «структурной антропологии» с определенным понятийным и методологическим аппаратом
(оппозиции, коды, арматура, сообщение, метафорические и метонимические трансформации, отношения
родства и др.). Сопоставляя введенное им понятие «мифема» с «фонемой» и рассматривая миф как
сочетание мифем, Леви-Стросс подчеркивает зависимость мифем от арматуры мифа и их использования от
определенных ограничителей (по месту, их совместимости и несовместимости с предшествующей
мифемой). Касаясь отношений между лингвистикой и антропологией, он заметил, что проблема
соотношений языка и мышления может быть рассмотрена в различных аспектах: язык может быть понят как
часть культуры и как условие культуры. Это означает, что язык представляет собой условие культуры «в той
мере, в какой эта последняя обладает строением, подобным строению языка. И то и другое создается
посредством оппозиций и корреляций, другими словами, логических отношений. Таким образом, язык
можно рассматривать как фундамент, предназначенный для установления на его основе структур, иногда и
более сложных, но аналогичного ему типа, соответствующих культуре, рассматриваемой в ее различных
аспектах» [5:65]. Эта мысль французского антрополога еще не понята в своей философско-
методологической значимости, хотя многие ученые (например, математик Р. Том) видят в лингвистике,
особенно структурной, модельную науку. Леви-Стросс стремится применить в анализе мифа методы
структурной лингвистики, подчеркивая, что мифемы — конститутивные единицы, аналогичные уровню
предложения и имеющие характер связки, комбинации отношений в двух измерениях — синхроническом и
диахроническом, а при изучении трансформаций мифов стремится осуществить метафорический анализ
архаической логики.
Методы структурной лингвистики Леви-Стросс применил в исследовании стихотворения «Кошки» Ш.
Бодлера, осуществленном вместе с Р. Якобсоном. Если ранее Леви-Стросс противопоставлял изучение
мифов и поэтических произведений, то в этой статье он уже рассматривает их как взаимодополняющие
формы, относящиеся к одной и той же категории [7:231]. По сути дела, все структурные методы огра-
246
ничиваются здесь анализом рифм и их сочетаний, изучением грамматической организации текста и
различных способов его членения вполне в духе русской формальной школы, правда, с одним дополнением
структурной лингвистики: анализируются связи субъекта-существительного и глагола-предиката с
парадигматической точки зрения — в отличие от синтагматической позиции Проппа.
Методы структурной лингвистики были успешно применены В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым при
изучении славянских языковых моделирующих систем; на основе концепции клише дан анализ пословиц и
поговорок (Г.Л. Пермяков); осуществлено структурное исследование ранних форм эпоса (Е.М.
Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, П.А. Гринцер и др.). В зарубежной структурной антропологии был
осуществлен синтез синтагматического подхода В.Я. Проппа и парадигматического подхода К. Леви-
Стросса с использованием достижений семантики ( А.Ж. Греймас), генеративной грамматики Хомского
(А.Б. Баклер и Х.А. Селби, С. Фотино и С. Маркус). Фольклорные феномены стали анализироваться как
нарративы, что позволило существенно расширить область применимости структурных методов
лингвистики. Так, С. Фотино и С. Маркус, выявив повторяемость определенных семантических признаков
нарративных сегментов, использовали при анализе сказок методы генеративной грамматики Н. Хомского:
порождающий механизм «введен не на уровне непосредственного восприятия текста как артикулированного
языка, а на уровне синтаксиса приписываемых нарративным сегментам семантических признаков, которые
обнаруживаются при разбиении сказки» [8:276].
Библиография
1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
2. Бремон К. Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствометрия. М.,
1972.
3. Леви-Стросс К. Размышления над одной работой Владимира Проппа // Зарубежные
исследования по семиотике фольклора. М., 1985.
4. Леви-Стросс К. Мифологики. Т. 1-3. М.-СПб., 2000.
5. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
239-
-239
6. Рикёр П. Время и рассказ. Конфигурации в вымышленном рассказе. Т. 2. М.-СПб., 2000.
7. Якобсон Р., Леви-Стросс К. «Кошки» Шарля Бодлера // Структурализм: «за» и «против». М.,
1975.
8. Фотино С., Маркус С. Грамматика сказки // Зарубежные исследования по семиотике
фольклора. М., 1985.
9. Bremen С. Logique du recit. P., 1973.
10. Леви-Стросс К. Структурное исследование мифа // Вопросы философии. 1970. № 7.
НАРРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДИСКУРСА
9.1. Лингвистические модели в структурной поэтике нарратива
Структурализм, предтечей которого была формальная школа в России начала ХХ в., стал основным
направлением в изучении произведений словесного творчества во Франции в 60-70-е гг. прошлого века. Он,
по сути дела, представлял собой универсализацию методов лингвистики и экстраполяцию их на
исследование произведений не только фольклора, но и «высокой» литературы, авангардного театра, кино.
Эту приоритетную роль методов структурной лингвистики для изучения произведений культуры отметил Р.
Барт, считавший литературу частью семиологии, семиологию — частью лингвистики, поскольку « любая
семиологическая система связана с языком» [1:115]. Барт, оставаясь в пределах пропозиционального
подхода, проанализировал новеллу Бальзака как фразу, где известно подлежащее и необходимо найти
сказуемое. Он рассматривал литературу как произведение языка, где жанры определяются категориями
глагола.
9.1.2. Нарративная грамматика А.-Ж. Греймаса
А.-Ж. Греймас, не приемля разговоров о «лингвистическом империализме», писал об универсальной
значимости методов структурной лингвистики: «Значимость предложенных методик для гуманитарных наук
сравнима с алгебраической формализацией в области естественных наук, и именно на этом, по нашему
мнению, основывается методологическое превосходство структуральной лингвистики над интуитивным
подходом, часто гениальным, но не обладающим приемами верификации в области других гуманитарных
наук» [4:60]. Для него лингвистические модели имеют универсальное значение именно потому, что
лингвистические знаковые структуры занимают привилегированное положение среди других семиотических
систем. Основная посылка Греймаса заключается в том, что прежняя лингвистика ограничивалась
изучением фразы и никогда не переходила к исследованию сверхфразовых единств — текста, речи,
дискурса. Она рассматривала речь и текст как сцепление фраз, как совокупность предложений (в этом
существо пропозиционального подхода). Но в отличие от Барта, Греймас считает, что этот подход
недостаточен даже для анализа синтаксической связности (когерентности) речи или текста, которые
обладают автономной организацией. Ее-то и делает своим предметом структуральная поэтика нарративных
повествований.
Что же остается при таком подходе от литературы? Сохраняет ли литература свою «литературность» и
свою автономность? Для самого Греймаса «литературность»
247
является лишь социокультурной коннотацией, зависящей от времени и места, но не характеристикой
самой литературы, ее внутренней специфики. Литература, понимаемая им как особая область культурного
творчества, все же не является «особой зоной субстанции значения». «Литература, письменная или устная,
не составляет семантической области, а является совокупностью лингвистических структур, используемых
то как категории конструктивные, то как правила функционирования, организующие содержания, которые
проявляются внутри замкнутых отрезков речи» [4:271-272].
Сфера значения обладает, по Греймасу, автономным существованием и организуется в «нарративные
структуры», одной из которых и является литература. Важно то, что модусы проявления значения в
нарративных структурах и должны стать объектом изучения в нарративной грамматике, стилистике,
риторике. В противовес традиционной лингвистике, исходящей из производства и выражения значения в
отдельных, обособленных высказываниях, которые затем связываются в речь, структурная лингвистика
исходит из нарративных структур, производящих осмысленную речь, которая затем уже членится на
отдельные высказывания. Этот подход, подчеркивающий целостность речи и текста, весьма напоминает
тезис Дюэма — Куайна, выдвинутый в противовес пропозициональному подходу в логике.
Сократив число функций нарратива с 31 (как это было у Проппа) до 20 и распределив функции по парам,
Греймас выделил следующие функциональные пары: 1) договор, 2) коммуникация и 3) испытание. Исходя
из автономости сферы смысла, он предложил «семический квадрат» как выражение парадигматической
структуры, благодаря которой порождаются любые нарративы. Элементарная структура значения задается с
помощью комбинаторных отношений противоречия, противоположности и пресуппозиции между термами
(категориями). Транспозиция из одного уровня языка на другой является значением, а смысл —
совокупностью возможностей транспозиции и транскодировки. Вслед за «порождающей грамматикой»
Хомского Греймас выделяет ряд глубинных и поверхностных структур: глубинная структура
(парадигматика), поверхностная структура (синтагматика) и уровень поверхностных манифестаций. Позднее
эта трехуровневая система подразделяется на ряд слоев: более глубокие слои — 1) фундаментальная
семантика и 2) фундаментальная грамматика, 3) поверхностный слой нарратива, его грамматики и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
240-
-240
синтаксиса, 4) уровень интеграции семантических компонентов и 5) уровень манифестации, где роли и
семемы трансформируются в определенную функцию нарратива — в акторов и в дис-
курсивные конфигурации. Глубинные уровни — уровни постижения смысла, которое разворачивается в
трех типах отношений: отношение противоречия («белое» — «не-белое»), отношение противоположности
(«белое» — «черное») и отношение пресуппозиции («не-белое» — «черное»). Эти отношения представлены
в семиотическом квадрате Греймаса. Но они должны быть представлены как трасформации, т. е. в виде
операций. Поверхностные уровни — уровень, где позиции определены формальным образом грамматикой и
не получили еще предметного содержания. Синтагматическая последовательность повествовательных
высказываний получает здесь различные модальные формы, становясь перформацией, т. е.
синтагматической последовательностью в форме «состязание, господство, присвоение».
Последовательность перформаций, которая является остовом нарратива, задается категорией переноса и
переформулировкой отношений под углом зрения обмена (присвоение оказывается лишением и т. д. ).
Переход от синтаксического анализа операций к анализу операторов (отправителей и получателей) является
переходом к метасинтаксическому уровню, позволяющему обосновать перенос ценностей и вводящему
субъектов «могущих, умеющих и хотящих». Нарративная программа оказывается процессом приобретений
и утрат ценностей, обогащения и обеднения субъекта. Нарратив, рассмотренный под углом зрения
синтагматики, определяется перемещением по парадигматической оси. Можно сказать, что анализ Греймаса
осуществляется как движение парадигматического ряда внутрь синтагматики, как дополнение новыми
синтагматическими параметрами. Третий уровень — манифестация в аксиологической, тематической и
актантной сферах.
В статье «К теории интерпретации мифологического нарратива» Греймас, используя определение Леви-
Строссом трех структурных составляющих мифа — арматура, код и сообщение, — вводит существенные
изменения в категориальный аппарат анализа мифа. Одно из них — обобщение понятия функции,
выдвинутого Проппом. Греймас исходит из актантов, отличаемых им от персонажей, воплощающих
определенные роли. Второе изменение — введение понятия «изотопии» как «избыточной совокупности
семантических категорий», которая разделяется на две формы — нарративную и содержательную, позволяя
установить двоякое прочтение смысла любого сообщения, в том числе и содержащегося в мифе, при
ориентации на единое прочтение. Тем самым смысл любого феномена культуры не линеен, не является
одноплановой цепочкой значений текста или речи. Любой смысл многозначен, и возможные прочтения
этого смысла могут
248
быть бесконечными, поскольку они связаны со способностями восприятия слушателей или читателей.
Третье изменение, внесенное Греймасом, связано с развитием концепции «актантовых моделей», которая
была предложена Л. Теньером в 1959 г. для описания синтаксической функции действия и состояла из
«агента», «пациента» и «бенефициария» (получателя). Эта схема была понята Греймасом как тип
синтаксической единицы, выражающей функциональную сущность персонажа. Актантная схема Греймаса
включает в себя 6 актантов: отправитель, объект, получатель, помощник, субъект, противник, — связанных
между собой. Актант — это совокупность ролей, объединяемых вокруг одной функции. Совокупность
манифестаций актанта представляет собой «действие». Греймас перенес идею актантов Л. Теньера из
синтаксиса элементарного высказывания в синтаксис дискурса. Сначала Греймас использовал эту схему в
интерпретации сказок и мифов, а затем применил ее для всякого повествования. Структура любого
повествования, любого нарратива мыслится им как актантовая схема. Внутри этой схемы вводятся
конъюнкции и дизъюнкции при трансформации трех отношений — желания, коммуникации и действия.
Выдвинув понятие «изотопии» речи, Греймас пытался определить многослойность и целостность смысла
литературного произведения. «Многоизотопная структура речи», о которой говорил Греймас, и является
глубинной структурой, выражающей себя в нарративных структурах, в полисемичных лексемах и
искажениях текста. Многозначность является особенностью не только поэтической речи, а любой речи.
Изотопия речи зависит, во-первых, от возможных прочтений и их соотношения (прежде всего от отношения
допущения), и, во-вторых, от взаимных переходов одной изотопии в другую. Так, Ж. Коке, алгебраически
описав «Постороннего» Камю, выделил ряд изотопий в этом тексте. Ф. Ратье дал систематизацию изотопий
и их сцеплений в поэтических произведениях [9]. Сам Греймас использовал методы структурной
лингвистики при изучении структуры рассказа Мопассана «Два друга» [5]. Здесь категориальный аппарат
нарралогического структурализма получил весьма тонкие различения, среди которых отметим коррекцию
идеи об ахроническом характере операций трансформации; введение глубинных аксиологических
ценностей; конкретизацию дискурсивного плана — введение когнитивного действия; различие между
когнитивным и интерпретированным действиями; обращение к отношениям доверия (relation fiduciaire) и к
модальностям действия и высказываний. Переход от семиотики действия к семиотике модальности
действия, т. е. переход от высказываний о действии к высказыва-
ниям о возможности и желаемости действия, является переходом к интенсиональной логике, где субъект
оказывается виртуальным субъектом действия, а само действие исходит из знания и опирается на
способность субъекта действия. Поэтому, как правильно заметил П. Рикёр, «семантика действия поставляет
главные значения действия и специфическую структуру высказываний, соотносящихся с действием. В этом
смысле поверхностная грамматика представляет собой грамматику смешанную: семиопрактическую» [2:66].
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
