Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.

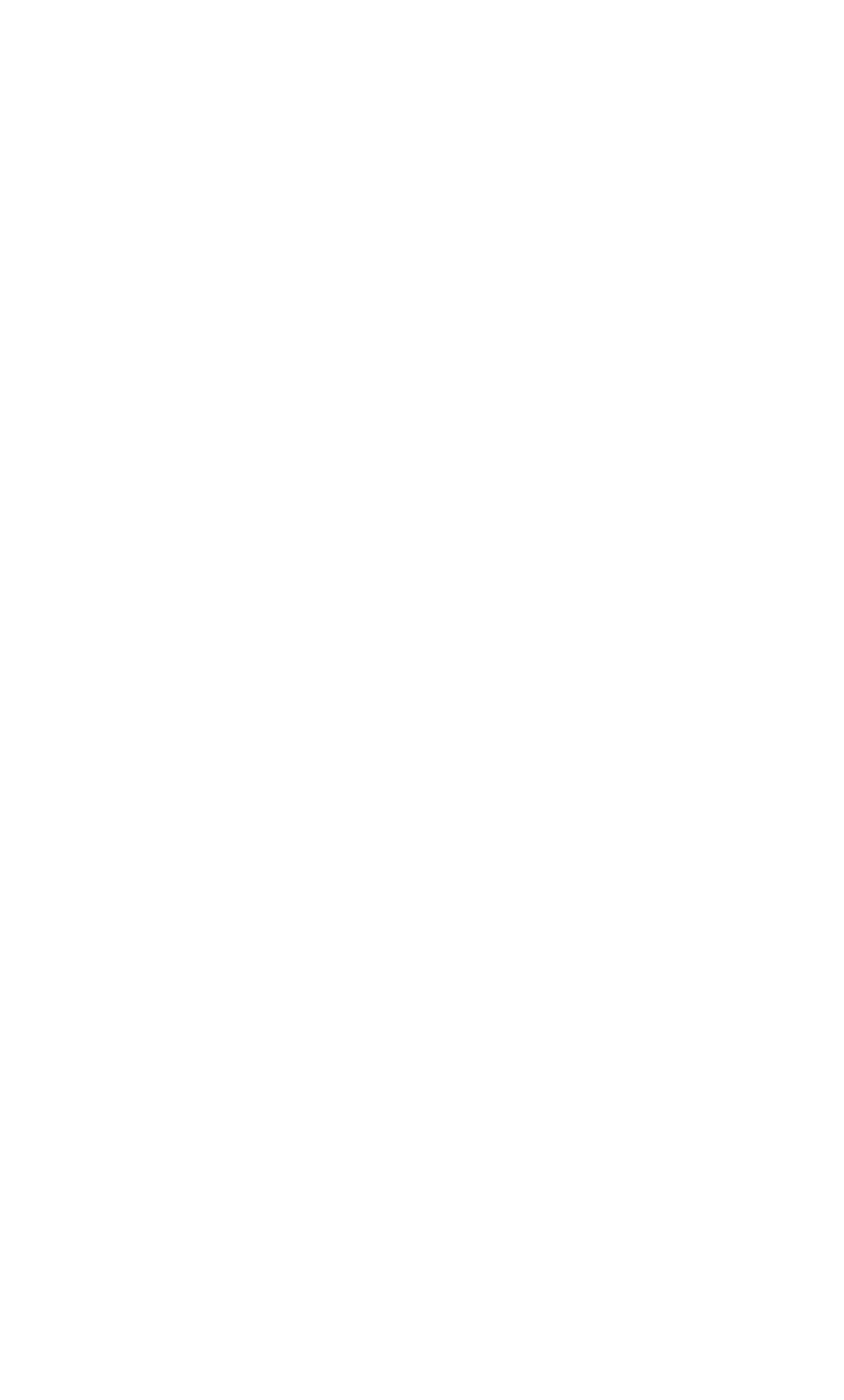
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
311-
-311
I).
Культурология как особая наука со своим методом и предметом только нарождается и потому не до
конца вычленяет себя из многообразия научных подходов. Она находится в стадии проявления своих
предпочтений, поскольку еще только определяет свою позицию. В этом случае (в случае вкусовых
предпочтений) от нее легко ускользают некоторые существенные для изучения культуры особенности,
смыслы (см. далее, а также: Культурный дефицит, I; Интериоризация, II) таких быстроменяющихся
явлений, как реклама, «попсовая» песня, газета (публицистический жанр) и др., несмотря на обилие работ,
эти явления анализирующих. Именно они (эти явления) позволяют многое понять в отношении развития
культуры, так как представляют собой вариант не ставших, а становящихся культурных форм.
Т. о., изучение механизмов освоения К. ф. в быстро меняющихся условиях современной жизни,
позволяет развить представление о К. ф., которая ранее рассматривалась в своем очевидном явленном виде,
например, в качестве произведения, памятника и др.
В соответствии с подобным подходом к К. ф. (как к ставшему феномену) она
определяется, в частности, как «совокупность наблюдаемых признаков и черт всякого
культурного объекта (явления), отражающих его утилитарные и символические функции,
на основании которых производится его идентификация и атрибуция» [3: 2: 307].
Понятие К. ф. с этой точки зрения относится к исходным образцам — материальным
продуктам человеческой деятельности, продуктам духовного символического
производства (идеи, знания и др.) — результатам всей целеориентированной
деятельности человека, а также распространяется на технологии, способы, методы,
нормы и др., посредством которых осуществляется всякая социальная практика людей. К.
ф. одновременно включает в себя признаки результата и технологии его достижения.
Способы взаимодействия К. ф. в культуре описываются при этом как конкурс вариантов.
Одна из наиболее общих социальных функций К. ф. коммуникативная, в силу этого К. ф.
определяется еще и как способ удовлетворения какой либо индивидуальной или
групповой потребности [3, 8].
Мы намерены рассмотреть К. ф. не в виде ставшего феномена, который можно четко идентифицировать
и описать (как памятник, произведение и т. п.), а как неявный принцип взаимодействия людей в культуре. В
настоящее время, на данном этапе исследования нами не ставится задача дать строгое и исчерпывающее ее
определение; наша задача показать ряд охватываемых этим понятием культурных фактов и явлений,
которые могут быть знаками культурных процессов, ранее не обращавших на себя внимания. Посредством
них культура сама говорит о себе. Благодаря этим знакам мы можем рассматривать культуру как культуру
демонстрирующую (см. также: Интериоризация, II). Попытаемся теперь пунктирно наметить основные
черты феномена К. ф.
Развитие культуры опосредовано культурными формами не только в том смысле, что они его
посредники, но и в том, что это развитие происходит не линейно, не намеренно, не явно. Это положение о
косвенном, ненамеренном характере действия К. ф. имеет в данной работе значение постулата во всем
подходе к анализу этого явления, специфика которого близка к парадоксу — быть неявным явлением.
В динамике становления К. ф. воплощен «механизм» работы самой культуры. Он охватывает собой все
уровни становления человека, от переживания им элементарных проявлений своей витальности и до
способности к нравственному поступку. Человек, переживая культурные формы, меняется, но это
происходит посредством конкретных жизненных ситуаций, т. е. тоже непрямо и ненамеренно. К. ф. делает
проблемы развития видимыми (что позволяет их изучать) и ощутимыми (что позволяет человеку их
пережить). Посредством освоения ряда К. ф. становится возможен переход на другой этап развития и к
другому типу сознания.
К. ф. является своего рода планом или конспектом перехода на новый этап развития. В силу неявного
характера этого плана или конспекта, изучение культурных форм и происходящих в них процессов, их
расшифровка и применение (в педагогике, психотерапии и т. д.) возможны, только исходя из их
развертывания во времени и пространстве культуры. К. ф., как правило, закрыта от внешнего наблюдателя и
открывается лишь в процессе погружения в нее. Такое погружение воспринимается часто как остановка.
Однако именно в ряду подобных погружений-остановок собираются и означиваются процессы внутренней
перемены человека, они обретают очертания этапа его развития. Переживание К. ф., требующее погружения
в нее, — это обычный путь вхождения в культуру, который не может быть заменен описанием, анализом,
типологией культурных форм. Ведь любое исследование всегда уже
325
опирается на опыт жизни в культуре, оно не может поэтому ни заменить этот опыт, ни ввести в него.
Культурные формы не существуют сами по себе, они «живут» в культурной среде — включающем
сообществе, коллективе. К. ф. — это форма общения, инициирующая опосредованное (в смысле — неявное
и непрямое) самоизменение в развитии. Именно в такой среде посредством культурных форм становится
возможным развитие психических функций у ребенка, а в случае необходимости (при патологии) —
социальная и культурная компенсация дефекта.
В настоящее время К. ф. проявляется, становится явлением, дает себя рассмотреть: она себя как бы
выпячивает, выдвигается на передний план в культуре. Культура, как уже говорилось, становится
демонстрирующей. Это позволяет видеть в К. ф. инструмент исследования и развития культуры. Но
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
312-
-312
выдвижение ее на роль такого инструмента требует объяснений. Для этого должны быть указаны особые
основания.
Явление К. ф. замечается многими, но описывается исследователями каждый раз по правилам «своего
цеха». В итоге культурная форма как целое разбирается на детали и частные проявления, мешающие
увидеть феномен целиком. Значение самого этого выдвижения культурной формы в современной культуре
может быть верно понято, если его рассматривать не изолированно, а в связи с теми процессами, на которые
оно указывает.
Например, реклама (см. далее) очень многое может сказать о том, что в настоящее время происходит с
ценностями, поскольку она строится на основе эксплуатации реально имеющихся в обществе представлений
о должном, желательном и т. д., тем самым проявляя явные и скрытые ценностные предпочтения. Реклама
обращает также внимание на складывающуюся внутри нее особую, неожиданную для нас единицу
информации, в которой новым и, что особенно важно, зримым образом сливаются воедино ритмическая,
образная, смысловая, ценностная составляющие. Самим предъявлением такой информационной единицы
реклама обнаруживает недостаточное внимание к ритмической составляющей, необходимой для членения
информации при ее восприятии, ее определенный культурный дефицит (см.: Культурный дефицит, I). Это
особенно важно в условиях информационной перегруженности речевых и зрительных каналов, характерной
для современной цивилизации. Ритмическая разбивка речевых потоков и зрительных образных рядов на
небольшие самостоятельные отрывки очень конкретного содержания позволяет вместе с тем не просто
расчленить информацию на воспринимаемые части, но и включить ее в общий контекст, сделать ее
отсылкой на
объемлющее целое, которое не замечается, но несмотря на это присутствует и работает, причем, это
целое складывается на основе поддерживающих его ценностей. Благодаря тому, что на поверхности К. ф.
замечается в частных проявлениях, для сознания человека, привыкшего оперировать понятиями, она
выступает не целиком, а в составе разнопорядковых рядов и разносится в разные культурные разряды
(культурный факт, культурный феномен, К. ф.). Но современный человек «может себе позволить» видеть
преломляющиеся в К. ф. культурные процессы, и это означает, что он допускает риск обновления, ощущает
за собой наличие устойчивых опор. Мы можем по-новому понять культурные формы, поскольку видим в
культуре резервы устойчивости. Устойчивость возникает вследствие того, что культурный материал
варьируется — воспроизводится разными способами, разными языками, узнается как типологический.
Возникает единый контекст, единство процесса удерживается в переходах между имеющимися порядками
культуры. Источником рефлексии на явление К. ф. оказывается постоянная смена, включающая переход
изнутри — наружу и обратно (см.: Интериоризация, II), этот своего рода «бинарный ритм» культуры.
При обсуждении подобных переходов важно учитывать разномасштабность культурных
форм в различных рядах (см. далее: Алфавит, Реклама, Считалка). Современная культура
настолько богата, что это разнообразие сложно свести в единое целое для анализа.
Периодически на поверхность выступают культурные феномены — как своеобразные
сгущения, объединяющие внутри культурного поля культурные факты. Культурная форма
становится неразличима либо в феномене, либо в культурном факте. Поэтому важно
анализировать культурные феномены, отделяя их и от культурных фактов, и от
культурных форм, как бы раздвигая пласты, обнаруживая неочевидную иерархию
уровней культуры как целостного образования. Здесь нам кажется необходимым
подчеркнуть различия культурного факта и культурного феномена. Различая культурные
факты и культурные феномены, мы подчеркиваем разницу в их устойчивости и
масштабности как явления культуры: культурный факт может быть быстро преходящим,
культурный феномен обычно заявляет о себе как устойчивом и даже многоликом
образовании.
К. ф. — это единица культурной жизни, она привлекает внимание к культурным процессам и делает
явными ее механизмы.
«Элитарная культура», «массовая культура» — это и лики культуры, и особые культурные феномены (φ.:
Массовая культура, I; Типология культур, II; Экранная культура, II). Специалистам часто присуще
«вкусовое» к ним отношение. Некоторые исследователи этих культурных феноменов предпочитают,
например, элитарную куль-
326
туру, а все плохое в культуре идентифицируют с массовой культурой. И наоборот: видя жизненность
массовой культуры, ее исследователи готовы «засвидетельствовать смерть» элитарной культуры. Но
известно, насколько плодотворны сами по себе оппозиции как механизм единой культуры. Например,
можно предположить, что массовая культура занимается грубой переработкой культурного материала: она
ответственна за унифицирование этого материала, за сведение его к единообразию. Создавая единое поле
для встречи разнопорядковых явлений, она преобладает в культуре именно тогда, когда прорываются
заслоны: разнообразные культурные «воды» начинают смешиваться, бурлить, и появляется необходимость
их обработки в грубом виде. В то же время элитарная культура занимается «доводкой» материала, тонкой
обработкой внутри индивидуального сознания и принимается за работу только в свою очередь. Но ни та, ни
другая не могут «жить друг без друга». Даже когда одна из них становится неявной, она никуда не
пропадает, а лишь маскируется в общем культурном поле, т. к. ни элитарная, ни массовая культура не может
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
313-
-313
взять на себя функции культуры в целом.
В каждой из них существуют свои собственные стереотипы и штампы. Мы привыкли к тому, что
штампы и стереотипы — это негативное явление. Их принято ругать. Но в массовой культуре они
выступают в позитивном качестве, являясь аналогом форм традиционной культуры, оберегая сознание,
способствуя психологической устойчивости той части культурного адресата, который их востребует (см.:
Компенсация, I). Примером являются телесериалы. Каждый вечер определенная часть населения желает
получать порцию «чего прикажете?» — хотите мелодраму, боевик, триллер — пожалуйста: «стандарты» и
«качество» при этом гарантированы. Чего-то подобного хочется всем — все нуждаются в «островках
покоя». И эти традиционно ругаемые сериалы — не что иное, как более или менее стандартизованные
рассказы о жизни. Их можно сравнить с быличками, которые в традиционной культуре выполняли большую
воспитательную роль, давая образцы поведения. Былички — типологичные истории, из которых черпались
сведения о мире, о человеческих отношениях. Сериалы и былички сближаются своей типологичностью,
многократной повторяемостью, за счет этого они и усваиваются, например, как схемы поведения.
С другой стороны, люди интеллектуальные относятся к самому явлению элитарной культуры с пиететом,
не замечая ее недостатков, например, снобизма, который говорит о том, что штампы и стереотипы,
играющие позитивную роль в массовой культуре, проникли и в ту
область, где их не должно быть — в область индивидуального сознания: что хорошо в каноне —
недопустимо в импровизации. Элитарная культура претендует на роль «держателя ценностей». Она таковой
и является, но как же, где и каким образом происходит процесс усвоения и переработки этих ценностей?
Например, каково место и роль наследия Баха в «попсовой» песне? Мы можем сказать: «Отдайте нам
нашего Баха, и попробуйте-ка проживите без наших ценностей», обвинив массовую культуру в
паразитировании, а можем и задуматься над тем, чего достигает переработка классики в пласте массовой
культуры: может быть, это своего рода ритмические вариации, а ритм — это жизнь тела, и не случайно на
жаргоне массовой культуры можно сказать об этом так — «опустили Баха». «Опустили» до какого «низа» —
может быть, телесного?
«Опускается» не только Бах, «на зубок» пробуются различные ценности, они варьируются, теряют
выраженную индивидуальность, приобретают оттенок недифференцированности и потенциальности,
уравниваются в едином поле, создавая новые контексты. Как правило, этой работой занимаются группы —
«коллективная личность», и это тоже показательно: «котел» массовой культуры напоминает лабораторию,
где проводятся эксперименты, производятся анализы, которые дурно пахнут, и мы от них отворачиваемся,
нам кажется, что они не имеют эстетической ценности, для нас это — не искусство. Действительно,
массовая культура не всех и не всегда радует эстетически, но она дает поле для размышления, являясь
лабораторией, где происходит большой эксперимент — все раздробляется, соединяется в случайных
пропорциях. Но тогда, может быть, это аналог синкретического способа выработки культурного отношения
к миру, который, заменяя науки или искусства, выполнял в примитивном обществе задачу осмысления мира
в его единстве?
Сформулировать представления о К. ф. нам помогают работы О. М. Фрейденберг [9], учение Гете о
метаморфозе, работы Э. Шпрангера о жизненных формах [10], Э. Кассирера о символических формах [2],
Ю.М. Лотмана о типологии культуры [5], культурно-историческая теория Л. С. Выготского [ 1 ], его
представления о развитии человека в первичном бинарном культурном ритме: внутрь и наружу
(интериоризация и экстериоризация. — см.: Интериоризация, II).
Существует культурная реальность и различные формы как взаимодействия с ней, так и осознания ее
человеком. Мы предлагаем выделить такие, как ритм, образ, понятие, концепт (см.: Ритм, I и II к позициям
5.1 и 6.2, Концепт, I; Другой /Чужой, I). Уровень ритмического проживания (начало осознания) — это
уровень неразделенности субъекта и объекта, связанности, не-
327
посредственного взаимодействия. Понятие, напротив, предполагает разделение на субъект и объект, в
нем есть чрезмерная претензия на объективность, притом объективность настойчиво педалируется. Концепт
же находит границы этой объективности в виде синхронных и парадигматических срезов как условия
концептуализации. Он предельно субъективен. Концепт фокусирует осознание на «пользователе»,
устанавливая границы, собирая внутри этих границ максимальное количество фактов в личном прочтении.
Именно персона (индивид, группа, народ и т. д.) помещается в фокус.
Но любая реальность избыточна в сравнении с нашим осознанием ее. К. ф. может свидетельствовать о
культурной реальности в том виде, в котором она более не зависит от персоны, трактующей эту реальность;
именно она превращает персону в одну из частей этой реальности. Не случайно, что именно в то время,
когда осознается разница между понятием и концептом и вводится представление о концепте как
выражении интеллектуально-психологической позиции, исходя из которой группируются (осознаются)
культурные факты со стороны персоны, группы, народа, может быть заново сформировано и представление
о К. ф. К. ф. опять вводит персону, субъект — но уже в другом качестве — в рамки объемлющего
культурного процесса. Если вначале неразделенность субъекта и объекта была на уровне проживания
природных ритмов, то в К. ф. возможна встреча субъекта и объекта в ритмах культуры. При этом понятие К.
ф. выполняет функцию осознания культурных фактов со стороны материи самой культуры, культурных
процессов. В каком-то смысле оно находится в оппозиции к концепту; таким образом, посредством этой
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
314-
-314
оппозиции мы «удерживаем» и реальность, и свое представление о ней.
Примеры культурных форм многообразны, однако мы выберем считалку, праздник, алфавит и рекламу.
Ряд необычный, но позволяющий прояснить самостоятельность термина «культурная форма», увидеть К. ф.
в виде знаков культуры, через которые она заявляет о себе — заявляет о происходящих процессах,
становящихся явными только в большом, длинном ритме, воплощенном в этих формах благодаря их долгой
истории. Этот ряд подобран нами специально, чтобы показать, чем объединяются такие непохожие
культурные феномены. На них лежит отпечаток тех процессов, знаком которых они являются.
Считалка — остатки различных культурных форм, конгломерат, подвергшийся «вторичной обработке» в
детской субкультуре, неоднократно претерпевший «погружения» и «всплытия» в процессах интериоризации
и экстериоризации, составляющих первичный ритм
культуры, внутри которого и происходит изменение культурных форм. Это формы разной «степени
зрелости». И если в отношении считалки следует специально заниматься «культурной палеонтологией»,
чтобы посмотреть на нее с точки зрения скрытых в ней культурных смыслов, то алфавит — казалось бы,
«седая» культурная форма, один из краеугольных камней нашей культуры. Однако мы становимся
свидетелями потери его внешней значимости и изменений, возникающих вследствие этого в культуре.
Реклама же — пример другого типа, это живущее на больших скоростях, вариативное, меняющее свое лицо
явление. Подобная вариативность, «бурление» указывают на еще несформированность, а также на место, где
происходит рождение... чего, пока еще трудно предугадать: может быть, новой единицы информации,
какого-то явления, для которого реклама — только место появления этого нового. Негативное отношение к
рекламе мешает увидеть в ней инструмент культуры, знак культурных процессов.
Считалка существует в виде безделушки в детской субкультуре, фактически в виде зачина к детской
игре, казалось бы, не выполняя самостоятельной функции. С точки зрения взрослого человека, она призвана
обучать ребенка счету. Но всякая К. ф. никогда не решает одну задачу — она всегда охватывает комплекс,
узел различных проблем, внутренне соединенных достаточно гармонично. И мы попробуем ее
«препарировать», чтобы посмотреть, как же считалка учит детей счету и что же такое вообще счет с точки
зрения считалки.
Считалки для неспециалиста — только детская забава. А на самом деле?
Пан, пан, капитан,
Чем ты коней пропитал?..
На каждого человека приходится по слову. А последнее слово — ярчайший акцент. И вот человек уже
выделен из ряда. Вот она — значимость слова! Но ведь это не что иное, как отработка системы означивания,
— как счет на пальцах, зарубки на дереве, узелки на память: один предмет — один знак. Так постепенно
складывалась и оформлялась система означивания — внешняя по отношению к человеку система
представлений. Это уже язык культурной памяти, а значит, и мышления; память же натуральная работает
совсем по другим законам.
Ритмически оформленная, как правило, распеваемая, эмоционально окрашенная, ситуативно значимая
считалка, проигрываемая бесконечное число раз детьми и, конечно же, ни в какое сравнение не идущая с
обычным счетом морковок, яблок, и должна быть задействована в детской субкультуре значительно раньше,
чем счет. Это то, что предваряет счет. В считалке
328
отрабатывается сам механизм означивания — его действие, подвижность (устройство, а не результат):
ведь считалки бывают самые разные, и слово, которое выпадает на играющего, каждый раз тоже разное.
Приведем известный пример из дефектологической практики. Дети, наученные считать морковки, яблоки
или грибочки сосчитать уже не могут. Звучит приговор: у ребенка нет абстрактного мышления. Но ведь у
ребенка не наработан еще сам механизм означивания, который формировался веками, и на счете морковок
он вряд ли сформируется. Может, стоит начать освоение счета другим способом — с освоения самого
механизма означивания?
Дети никогда не оспаривают «приговор», который выносит считалка: «Выйди вон!» — наглядно,
убедительно, всем понятно. Считалка демонстрирует ранний этап развития культурной воли в фило- и
онтогенезе. Возвращение к более раннему этапу развития всегда притягательно, вот почему популярны
различные системы жребия, игры, типа игры в кости, современные лотереи. Воля зрелого современного
человека тоже имеет свою внутреннюю структуру, не сразу выстраиваемую. Мы связаны с системами
наших представлений, это — многоступенчатая система означиваний, которую можно проанализировать и
разложить, как в данном случае, вплоть до этапа коллективной воли.
Считалка работает на освоение игрового права. Дети, не пережившие его смысл, вряд ли будут способны
создать правовое государство, когда вырастут.
Считалка, как любая форма детской субкультуры, двунаправленна. С одной стороны, в ней запечатлен
заказ взрослой культуры, и считалка, действительно, помогает ребенку совершить переход от его
качественного мира, где царствует натуральная память, к миру исчисленному и измеренному. В нем
действует мышление, где уже есть означивание, где работает культурная память, которая и пользуется как
инструментом механизмом означивания. А с другой стороны — она учитывает восприятие ребенка с его
качественным миром, то есть она находится как бы на грани двух миров. Посмотрим, как она это делает.
Для того чтобы посчитаться, нужны как минимум два человека (или группа детей), являющие собой
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
315-
-315
некий резонансный контур, который должен прийти в определенное напряженное состояние, одинаково
переживаемое — потому что всем страшно «выйти вон» и страшно оказаться в ситуации водящего.
Находящиеся в этом напряжении аффективно переживают то самое тривиальное означивание, которое
кажется нам очень простой операцией. Должна сложиться определенная система взаимоотношений,
определенная ритмическая организация этих взаимоотношений, чтобы один человек однозначно «вышел
вон». И только тог-
да человек однозначно «выходит вон» — сосчитывается, означивается, — и никто этого не оспаривает.
До того, как мы говорили об отработке механизма означивания, речь шла о социальном заказе взрослой
культуры на обучение ребенка счету, на переход от качественного мира к количественному однородному
миру. Но когда мы говорим о системе взаимодействий — это те проблемы, которые должен решать сам
ребенок внутри социума.
Тогда оказывается, что считалка, говоря языком «культурной археологии», — это рудимент ранее
существовавших форм, которые мы можем реконструировать, только изучая подобные феномены. Причем
они свернуты, скручены, переработаны и трудно узнаваемы. Но, видимо, если они сохраняются в детской
культуре, то, скорее всего, по-прежнему выполняют ряд важных культурных функций.
Праздник — один из важнейших элементов культуры. Как явление, он возник в глубинах веков, когда
человек выделил в ритмической жизни природы значительные, особые моменты этой жизни, осознал их,
пережил возникшее единство как существо социальное вместе с коллективом и в этом единстве прославил
гармонию сущего. За долгое время своего существования праздник стал концентратом культурной жизни.
Праздник — явление «органическое»; его невозможно придумать — но только «взрастить». К
сожалению, за годы советской власти мы потеряли многое из национальной праздничной культуры, а к
тому, что осталось, относимся без должного уважения, так как не понимаем основных смыслов,
сконцентрированных в этом явлении культурной жизни.
Современные праздники имеют массовый характер, навязывают искусственные
ситуации, не учитывая человека «играющего», творящего, а значит, природу
праздничного поведения. И поэтому в современном празднике, как и в нашей
современной культуре, человек выступает в качестве потребителя, а не творца.
У праздника есть своя задача — приобщение к непреходящим ценностям. Именно праздник дает
человеку возможность пережить уникальность своего места во Вселенной, так как он является точкой
пересечения природных и социальных процессов, прошлого и будущего. Человек в нем — преемник и
носитель традиций. Во время праздника человек осознает себя как существо, связанное с семьей, церковью,
народом, переживая единство по крови, вере, телесному опыту (см.: Интериоризация, II). Многие века
создавались каноны праздничной культуры. Их особенности проявляются в различных составляющих
праздника в коллективе: формах поведения, одежде, традиционных играх, песнях, особой пище и т. д.
329
В воспитании детей, для организации их правильной ритмической жизни праздник крайне необходим.
Истинный праздник позволяет ребенку пережить полноту своего человеческого существования в
координатах прошлого и будущего, природного и социального; пережить себя членом семьи, церкви, рода.
И тогда праздник становится событием внутренней жизни. Чтобы это стало возможно, необходимо знать о
том, из чего он складывается, и не относиться пренебрежительно к его элементам.
У праздника есть предпразднество, кульминация, послепразднество; и многочисленные детали,
связанные с праздничной едой, одеждой — это совсем не мелочи. А разве для нас, современных людей, это
так? Разве отличается наша праздничная еда от будничной, не говоря о том, что праздничная еда должна
отражать смысл праздника? То же самое относится и к подаркам. Для взрослых — это пустяки, мелочи, а
для ребенка — важнейшие акценты его жизни. Не надо забывать, что ранние формы сознания
организовывались вокруг таких явлений, как жизнь — смерть, сексуальность, еда и сопровождающих их
событий; причем особенно значим был ритуал еды. Если взрослый — педагог, родитель — будет помнить
об этом, то праздник приобретет неповторимый вкус, цвет, запах, — станет событием внутренней жизни и
нас, и наших детей и позволит пережить собственную уникальность и значимость во Вселенной.
Алфавит — практически окаменелость, так как алфавит не функционирует в наше время в качестве
сакрального текста, первотекста. И даже детей сейчас не учат, погружая в переживание красоты первотекста
(как это происходило при изучении старославянского алфавита). Алфавит скромно живет в нашей культуре:
он живет в словарях, в списках фамилий — т. е. в тех вещах, которые сохраняют определенные иерархии, не
замечаемые нами, а значит — упорядочивают, восстанавливают связи первотекста и наполняют эти
иерархии смыслами. Алфавит продолжает выполнять важную цементирующую функцию в культуре. Идея
алфавита, понятого как первотекст, присутствует в ряде новых культурных форм и явлений, «выросших» из
алфавита (например, идея «текста — во всем» возникла в культуре благодаря переживанию удивительного
состояния целого, гармоничного и красивого сакрального первотекста!)
Сейчас мы являемся свидетелями того, что в культурном обиходе его функция снижается. Уже нет
пиетета в отношении к нему при обучении грамоте, многие словари находят новые способы расположения
материала, радуясь своей оригинальности, инновационности, изобретая новые иерархии, не понимая, что ал-
фавитный принцип «удерживает» картину мира — времени, пространства, серединности, центральности,
— и такое пренебрежительное к нему отношение свидетельствует или о том, что мы находимся уже в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
316-
-316
другой картине мира, но этого не осознаем, или являемся сознательными или не очень сознательными
участниками ее разрушения. Даже если сейчас мы находимся в эпохе смены представлений о картине мира
и прежняя картина мира, действительно, уже устарела и должна быть пересмотрена, то в этот момент мы
неизбежно хотя бы временно попадаем в ситуацию дефицита. Она должна быть нами предугадана, и уже
сейчас нам следует обратить на нее внимание, чтобы она не привела к неожиданным для нас последствиям.
Аналогичная ситуация происходит с изучением счета: когда дети не проходят этапа предметного счета,
счета на пальцах: когда тело человека перестает быть мерой всего, когда счет осуществляется сразу на
компьютере и непонятным для детей, таинственным образом. Это приводит к тому, что машина
дополнительно сакрализируется, что служит закреплению разрушительных отношений между человеком и
машиной (см.: Интериоризация, II).
Реклама — инструмент производителя или культуры? Она привлекает исследователя-культуролога тем,
что в ней находят отражение различные культурные процессы. Казалось бы, она должна давать достоверную
информацию и привлекать внимание к товару — именно таким незначительным нам хотелось бы видеть ее
место в культуре. Но она занимается всем и сразу: изучением восприятия, мотивов и мотивировок,
индивидуально-психологических различий, так как хочет быть эффективной: она имеет национальное лицо;
попутно занимается выработкой нового языка и созданием новых контекстов; и как источник информации
доступна практически всем. Считается, что она нами манипулирует. Большую часть населения реклама
раздражает, и тем не менее она процветает — и не только благодаря коммерческим вложениям в нее:
«истинные» ее цели лежат за рамками бизнеса. Стоит вспомнить, что при оценке эффективности рекламы
высший балл получает та, которая вызывает у потребителя сильный интерес, сильные эмоции, быстро
запоминается и побуждает человека к действию (рекламируемый товар должен приобретаться). Представим
себе, что речь идет не о товаре, а о знаниях.
Реклама вынуждена заниматься (даже вопреки внешним, связанным с заказом производителя очевидным
задачам, которые она выполняет), работой с потребителем: исследовать его истинные потребности.
Приходится учитывать реальные цели потребителя — учитывать их оказывается выгодно. Но не так просто
манипулировать сознанием. Не так просто заниматься
330
формированием мировоззрения, эстетических вкусов, стиля жизни, нравственных принципов, противных
природе человека и его культуре. Если же это происходит, мы получаем не покупателей, а невротиков (как
это бывает в случае получения посредством рекламы взаимоисключающих установок). Реклама не может
произвольно программировать и манипулировать, она может это делать только в той области, в которой
потребности не удовлетворены, тем самым выявляя эту область как дефицитную.
Рекламу называют «пасынком искусства» — нелюбимым и нерадивым (ведь тратит-то наследство, не им
заработанное!). В первую очередь бросается в глаза вторичность рекламы, так как она использует то, с чем
работает искусство, — ритм, образ, ценности. Искусство и реклама действуют в едином пространстве.
Реклама сознательно, рационально, с прагматическими целями использует то, с чем искусство работает, не
преследуя каких-либо конкретных целей, в единстве сознательного и бессознательного. Но у рекламы тоже
есть своя область «бессознательного», и именно там она — инструмент культуры, а не производителя.
О чем может говорить пример рекламы магазина бытовой техники «Мир», начинающейся со слов: «В
нашем Мире новогодние праздники начинаются с подарков»? (А ведь правильно! Попадает в цель! Какое
интимное обращение к опыту покупателя! Но о каком «мире» идет речь? Неужели о магазине бытовой
техники или ... о мире нашего детства?) С таким началом нельзя не согласиться, и покупатель уже завоеван.
Он согласился с первым предложением текста, скорее всего, согласится и со всей последующей
информацией. Далее следует реклама бытовой техники, и в заключение звучит фраза: «Зачем мы приходим
в этот Мир? — Правильно, за подарками!» Реклама, опираясь на инфантильность покупателя, вместе с тем
дает ему возможность «услышать» ее, встретиться с ней, но одновременно — и со своими ожиданиями от
жизни.
Преследуя сознательную цель «затащить» покупателя в свой собственный «Мир», используя его
инфантильность, реклама — инструмент производителя; в то же время, будучи инструментом культуры,
реклама способствует выработке рефлексивного типа поведения у покупателя, так как заставляет задуматься
над своей инфантильностью, обратить на нее внимание в процессе того выбора, который он делает в
повседневной жизни.
Реклама проявляет для общества его ценности. Достаточно взглянуть на рекламные плакаты, чтобы
понять, какие ценности нас привлекают: идеальная семья, идеальное здоровье, беззаботная жизнь. До
недавнего времени этот ряд сверхценностей приходилось специально выявлять, сейчас же благодаря
рекламе этот
бесконечный ряд стал доступен для культурной и индивидуальной рефлексии. Это одна из функций
рекламы как инструмента культуры.
Другую ее функцию можно видеть в том, что внутри нее формируется, рождается новая единица
информации (комплексная, быстро усвояемая, действенная, многоканально воспринимаемая, образно
выраженная), так как ритм, образ, понятие, ценность в ней образуют «узел», внутри которого они находятся
друг с другом в определенной связи и в особых отношениях, в центре которых находится ценность.
Благодаря этому реклама, используя установки человека, побуждает его к действию. Реклама сократила
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
317-
-317
расстояние между воспринимаемой информацией и поступком человека, совершаемым под влиянием этой
информации. На этом пути есть только одно препятствие — возможность манипулирования. Но такая
возможность в скрытом виде присутствует в любом случае получения информации — реклама же, проявляя
эту проблему, позволяет ее исследовать.
Реклама работает также над отношением к вещи. Мы осуществляем свой выбор часто не только в силу
практической ценности вещи, но и в силу ее эстетической привлекательности. Благодаря рекламе становится
очевидным, что вещь привлекает человека не только и не столько своей практической пользой — она имеет
и некую воображаемую ценность, связанную со спектром чувств и ощущений, вызываемых ею. Именно в
области, где, по словам Левинаса, происходит блуждание в ощущении, в aisthesis, производится
эстетическое впечатление. Реклама исследует и эту область, таким образом позволяя пересмотреть
отношения между человеком и вещью.
Подведем краткий предварительный итог сказанному. Анализ культурных форм как феномена позволяет
увидеть в них резерв устойчивости человека в культуре. Внимание к механизму культурной формы и
изучение конкретных способов его реализации в культуре помогает увидеть насущность форм культуры,
способствует нашей встрече с миром, с собой и с другим (расширяет возможности нашей интеграции с
другим как с равным партнером), а также открывает новые возможности для социальной реабилитации.
Оказывается возможным иной тип реабилитации — не подведение всех, независимо от их культурных
потребностей и особенностей развития, под единую внешнюю социальную и культурную норму, а
возможность взаимного обогащения от общения и взаимодействия друг с другом разных людей, разных
культурных миров. Эти культурные миры могут существовать одновременно, в т. ч. как заповедные зоны, в
которых будет возможно сохранение исчезающих и реконструкция уже исчез-
331
нувших форм. Через разнообразие культурных форм, через осознанное и вдумчивое внимание к ним в
современной культуре могла бы реализоваться почти отсутствующая пока возможность разных темпов
развития. Это дало бы шансы Другому, в том числе маргиналам и инвалидам, находить соответствующее их
возможностям место в современном мире. Опыт сообществ такого рода помог бы создать более гибкую и
богатую систему включения в общество. Культурологическое знание оказалось бы включено в решение
«абилитационных», развивающих задач, возникающих перед людьми и разными культурами.
Библиография
1. Выготский Л.C. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1984.
2. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1-3. М.-СПб, 2002.
3. Культурология. ХХ век: Энциклопедия. Т. 1-2. СПб., 1998.
4. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
5. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
6. Попова Н.Т. Культурологические аспекты развивающей педагогики // Культурные миры. М.,
2001.
7. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
8. Флиер А.Я. Культурогенез. М., 1995.
9. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
10. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
11. Шпрангер Э. Два вида психологии // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980.
КУЛЬТУРНЫЙ ДЕФИЦИТ
К. д. так же, как культурная форма (см.: Культурная форма, I), становится инструментом познания
культуры, потому что он ощущается нами непосредственно. В нем есть столь же непосредственный
компонент, как в чувстве голода или жажды, и так же, как в них, этот элемент непосредственности
обманчив. К.д., подобно культурной форме, являет себя, он явлен для нас, для нашего сознания, но
благодаря этой явленности мы склонны замечать в нем лишь поверхностные аспекты. Для культуролога
интерес состоит не только в том, на что внешним образом указывает К. д., но и в том, что в нем
непосредственно переживается; значимыми оказываются те культурные процессы, которые он проявляет: не
количественная нехватка чего-то, а культурный смысл того, что чего-то не хватает, качественная
характеристика его как явления.
Попадая в чужую страну, мы прежде всего обращаем внимание на наиболее часто повторяющиеся
выражения чужого языка, постоянно повторяющиеся ситуации. Они навязывают нам себя ритмом своего
появления, и лишь постепенно мы начинаем ориентироваться в важном и не важном для нас с других пози-
ций. Вначале при информационной перегрузке или «недостаточности» важен именно сам ритм, частота
появления: повторяющиеся выражения или ситуации, становясь узнаваемыми, членят
недифференцированный поток информации на более мелкие отрезки и облегчают восприятие, давая
первичную картину культурного пространства как целого, хотя и еще очень неопределенного. Подобным
образом происходит развитие речи у ребенка, только членящие окружающий его мир повторы обязательно
должны быть эмоционально окрашены, значимы как обращения к нему других (см.: Обращенность, I).
Таков, видимо, общий способ ориентации в ситуации информационной перегрузки, и этот способ имеет
физиологическую основу. В ситуации подобной перегрузки или общей физической усталости может
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
318-
-318
появиться «рваная» речь. Непроизвольное членение речевого потока обнаруживает внутренние механизмы
организации речи (так же, как и в случае патологии). Иными словами, любое действие представляет собой
слаженное взаимодействие больших систем, структура которого проявляется при функциональной
недостаточности этих систем для данной ситуации.
Если этот феномен функциональной недостаточности становится явлением культуры, типичной
ситуацией, то он приобретает черты устойчивости и может выражаться в культурных формах.
Функциональный дефицит начинает приобретать культурное проявление. Тем самым культура его
«поддерживает», «защищает», «узаконивает». Например, подросток, сталкиваясь с новыми переживаниями,
к которым он не знает, как относиться, испытывает беспокойство, и в этой ситуации для него является
поддержкой встреча с культурным выражением аналогичных переживаний у других (в песнях, поведении, в
молодежных «тусовках», через каналы СМИ и пр.). В «массовой культуре» (см.: Массовая культура, I,
Компенсация, I) мы найдем много тому примеров (в этом одно из ее социально-психологических значений).
Но культурологический анализ не должен останавливаться лишь на первичных культурных проявлениях
массовых дефицитов. Его задача — прояснение культурного смысла этих дефицитов, а не просто их
констатация, и именно с этих позиций мы можем говорить о собственно К. д. Тогда выясняется, что внешне
различные проявления функциональной недостаточности могут объединяться как выражения единого
культурного процесса. Так, популярная музыка, реклама, способы размещения и предъявления газетной
информации, распространенность «клипов» как формы музыкальных, рекламных и популярных сюжетов на
TV — все это проявляет характер предпочитаемой
332
сегодня между людьми коммуникации. Разномасштабные и разнопорядковые явления в совокупности
указывают на единый культурный дефицит.
В критических анализах современной культуры не является новостью мысль, что культура, связанная
корнями с наукой Нового времени и нашей технической цивилизацией, пронизана жестким разведением
разума и тела, с явным ценностным предпочтением в пользу первого. С этой точки зрения можно говорить о
дефиците телесности в современной культуре. Но каков культурный смысл этого дефицита? Широкая
представленность в массовой культуре секса, насилия, простых ритмов в «попсовой» музыке как будто бы
говорит о том, что массовая культура компенсирует этот дефицит (см.: Компенсация, I). Более
внимательный анализ показывает, что она его не устраняет, а напротив, лишь подтверждает для людей его
присутствие, помогает им принять дефицитарность. В проявлении К. д. и состоит одна из ее функций.
Однако К. д. не только проявляет проблемы культуры, но также обнаруживает и ее внутренние ресурсы. А
как возможно преодоление этого дефицита и что это означает — таков естественный вопрос к
культурологическому анализу (см.: Интериоризация, II).
Где искать в культуре проявления телесной жизни? Прежде всего они выражаются в тех формах
культуры, где пересекаются природные и индивидуальные ритмы человека, где последние находят
подтверждение в первых (см.: Ритм, II к позиции 6.2). Такими точками пересечения являются, например,
праздники. Они исторически всегда находятся в соответствии как с природными ритмами, так и с
важнейшими событиями человеческой жизни. Время сбора урожая или конца зимы — это и религиозные
праздники, и свадьбы: с этим временем связано и собирание плодов, и подведение итогов. Поэтому
праздники во всех культурах были важнейшим способом инкультурации новых поколений, их введения в
культуру. Моменты пересечения природных и человеческих ритмов дают основу для появления языка,
поскольку предлагают эмоционально переживаемый и коллективно значимый (усиливающий
индивидуальные переживания путем своего рода резонанса) ряд вещей и событий. В нем языки тела и
культуры приводятся к одному порядку вещей, отражаются друг в друге. Возникает важнейшее условие
того, что телесная ткань человеческой жизни и культура пронизывают друг друга до оснований. Это
означает, что эта пронизанность будет заметна до уровня наиболее важных культурных запретов и
умолчаний (табу), выражающих ценностный строй культуры («завет»).
Осознание К. д. должно само осуществляться на языке культуры, и здесь большой материал дает
этнография. Тело определяло масштаб и меру всего чело-
веческого мира. Это отражается в географических названиях — мыс Канин нос, в технике — плечо, в
музыке и ритме — стопа и т. д. Выявление пронизанности тела культурными смыслами одновременно
ставит проблему границ культуры.
Проблема современной культуры в том, что традиционные формы этой пронизанности, которые доходят
до телесной организации (например, обряд инициации, жертвоприношения), больше не имеют для
современного человека того смысла, который они имели для людей в предшествующие эпохи. Поэтому
возникает нужда в адекватных культурных формах взаимодействия индивидуально-телесной и коллективно-
«космической» жизни. Речь, как уже говорилось, идет не о количественной недостаточности телесных
жизнепроявлений — напротив, они могут быть в переизбытке. Не хватает культурно насыщенной телесной
жизни, форм, находящих для тела смысл и место в ценностном строе, которое было бы не чисто
функциональным, не низводило бы его на уровень одного из естественных технических средств. Телу
современного человека недостает культурного качества. И не только телу: аналогично не определен
позитивный смысловой статус техники, механизма и т. п. (см.: Интериоризация, II). Культура Нового
времени и за ней наших дней слишком соблазнились (увлеклись) внешней формой техники, ее
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
319-
-319
механистичностью, которая заслонила для нас ее органику, включенность в смысловое целое человеческой
жизни. О том, что такая включенность существенна и присутствует всегда, говорит связь характера техники
и уровня ее развития в разных культурах и в разные исторические эпохи. Они явственно отражают
мировосприятие и способ идентификации, органически присущий людям соответствующих культур и эпох.
Все это ставит перед культурологией новые исследовательские задачи, прежде всего задачу
систематического описания многообразия культурных форм (создания своего рода энциклопедии
культурных форм), исходя из ощущаемого в нашей культуре К. д. Такая систематизация могла бы быть
шагом на пути к прояснению культурного смысла этих дефицитов, могла бы способствовать нахождению
адекватных для современности форм их восполнения.
Библиография
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1984.
2. Семенович A.B., Архипов Б.А. Нейропсихологический подход к проблеме отклоняющегося
развития // Таврический журнал психиатрии. Т. 1. 1997. № 2.
3. Тульчинский Г.Л. Николай и Михаил Бахтины: Консонансы и контрапункты // Вопросы
философии. 2000. № 7.
4. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект. М., 1995.
333
СУБКУЛЬТУРЫ
В словаре «Культурология. ХХ век» С. (см. также Субкультуры, I к позиции 6.3) определяется как
«целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным
строем, обычаями, нормами». Автор статьи (П.С. Гуревич) противопоставляет С. контркультуре, которой
присуще стремление вытеснить доминирующую культуру. С. «в известной мере автономны, закрыты и не
претендуют на то, чтобы заместить собой господствующую культуру, вытеснить ее как данность». Это
противопоставление предусматривает различные (для С. и контркультуры) механизмы социокультурной
динамики. С С. связывается характеристика «ментальности как специфической настроенности
определенных групп». Термин «С.» обозначает известную степень замкнутости группы, обособленность ее
норм и обычаев от доминирующей культуры (напр., свой кодекс поведения цыгане не распространяют на
окружающее их население). По мнению автора, это культурное обособление является реакцией на
чрезмерную унифицирующую активность господствующей культуры в отношении жизненных ценностей и
норм разных слоев и групп общества. «Субкультурные тенденции в обществе во многом вызваны к жизни
стремлением официальной культуры заполнить собой все поры социального организма». «Субкультуры
обладают стойкостью», хотя они оказываются относительными, поскольку эти образования могут исчезать,
не затрагивая господствующую культуру.
Эта краткая справка показывает, что отношение С. к доминирующей культуре действительно можно
соотнести с отношением подуровня к уровню или подвида к виду. С. также позволяет характеризовать
многообразие и неоднородность имеющегося целого и возможную динамику внутри него. Однако
подуровни показывают реальное строение уровня — более общей системы, подвиды — географическую или
экологическую соотнесенность конкретных популяций вида; между ними нет противопоставления по
понятию. В то же время С. в известной степени выполняет функцию противостояния господствующей
культуре (но не вытеснения ее в отличие от контркультуры) — по крайней мере функцию защиты от ее
чрезмерных притязаний на достижение культурной однородности.
С. вычленена из культуры как нечто заметное, различимое в ней. Примером тому может служить С.
инвалидов, представители которой имеют ряд признаков, по которым объективно выделяются из культуры
(слепота, глухота и т. д.). При этом для представителей С. характерны иные ощущения природы, времени,
пространства, способы взаимодействия друг с другом, не-
которым из них присущ иной тип осознания (вплоть до его отсутствия ) причинно-следственных связей.
На основании этих особенностей в С. могут складываться (возникать) институты собственной рефлексии:
язык, театр и т. д.
Нам (представителям доминирующей культуры) становится очевидной уникальность С. неслышащих,
невидящих. Осознав свою уникальность, члены данных С. сами настаивают на своей субкультурности. Мы
уже понимаем, что неслышащие телесно одарены, что театр мимики и жеста — это форма их выражения.
Действительно, жестовый язык выделил и развил у них уникальные особенности, позволяющие говорить об
их С. У невидящих есть особая чувствительность кончиков пальцев (не случайно у них возникла азбука
Брайля). В Польше только невидящие бесплатно обучаются массажу, а другие категории людей, как
профессионально менее пригодные, обучаются массажу платно. У слепых есть и другие удивительные
особенности, например, слух и голос. В России музыкальное попрошайничество всегда было разрешено
именно слепым. В наше время слепые в метро — это отчаянная попытка найти свое место в культуре, поиск
выражения своих возможностей.
Однако, говоря о С, в том числе об инвалидной С, важно не перегружать этот разговор претензиями к
ней самой. Прежде всего деление на С. помогает видеть разнообразие и динамику в культуре. Сами С. и их
культурный смысл открываются исследовательскому взору только тогда, когда он ориентирован на то,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
320-
-320
чтобы видеть в культуре подвижность и различия. С этой точки зрения, чрезмерное подчеркивание
суверенности, замкнутости, обособленности С. может помешать увидеть «слабые», неясно проявленные С,
почти неразличимые в культурном целом и потому неспособные выполнять свою защитную функцию,
которая справедливо приписывается этому типу образования и в чем можно видеть один из существенных
смыслов самого явления субкультурности. А он может заключаться в том, чтобы хранить многообразие
культурных порядков, сохранять богатый спектр возможных путей интеграции в культурное единство. В
этом случае появляется перспектива интеграции, а не прямолинейной ассимиляции, склонной оставлять за
бортом «неспособных».
Термин «интеграция» используется в специальной литературе — кросскультурной, этнической
психологии. Это принцип совместимости, когда разные группы сохраняют свои исходно присущие им
культурные особенности и объединяются в единое общество, взаимодействуя при этом на равноправных
основаниях [5]. Хочется подчеркнуть, что интеграция — это про-
334
цесс, в котором стороны взаимодействуют как партнеры, за ними признается право на культурные
особенности, и со стороны этих партнеров ищутся и находятся общие для всех сторон диалога основания.
А на практике это происходит иначе: более слабая культурная группа поглощается доминирующей
культурой. Этот процесс корректнее называть ассимиляцией. Хорошо, когда он происходит при
сознательном участии человека, то есть когда человек сам осознает особенности своей культуры, признает
их непригодными в новой культурной ситуации и предпочитает формы другой культуры.
В нашем обществе далеко не все понимают, что такое интеграция, и по-настоящему к ней стремятся.
Сегодня мы становимся свидетелями забавной ситуации: мы декларируем интеграцию, живем так, как будто
этот процесс уже идет, а на самом деле даже не делаем первого шага в направлении к нему. Скорее всего,
потому, что этот шаг требует от нас изменения наших представлений, образа жизни и т. д.
Для развития процесса интеграции необходимо как минимум признание ценности культурных
особенностей, потенциальной субкультурности — например, различных групп инвалидов. Понимание этой
проблемы означает признание тайны другого человека, готовность к постоянному риску, открытость
другому опыту. Когда-то глухой и слепой ребенок не был принят обществом. Сейчас такая же ситуация
дискриминации наблюдается по отношению к умственно отсталому ребенку. Очень часто — даже со
стороны специалистов, которые, казалось бы, должны знать не только недостатки, но и особенности таких
детей (которые в определенных ситуациях могут быть также и преимуществами).
В специальной литературе часто можно встретить замечания, что эти дети слабо
рефлексивны, поскольку они не реагируют на неуспех и т. д. Скорее всего, это
свидетельствует не столько о проблемах ребенка, сколько о сложностях традиционно
ориентированного педагога.
В работе с такими детьми возникает ситуация непосредственного проживания, опыта «здесь и теперь» —
ситуация, о которой мы любим говорить, но не жить в ней. Она сложна скорее для педагога, нежели для
умственно отсталого ребенка. Дело в том, что даже если педагог предполагает наличие более или менее
сохранной эмоциональной жизни у ребенка, он пытается говорить об эмоции словами обычного
современного человека. Но мы, к сожалению, потеряли особый язык выражения чувств. Работать с
аффектом современному человеку, как правило, очень сложно. Он избегает аффективных состояний как
состояний пограничных. Мы не живем такими чувствами, которые
могли бы увлечь ребенка, сделать ему что-то понятным. Это мы не можем найти тот язык, который этот
ребенок услышит.
Часто С. хрупка и нестойка. Заключенной в ней «энергетики» достаточно лишь для того, чтобы как-то
выделиться в составе господствующей культуры, приобрести в ней различимость. С. нельзя представить без
доминирующей культуры, к которой она тяготеет. Поэтому ей органически присуща и неустойчивость. Она
не имеет полного спектра собственных культурных форм и пользуется для их восполнения формами
большой культуры. В силу ее нестойкости в ней постоянно происходит расслоение: часть ее представителей
ассимилируется «большой культурой», часть маргинализируется.
Например, дети из интернатов для умственно отсталых постоянно пополняют маргинальный пласт
нашего общества. Формы жизни, которые предлагает им современное общество, связанные с
ответственностью, с собственным выбором, с собственной позицией — не для них. Ведь им присущ другой
тип социальности и отличные от наших формы поддержания целостности. Они теряются, попадают в
преступные группы, где существует жесткая иерархия и где они находятся в более или менее понятном для
них мире. Но для этих людей возможна альтернатива, если «большое» общество изменит к ним свое
отношение.
С другой стороны, С, строя охранительные барьеры, дает возможность своим членам «приостановиться»
на пути развития, подождать, затормозить, чтобы ничего не потерять и не потеряться в сложной культурной
реальности. В таком случае есть резон в расширительном толковании субкультурности не только как
структурного образования, но и как воплощения особой культурной функции, как особого культурного
механизма. Упомянутое словарное определение С. имеет в виду главным образом первое значение, но,
учитывая культурную функцию С, важно отметить и второе значение. С. — это определенный культурный
механизм, открывающий дорогу (посредством временной задержки и сегрегации ее членов) для возможной
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
