Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
341-
-341
Теория И. осуществила некоторые принципиальные сдвиги в здании гуманитарных наук. Во-первых,
снята опредмеченность, объектность собственно жизни сознания, понятой как абсолютное, необусловленное
бытие: именно это бытие присутствует — таково положение Гуссерля, из которого и вышло Бытие
присутствия Хайдеггера. И открытость хайдеггеровского Присутствия диалектически следует именно из
абсолютной замкнутости, имманентности чистого сознания у Гуссерля, которая превращается в
«динамически длящееся перерастание самой себя» (определение И. позднего Гуссерля).
Учение об И. преобразует также классическую субъект-объектную дихотомию, которая в науках о духе
приводит одновременно и к психологизму, и к физикализму. Пока исследователь остается в пределах связки
сознание/вещь, он вынужден определять акты сознания как верно и неверно отражающие положение вещей,
вне всякой внутренней связности жизни сознания, собственно и задающей коллизию сознание/ вещь.
Внутренняя связность, делающая возможной всякую верификацию, оказывается связью смыслообразования.
Эта новая позиция существенно повлияла на психологию. К. Ясперс в «Общей психопатологии» выстроил
проект феноменологической психиатрии, где методу каузальных связей противопоставлен метод связи через
понимание (ход, конечно, отсылающий к Дильтею, но феноменологически модифицированному).
Во всех гуманитарных сферах синтез феноменологии и герменевтики был неизбежен. Разворачивание
интенционального содержания всякого феномена становится реконструкцией картины мира, данной тому
или иному сознанию, а снятие естественной установки означает априори предполагаемую релевантность
этой картины и способность данного сознания осуществлять синтез горизонтов. В этом смысле всякий
современный культур-антрополог, этнограф, религиовед или филолог является феноменологом. Но в
современной гуманитарной науке исчезает вопрос об истине, центральный для Гуссерля. Предмет Гуссерля
— познающая субъективность, причем познающая истинным образом. Предмет современной гуманитарной
науки — толкующая себя субъективность, толкованием ставящая себя под вопрос.
Помимо «герменевтизации» феноменологии происходила и ее онтологизация, один из вариантов которой
дал Сартр. В «Бытии и ничто» он онтологизирует саму П., разводя имманентное и трансцендентное по двум
регионам бытия: для-себя-бытие и в-себе-бытие. Здесь происходит новое восстановление того раздвое-
ния сознания и бытия, против которого выступал Гуссерль. Это скорее отрицательная онтологизация,
поскольку и имманентное и трансцендентное оказываются лишены собственно бытия, их связь есть
«ничтожение», т. е. сознание оказывается отрицательно по отношению к бытию, а бытие — по отношению к
сознанию. Таким образом, в сартровском варианте экзистенциализма интенцирование будет не приданием и
одновременно усмотрением смысла, а выведением субъектом себя из пустоты — «проектом». Ранний Сартр
в феноменологической работе «Воображение» ставит интересный вопрос о природе образа. Образ есть
особая интенциональная структура, а не элемент этой структуры. Гуссерль не дает достаточно ясного
ответа, чем образ-фикция отличается от простой перцепции.
Критику гуссерлианской концепции рациональности осуществлял и Хайдеггер — изнутри совершенного
им поворота. Как пишет В. Молчанов: «Гуссерль полагал интенциональность структурой разума (разума не
как психического), Шелер — структурой духа, или личности (также ограничивая психическое). Однако эти
учения, полагает Хайдеггер, недостаточно радикальны, ибо вместе с разумом и духом мыслится душа
(anima). Согласно Хайдеггеру, нужно поставить вопрос о бытии самой интенциональности, т. e. o бытии
сущего, структурой которого она является. Это можно сделать только в отношении человеческого бытия, но
не в отношении абстрагированных от «в-мире-бытия» разума, души, личности и т. п.» [4:28]. В. Молчанов
предлагает свою структуру целостного опыта сознания, т. е., по существу, интенциональную структуру:
различие-синтез-идентификация, где различие первично.
Но и сам Гуссерль впоследствии расширяет сферу трансцендентального усмотрения. В своих поздних
работах (в частности, в статье «Кризис европейского человечества и философия») он пытается прояснить
«философско-историческую идею (или теологический смысл) европейского человечества» [3:626]. Теперь
его волнует та универсальная мотивированность донаучного, вненаучного и научного сознания,
связывающая воедино и направляющая некую самоформирующуюся целостность, которую можно было бы
назвать мировым духом, или — в данном случае — духом Европы. Речь идет об интенцированности всего
времени истории, но уяснение этой интенцированности требует несколько иных процедур и установок,
нежели феноменологическая редукция и усмотрение сущности «Логических исследований». Если и
субъектом, и объектом ранней феноменологии был трансцендентальный субъект, то теперь это европейский
человек — герой исторической драмы, «требующий подчинить всю эмпирию идеальным нормам, а именно
нормам безуслов-
358
ной истины. <...> Так идеальная истина становится абсолютной ценностью, влекущей за собой — при
посредстве образовательного движения и в постоянстве воздействий при воспитании детей — универсально
преобразованную практику. <...> Так возникает, следовательно, параллельно с созиданием новой культуры
особое человечество и особое жизненное призвание» [3:648]. Гуссерль понимает культуру как полное
интенцирование мира деятельностью духа. В эпоху «кризиса европейского существования» он
противопоставляет «натурализму» и «объективизму» овнешненного рационализма и его отражения —
иррационализма, «ненависти к духу и впадения в варварство» новое понимание кантовского «принципа
свободы» — «понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума» [3:666].
Итак, общее значение интенционального подхода заключается в том, что он дает цельное понимание
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
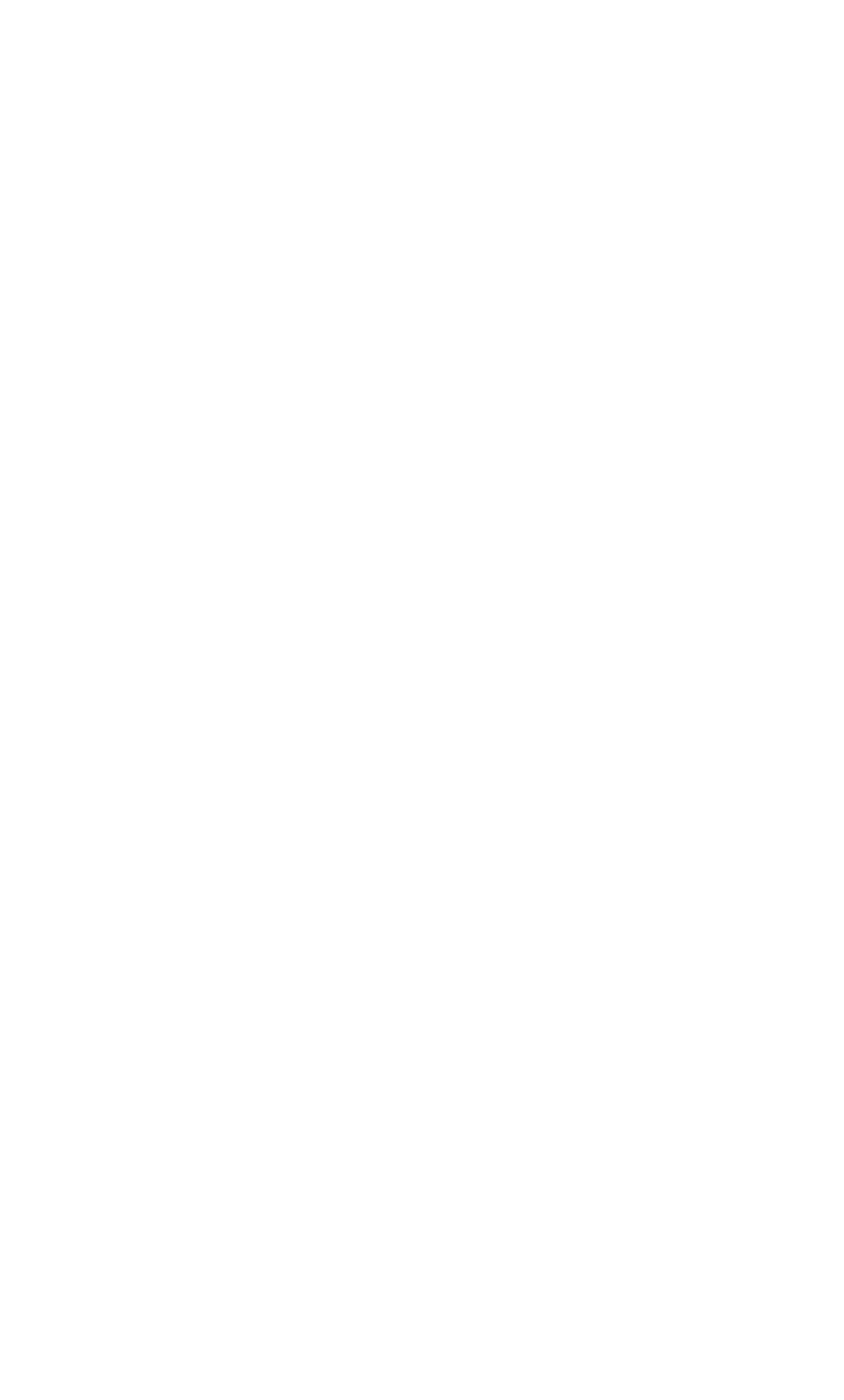
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
342-
-342
субъект-объектного отношения: того, каким образом человек, воспринимая мир, осуществляет реальность
этого мира. Сознание не есть «отражение» мира, и мир не есть трансцендентная сущность, ускользающая от
сознания. Мир есть мир человека, а человек осуществляет мировые взаимосвязи в разных модификациях
целевых установок, укорененных в полноте его жизненного мира. На разных уровнях исторического бытия
формируются интенциональные формы, которые поддерживают интерсубъективное бытие индивидуума и
общности, а в пределе — всего человечества.
Библиография
1. Гуссерль Э. Амстердамские доклады: Феноменологическая психология // Логос. 1992. № 3
(1).
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1994.
3. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Минск-М., 2000.
4. Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. 1992. №3 (1).
5. Сартр Ж.-П. Воображение // Логос. 1992. №3(1).
6. Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто: опыт феноменологической онтологии. М., 2000.
7. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001.
8. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
Файбышенко В.Ю.
КОНЕЧНОСТЬ РАЗУМА (к позиции 1.1)
К. р. определяется его пограничностью. Разум всегда пребывает на собственных границах, превращая
внеразумное в мыслимое. Таким образом, внеразумное включается в практику разума, осуществляет в себе
бытие разума. Одним из первых описаний этой страте-
гии разума можно назвать Платонов миф об Эросе: разум следует за Эросом, как бы перехватывая,
преобразуя его движение-вожделение. Как сказано в «Пире», Эрос есть стремление всякой смертной
природы стать по возможности бессмертной и вечной. Вечность достигается через рождение в прекрасном,
но телесно прекрасное дает лишь вечное изменение (вечность, которая доступна животной жизни),
подвижный образ вечности, а образ не равен оригиналу. Подлинно вечное достигается через порождение в
разумно прекрасном (прекрасном, которое открывается лишь разуму). В этой тонкой игре природное и
разумное и едины, и противоположны: природа не разумна, но хочет быть разумной. Переход от одного
типа порождения к другому есть процесс «вразумления» природы, иначе вся деятельность Сократа была бы
бессмысленна. В итоге предметом разумного эроса оказывается само положенное бытие — благо, чистое
определение бытия. Пределом разума выступает способность помыслить некий предельный объект, который
на самом деле оказывается не объектом, а полаганием бытия самого разума как собственно бесконечного
бытия.
Схематизируя, можно сказать, что конечность-пограничность разума конституирует его, признавая
реальность немыслимого, то есть того, что явилось не через полагание самого разума. Однако, признавая эту
реальность, разум уже вводит ее в круг возможного опыта и производит возможное как теоретический
конструкт. Классический случай такого конституирования — фрейдовское открытие бессознательного: в
сущности, негативной копии разума, со своей целью, методом и мощным семиотическим механизмом. Это
фантом биологического разума, обходящего главное ограничение — ограничение культуры так же, как
«дневной» культурный разум обходит биологические ограничения.
В средневековой культуре, в ее схоластическом увенчании, разум, ограниченный верой, в
действительности последовательно включал данное в откровении в порядок мыслимого. Например, начиная
с немыслимости чуда, средневековый автор затем разъясняет его как мыслимую вещь. Разум начинает со
Слова (слова Писания или слова авторитета), но исходит, естественно, из презумпции разумности этого
слова. Разум сообщается с Разумом. Границы бытия совпадают с границами мыслимого о бытии, почему
оказывается возможным онтологическое доказательство бытия Бога у Ансельма: «И, конечно, то, больше
чего нельзя себе представить, не может быть только в уме. Ибо если оно уже есть по крайней мере только в
уме, можно представить себе, что оно есть и в действительности, что больше. Значит, если то, больше чего
нельзя ничего себе
359
представить, существует только в уме, тогда то, больше чего нельзя себе представить, есть то, больше
чего можно представить себе. Но этого, конечно, не может быть. Итак, без сомнения, нечто, больше чего
нельзя себе представить, существует и в уме, и в действительности» [1:128]. Следуя этому стилю
рассуждения, можно сказать, что средневековый разум ограничен другим разумом, бесконечно его
превосходящим, а порядок действительности отличается от порядка мысли лишь прибавлением еще одного
атрибута. Нет пропасти между мыслью и действительностью, но есть несоизмеримость дискурсивного
рассуждения и таинства, на котором оно покоится.
Если средневековый разум — это ограниченный разум, исходящий из безграничного, то разум Нового
времени направлен на определение своих границ. В Новое время правильное использование разума есть его
применение в пределах возможного опыта, который, в свою очередь, ограничен разумом; получение опыта
представляет собой строгую интеллектуальную процедуру. Итак, структурное совпадение разума с опытом
— необходимая тавтология, условие адекватности разума, от Канта до Гуссерля. Тем не менее уже Кант
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
343-
-343
выяснил, что полнота применения разума приводит к появлению некоего метафизического излишка
(трансцендентного). Такова глубинная мотивация самого разума, и она может быть понята только если
предположить, что метафизическое не «надстраивается» над естественным и правомочным синтезом
фактичного, а определяет собой саму его надобность. Это противоречие восходит к изначально
двойственному положению человека — между естественной необходимостью природы и свободой как
основанием разумной практики. В отличие от животного, человек не принадлежит наличному. Его бытие
определяется перспективой целеполагания, в которой таятся все грядущие контроверзы conditio humana:
человек должен произвести основания своего бытия в качестве человека. Эта конституирующая перспектива
целеполагания есть культура: «Способность вообще ставить себе цель характерна для человека (в отличие
от животного). Следовательно, с целью человечества в нашем собственном лице связана также и разумная
воля, стало быть, и долг — вообще иметь заслугу перед человечеством через культуру, приобрести
способность (или содействовать ей) для осуществления всевозможных целей, поскольку такая способность
имеется у человека, т. е. долг культивировать первоначальные задатки своей природы, только благодаря
чему животное и становится человеком; стало быть, [это] долг сам по себе» [5:4(2):326]. Более того:
«Приобретение разумным существом способности ставить любые цели вообще (зна-
чит, в его свободе) — это культура. Следовательно, только культура может быть последней целью,
которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное
счастье на земле и не его способность быть главным орудием для достижения порядка и согласия в
лишенной разума природе вне его)» [5:5:464]. Кант делает шаг от проблематизации разума к проблеме
самого человеческого бытия как онтологического парадокса. А сферой разрешения парадокса оказывается
новый неприродный порядок бытия — культура.
Этот поворот, конечно, повлиял на последующую философию, но настоящее понимание его пришло уже
в ХХ в.
Проблема конечности разума обсуждалась и логическим позитивизмом, который, несмотря на свой
радикальный разрыв с философской традицией, также опирался на новоевропейский концепт тавтологии
разума и опыта. И тут попытки освободить разум от противоразумного метафизического употребления,
понимаемого как следствие логических или языковых ошибок, приводят к элиминации мира как такового,
вместо которого остается набор высказываний. Это вполне продуктивно для анализа построения научной
теории, которая не может сама быть миром, но тем не менее и она обретает смысл лишь в некой
внутримировой мотивации. И здесь пределы мышления не совпадают с пределами искусственного языка.
Показательна философская судьба Витгенштейна, который именно в силу строгости и честности своей
мысли переходит от идеального, бестелесного языка, равного системе мира, в «Логико-философском
трактате» к прояснению многообразнейших вовлеченностей мысли-языка-действия в жизнедействия
человека.
Видимо, еще от некоторых радикальных представителей французского Просвещения берет начало (а у
Ницше укрепляется) традиция представления разума как некоего поверхностного образования, являющегося
органом воли, или языка, или еще каких-либо практик. Но и здесь можно наблюдать неэлиминируемость
«излишка», который предстает, например, как борьба письма с логоцентризмом произведения в
постструктурализме. «Подрыв» разума приоткрывает ту его деятельность, которая ранее не могла быть
проблематизирована.
Итак, разум конечен, ибо, по существу, граничит сам с собой, но некоторым образом ему даны и
доразумное, и сверхразумное. Разум осуществляет разумное бытие доразумного и сверхразумного; его
задача в том, чтобы провести их развертывание как истинно сущих. Собственное бытие разума опирается
именно на открытость внеразумного, которая осуществляется в разу-
360
ме — со всеми историческими, культурными и физическими ограничениями. Эти ограничения
фундаментальны, но вместе с тем и подвижны.
Библиография
1. Ансельм Кентерберийский. Избранное. М., 1995.
2. Витгенштейн Л. Избранные труды. М., 1994.
3. Гуссерль Э. Логические исследования: Картезианские размышления. М.-Минск, 2000.
4. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
5. Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1963 -1966.
6. Платон. Диалоги. М., 2000.
7. Фрейд 3. Толкование сновидений. СПб., 1997.
Файбышенко В.Ю.
КУЛЬТУРА (к позиции 4.1)
Содержание понятия «К.» трактуется неоднозначно и в отечественной, и в зарубежной теоретической
литературе. «Словарь русского языка» указывает шесть его основных значений при двух вариантах каждого:
- совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной
жизни;
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
344-
-344
- уровень таких достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса общества. Уровень,
степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной деятельности;
- просвещенность, образованность, начитанность. Наличие определенных навыков поведения в
обществе; воспитанность. Совокупность условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного
человека;
- разведение, выращивание какого-либо растения; культивирование. Обработка, возделывание;
- разводимое, культивируемое растение;
- микроорганизмы (или совокупность микроорганизмов), выращенные в лабораторных условиях в какой-
либо питательной среде.
Кажущееся удивительным объединение в одном слове биологического и социально-гуманитарного
значений объясняется историей данного термина — исходное значение латинского слова cultura было
агрономическим: «искусственно выращенные злаки», — в отличие от дикорастущих (утверждение П.
Флоренского, что слово cultura произошло от слова cult, a не наоборот, выдает желаемое религиозным
философом за действительное). Постепенно значение данного понятия расширялось, захватывая все области
человеческой деятельности, поскольку К. создает нечто «искусственное», отличающееся от
«естественного», «натурального» бытия природы, а в самом человеке — и индивидуальном, и родовом —
от его врожденных,
т. е. «природных», качеств. В результате понятие «К.» стало определять любую конкретную форму
человеческой деятельности, ее предметные плоды и качества самого человека, способного их создавать. А
это вело к тому, что теоретическая мысль могла абсолютизировать культурное значение того или иного
частного проявления надбиологических качеств человека, ненаследуемых форм его деятельности или ее
плодов. Отсюда — множество дефиниций К., предложенных в истории культурологической мысли в
соответствии с исходными мировоззренческими и методологическими позициями каждого ученого:
американским культурологам А. Креберу и К. Клакхону, издавшим полвека тому назад своего рода
хрестоматию всех определений К., удалось найти в европейской и американской теоретической литературе
около 200 таких дефиниций (в книге М.С. Кагана «Философия культуры» [3] их приведено около 50).
Сопоставление всех этих определений приводит к заключению, что большая их часть не исключает друг
друга, а дополняет, поскольку каждое содержит более или менее весомое зерно истины, но ни одно не дает
о К. полного и целостного представления.
Действительно, одно из традиционных определений К. — аксиологическое — трактует ее как
совокупность духовных ценностей — «истины, добра и красоты»; естественно, что такая концепция
восходит к религиозному мировоззрению и обосновывалась классиками религиозной философии XIX-XX
вв., в частности русской (B.C. Соловьевым и его школой), которая само понятие «духовности»
отождествляла с религиозным сознанием; отсюда — противопоставление «культуры» и «цивилизации»,
редуцируемой к плодам материально-технической деятельности людей. Очевидна связь такого понимания
К. со славянофильской идеей превосходства России над Западом, порождаемым православной духовностью
как основой русской К., и научно-технической, буржуазно-денежной, бездуховно-материальной сущностью
цивилизации Запада.
Противоположное понимание К. — технологическое — видит в ней совокупный способ человеческой
деятельности, охватывающий все ее проявления, и материально-производственные, и духовно-
идеологические, и художественно-эстетические, поскольку всякая деятельность человека имеет свою
«технологию»; наиболее известные представители такой трактовки К. — Л. Уайт и Э. Маркарян. Понятно,
что с этой точки зрения цивилизация не противопоставляется К., а признается высшим ее проявлением, в
соответствии с восходящей к эпохе Просвещения, в частности к концепции А. Фергюсона, эволюционной
триадой «дикость — варварство — цивилизация». Очевидно, что такое понимание К. является логическим
выражением того типа
361
сознания, которое в противоположность феодально-патриархальной ментальности абсолютизировало
ценность не мифологизированной духовности, а научно-технического прогресса и экономики,
обусловливающей его широкое развитие.
Уже на этих примерах видно, что принципиальные расхождения в понимании сущности К. являются не
порождением отвлеченного теоретизирования, а теоретическим обоснованием разных исторических
уровней развития общественного сознания. То же самое мы увидим, желая понять происхождение и
широкое влияние «игровой» концепции Й. Хейзинги. Хотя она восходила к пониманию игры в философии
И. Канта — Ф. Шиллера, ее популярность (в отличие от преждевременно высказанной и потому на рубеже
XVIII и XIX столетий оставшейся незамеченной идеи немецких мыслителей) объясняется глубинным
процессом «игризации», если так можно выразиться, всей буржуазной К. в эпоху модернизма — именно
таким способом порожденная ею личность стремилась утвердить свою абсолютную свободу от подчинения
чему бы то ни было, соответственно не признавая ценности не только политики, этики и религии, но и науки
и техники, поскольку они подчиняют рожденную для свободно-игрового поведения личность неким
объективным законам природы. (В этом свете становится понятным неудержимо развивавшийся в ХХ в. в К.
буржуазного общества отказ художественного творчества от его традиционных «серьезных» функций —
познания бытия, его ценностного осмысления, воспитания человека — и его превращения в своеобразную
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
345-
-345
игровую деятельность, отличающуюся от традиционных игр только тем, что каждый художник придумывал
свои правила этой «игры формами»).
Понятно, что такая трактовка К. при всем ее влиянии не могла стать ни в 30-е гг. ХХ в., ни даже позже, в
эпоху постмодернизма, единственной — логика реального, прозаического бытия требовала осмыслить К. в
ее практической роли в жизнедеятельности общества, а прочно завоеванная свобода гуманитарной мысли,
не подчиняющейся никому и ничему и ни перед кем не ответственной (в отличие от естественных,
технических и математических наук), позволяла выбрасывать на «рынок идей» любые концептуальные
варианты культурологической мысли при одновременной тревоге за утрату связи К. с бытием человека и
судьбами человечества. Так, наряду с попытками неотомизма и русской религиозной философии возродить
средневековое религиозно-аксиологическое понимание К. (естественно, что в эмиграции русские философы
упорно держались тех воззрений, которые сложились на родине до революции) в ХХ в. сформировались еще
несколько культурологических концепций. Наиболее известные и наиболее влиятельные — трактовка Э.
Кассирером К. как «мира символических форм», в дальнейшем модифицированная и модернизированная на
основе возникших теории информации и семиотики: здесь акцент был поставлен не на условности
отражения человеческим сознанием реальности, а на самом механизме выработки, хранения и передачи
плодов человеческой деятельности; содержательно они характеризовались как ненаследственно
транслируемая из поколения в поколение информация, формально — как система языков, данную
информацию кодирующих, хранящих и транслирующих. Резюмирующая дефиниция такого понимания К.
четко сформулирована A.C. Карминым: «Культура — это социальная информация, которая сохраняется и
накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств». Опора на современные
научные концепции открыла данным трактовкам К. возможность осмысления современной практики в
обществе, получившем название «информационного» и обладающего небывалой в истории человечества
системой массовых коммуникаций.
Во всем этом множестве взглядов на сущность К. выявились два различных подхода к ее осмыслению —
онтогносеологический и аксиологический. Первый выражается в безоценочном рассмотрении К. как особой
формы бытия — «вторичной реальности», «второй природы», создаваемой людьми, конкретные
проявления которой могут быть человечными и бесчеловечными, красивыми и уродливыми, играющими
позитивную и негативную роли — например, война, яды, тюрьма и т. д., и т. п.; второй подход приводит к
признанию К. только того, что обладает положительной ценностью, оцениваемое как хорошее, благое,
полезное — отсюда понятия «культурный человек», противопоставляемый «некультурному», тогда как с
первой точки зрения каждый человек является культурным существом («некультурны» только животные);
соответственно К. оказывается не объективно существующей формой бытия, доступной познанию, а всего
лишь субъективной оценкой тех или иных человеческих действий и творений (скажем, разных обрядов,
культов, этикетов). Такая двойственность подходов объясняется множеством — и во времени, и в
пространстве — конкретных форм К., подчас противоположных, и потому неизбежно их сравнение, а тем
самым и сравнительная оценка; оценка же может быть и исторической, основанной на понимании ее
объективного развития, прогрессивного или регрессивного (скажем, по Л. Моргану и Ф. Энгельсу или по
Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстому), и как сопоставление «эквивалентных» К., уникальных и несоизмеримых (по
О. Шпенглеру или А. Тойнби).
362
Описанный разнобой в понимании сущности К., свойственный и отечественной, и зарубежной
теоретической мысли, объясняется прежде всего объективными причинами — уникальной сложностью
самого этого явления, в котором можно действительно обнаружить все те элементы и свойства, которые
выделяются данными теориями. В таком случае выход мог бы, казалось, быть найден в соединении всех
односторонних трактовок К., по принципу: «культура есть совокупность того и сего и иного...», — хотя уже
гносеологии XVII-XVIII вв. было ясно: беда эмпиризма в том, что простой перечень опытно
устанавливаемых свойств изучаемого явления, сколь бы ни был он широк, не может дать доказательного
представления о его сущности. Дальнейшее развитие научной мысли подтвердило этот вывод — одним из
самых ярких примеров является доменделеевское состояние теории химических элементов, знание которых
не давало представления о закономерном устройстве материи на этом уровне ее существования, возникло же
такое представление, когда наш великий ученый открыл закон связи всех элементов, т. е. структуру
материи. Примечательно, что в истории русской культурологической мысли в XIX в. намечался
аналогичный поиск закономерного строения (структуры) целостного бытия культуры — я имею в виду
концепцию Н.Я. Данилевского, основоположника отечественной культурологии, который преодолел
свойственное славянофилам духовно-религиозное понимание содержания К. и выделил в ней четыре
структурообразующих «разряда культурной деятельности»: «религиозную» деятельность; деятельность
собственно-культурную, т. е. «научную», «художественную», «техническую»; деятельность
«политическую» и деятельность «общественно-экономическую»; при этом разные исторические типы К.
характеризуются, по проницательной мысли Данилевского, доминированием одной или нескольких ее
деятельностных «основ».
Системно-структурный по сути своей подход ученого не получил признания ни у его современников, ни
до сих пор у потомков — их внимание оказывалось сосредоточенным не на методологической, а на
идеологической стороне его учения, которая связывала его со славянофилами и почвенниками. Даже
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
346-
-346
разработанная в России спустя полвека «тектология» А. А. Богданова была преждевременной, и не только в
нашей стране, ибо и на Западе структурализм и системный подход получили признание только в середине
ХХ в., но и тогда далеко не полное — с одной стороны, потому, что слишком сильное влияние получили
различные формы иррационалистического мышления, а с другой — потому, что сама теория систем
строилась на материа-
ле биологии, представляющем собой, по определению П.К. Анохина, «функциональные системы», тогда
как К., подобно цивилизации, искусству, обществу, самому человеку как объединяющему всех их и
системообразующему для каждой созидательно-творческому началу, является системой и функциональной,
и исторической, что делает ее на несколько порядков более сложной, чем математические, физические,
астрономические, химические, биологические системы.
Во всяком случае, уже холизм в 1920-е гг. и развившая его положения в 1930-1960 гг. общая теория
систем доказали: целое больше, чем совокупность составляющих его частей, поскольку теоретически
мыслящим ученым интуитивно ясно, что К. в каждом своем конкретном проявлении — русская К., К.
Возрождения, народная К.(фольклор), К. пушкинского лицея, К. личности — есть нечто целостное, сколь
бы ни была она сложна и даже противоречива. В таком случае необходимо было раскрыть «тайну» этой
целостности, т. е. установить, какая же сила превращает совокупность элементов К. в нечто органически
целостное.
Поиск этой силы, ставший возможным только в конце 1960-х гг., после частичного высвобождения
философской мысли из подчинения сталинской вульгаризации учения К. Маркса, и развернулся,
преодолевая большие препятствия, и внешние, и внутренние, в культурологической мысли в Советском
Союзе в 1960-1980 гг. Поиск этот развернулся сразу в нескольких направлениях: он базировался на теории
деятельности (в работах Э.С. Маркаряна, В.М. Межуева, В.Е. Давидовича и Ю.А. Жданова, Н.С. Злобина);
в «диалогической» концепции B.C. Библера он опирался на идеи М.М. Бахтина; в разрабатывавшейся
грузинскими философами во главе с Н.З.Чавчавадзе он отталкивался от неокантианской теории ценности; в
«структуральной поэтике» Ю.М. Лотмана он интерпретировал открытия семиотики; в «Культурологии»
A.C. Кармина осуществлялся в русле теории информации, в «Человеческой деятельности» и в последующих
работах М.С. Кагана философское осмысление К. основывалось на применении системного подхода и
синергетики.
Один из опытов распространения современных научных представлений на построение теоретической
модели К. был сделан B.C. Степиным в статье «Культура» в «Новой философской энциклопедии»: культура
определена философом как «система исторически развивающихся внебиологических программ
человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство
и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях». Однако программа, в точном смысле
этого слова, охватывает лишь духовные «направляющие»
363
деятельности — от знаний до верований, и потому к ней не сводится «исторически накапливаемый
социальный опыт»; к тому же «опыт» есть всего лишь характеристика обретаемого людьми результата их
деятельности, тогда как к К. мы правомерно относим и отделившиеся от человека, опредмеченные плоды
его деятельности. Представляется поэтому, что в системной концепции М.С. Кагана К. получает более
полное осмысление: она трактуется здесь как полимодальная система, в которой человеческая модальность
— психически-духовная способность к разнообразной продуктивной деятельности — переходит в процессах
опредмечивания в практически-деятельностную модальность, т. е. в реально созидающие «вторую
природу» способы деятельности; эта модальность преображается в предметную, а эта последняя в ходе
распредмечивания вновь переходит в духовную... Таким образом, реальный процесс функционирования и
развития К. состоит в том, что человек создает культуру, а она создает человека.
Если различие содержания понятий «К.» и «человек», при всей их близости, очевидно, то сложнее
обстоит дело с категориальным соотнесением культуры и общества. Развитие капитализма как нового
общественного строя, приведшее к рождению новой науки, посвященной его изучению, — социологии,
разработка К. Марксом социально-философской теории капитализма и перспективы его смены
коммунистическим обществом сделали необходимым разведение содержания этих понятий, в XVIII в.
принципиально не различавшихся. Оказалось, что возможны две трактовки их соотнесения: социалисты-
утописты рассматривали общество как компонент К. и приходили к выводу, что изменение той или иной
сферы К. приведет к изменению общества, а марксизм и ленинизм, напротив, включили К. в состав
общества как вторичную, производную, зависимую от материально-производственного и политически-
организационного основания общественной жизни духовную деятельность людей; поэтому В.И. Ленин счел
возможным совершить социалистическую революцию в стране, об уровне К. которой свидетельствовал уже
мизерный процент грамотности многомиллионного крестьянского населения (не говоря уже об азиатских
районах России, где царила почти полная неграмотность). Соответственно в советской философии
исторический материализм определялся как «общая социология», а для «общей культурологии» — т. е.
«философии культуры» — места вообще не было: характеристика общества либо обходилась вообще без
упоминания о К., либо ей уделялось несколько страниц в заключениях монографий и учебников под такими
странными заголовками, как «Наука и куль-
тура» или «Культура и искусство» (этому не приходится удивляться, поскольку в сталинском изложении
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
347-
-347
основ марксистской философии «О диалектическом и историческом материализме» нет даже самого слова
«культура»).
Наконец, в XIX в., но особенно широко и настойчиво в конце века ХХ, стал обсуждаться вопрос о
соотношении культуры и цивилизации. Хотя и Н.Я. Данилевский, и Э. Тэйлор продолжали, как и в эпоху
Просвещения, использовать данные понятия как синонимы, уже в романтической (а в России в
славянофильской) традиции они стали противопоставляться как возвышенно-духовная и пошло-
материальная стороны человеческой деятельности (что и позволяло утверждать превосходство русской К.
над западной цивилизацией), а в наше время серьезное влияние стал завоевывать так называемый
«цивилизационный подход», включающий К. вместе с обществом в состав цивилизации.
Таким образом, объединяющим пока что все культурологические концепции является понимание К. как
формы бытия, которая противостоит природе как бытию естественному, «девственному», нетронутому
рукой человека, и в самом человеке как воспитанное, благоприобретенное, полученное в ходе образования и
обучения тому, что в каждом из нас врождено, унаследовано анатомо-физиологическим строением
организма. Однако при конкретизации данного тезиса начинаются расхождения, которые могут быть
преодолены только системным мышлением, к сожалению, еще неразвитым и у ученых, и у философов.
Библиография
1. Философия культуры: становление и развитие. 2-е изд. СПб., 1998.
2. Хрестоматия по культурологии. Том 1: Самосознание мировой культуры. СПб., 1999; Том 2:
Самосознание русской культуры. СПб., 2000.
3. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
4. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Ч. 1-2. СПб., 2001-2002.
5. Кармин A.C. Культурология. СПб., 2001.
6. Степин B.C. Культура: Новая философская энциклопедия. Т. II. М., 2001.
7. Kroeber A.L. and Klackhohn С. Culture: A Critical Review of Concept and Definitions. Harvard
Univ., 1952.
8. White L. The Science of Culture. N-Y., 1949.
9. Jenks Chr. Culture. L. and N-Y., 1993.
Каган М.С.
КУЛЬТУРЫ ОНТО-ЛОГИКА (к позиции 1.2)
Одна из ведущих тем философии диалога культур (см.: Диалог культур, I, II) B.C. Библера. Понятие
культуры в диалогике резко отличается от соответствующего
364
понятия традиционной культурологии (культура как ценностная, ментальная, семиотическая... система).
Феномен особой (исторической или современной) культуры обретает онтологическое значение и основание,
если может быть понят как раскрытие одного из возможных общезначимых смыслов сверхисторического
бытия. Такое понимание возможно, поскольку в историческом существовании человека определенным
образом открывается горизонт сверхисторического. Культура в диалогической логике это сфера тех и только
тех конкретных, вещественных форм — произведений, — в которых запечатлевается и содержится то, как
человек возводит определенность своего исторического существования в общезначимое бытие. Иными
словами, культуры понимаются как уникальные и общезначимые формы (склады) человеческого духа,
навсегда сохраняющие своеобразную формирующую силу, способность возрождаться, открывать новые
смысловые ресурсы, — т. е. продолжающие быть и после гибели породившей их цивилизации, и за
пределами общности (этнической, языковой, традиционной), на почве которой они сложились. Культура это
то, как и в чем разные времена (эпохи) оказываются со-временными и разные «ментальные миры» —
осмысленно сообщенными разумами.
Онтологический (общезначимый, универсальный, вечный) смысл культур определяется из точки их
возможного общения (спора) «по последним вопросам бытия» (М.М. Бахтин). В этой точке (возрождаемая
изнутри этой точки) бывшая культура оказывается не только прошлой, исторически законченной, а всегда
настоящей альтернативой, могущей развернуться непредсказуемым смысловым будущим. Это мир смысла,
способного расти в ответ иным смысловым мирам, в том числе и тем, что исторически возникли позже.
Диалогическая онтологика культуры мыслится как философия, отвечающая эпохальному смыслу
истины, основывающему возможность современной (XX-XXI вв.) культуры бытия. Собственный смысл (т.
е. общезначимость) этой возможной (вовсе еще не действительной) культуры как раз и состоит в открытии
фундаментального диалогизма бытия. Философская (онтологическая) радикализация понятия культуры
оказалась допустимой только потому, что на дальних горизонтах современной культуры, в ее философских
предвосхищениях, в средоточии «чистой» онто-логики была допущена и затребована соответствующая идея.
В основе понятия культуры как онтологической идеи лежит принцип предельной онтологической
индивидуации: бесконечно возможное бытие сбывается каждый раз настоящим бытием (миром) в
определенном, исключительном смысле, внутренне соотне-
сенным с другими возможными смыслами бытия-по-настоящему.
Произведениями культуры в этом смысле слова будут только те вещи (словесные, каменные,
музыкальные... «поэмы»), в которых исторический человек строит себя в горизонте (в регулятивной идее)
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
348-
-348
личности, а сущее мыслит в горизонте бытия (онтологически обоснованной истинности). Таковы два
сопряженных средоточия архитектонической целостности культуры: в одном повороте она понимается как
особая поэтика личности, в другом — как онто-логика или как особая логическая культура всеобщего
(чистого) разума. Свойственный исторической культуре образ мысли («дух времени», «ментальность»,
«понимание в мире») обретает форму общезначимой онто-логики, когда (1) специально продумывается и
обосновывается в том, что содержит в себе идею (или критерий) истины, когда, например, озадачивается
различием понятного «для нас» и мыслимого «само по себе». Этому требованию отвечает метафизическая
(и метаисторическая) онтология, формулирующая и обосновывающая некий принцип тождества мышления
и бытия (или умопостижимого основания умопостижения), — тождество ratio essendi и ratio cognoscendi:
определенность и определение в Античности, мыслящее причастие творящему замыслу в Средние века,
параллелизм причины-действия и основания-следствия в Новое время...
Но онтологически само-обосновывающий разум эпохи открывает свой культурный смысл (а вместе с
ним онтологический смысл своей культуры), когда (2) вдумывается в коренную парадоксальность своих
онтологических начал как конститутивных актов самообоснования. Внутренняя (само)критика
метафизических (онтологических) начал развертывается как философская онто-логика. Она складывается (а)
как логика возможных (культурных) смыслов бытия, конкретнее говоря — смыслов связки «есть» в
онтологическом суждении «мышление есть бытие»; (b) как архео-логика, логика онтологических начал или
априорных пред-полаганий, включающая в себя логику противоречия разума самому себе в своем
онтологическом начале, в точке онтологического само-обоснования; (с) как парадоксо-логика, т. е. логика
невозможности необходимого онтологического тождества: бытие как внеразумное (внелогическое)
основание разума, обосновываемое, однако, — в этом внеразумном (или даже сверхразумном) статусе —
самим разумом как внебытийным (в ничто обитающем) началом бытия; (d) как онто-логика культуры в
смысле логики онтологически возможных миров и разумов, логики культурных оснований «естественного»
(или «сверхъестественного») света разума (в онто-логике мысль словно выглядывает за
365
край собственного света); наконец, (е) как дна-логика, поскольку мир культуры может быть сосредоточен
мыслью в своем начале (т. е. впервые стать миром) только на грани с иным началом, в общении с иной
возможностью быть миром, в лакуне межкультурного диалога, в «хронотопе» всемирно-исторического
перекрестка; и обратно: диалог культур возможен, имеет смысл лишь тогда, когда сама культура понимается
собранной, сосредоточенной в своем онто-логическом начале.
В качестве логики онто-логика культуры есть аналитика онтологических начал (миро-допущений). Это
логика априорных начал культуры, тех источников света, который воспринимается внутри мира культуры
как естественный (или сверхъестественный) свет разумения. Так, для Античности истина бытия заключена
в самодовлеющем существе сущего (to ontos on), понимаемом как внутренняя форма (eidos). Эйдетический
ум, сказывающийся во всех сферах античной культуры, актуализирует возможное бытие как совершенный
образ («космос»), вид, внутреннюю форму. Философская аналитика обнаруживает онто-логическую апорию,
коренящуюся в средоточии этой истины (этого смысла истины), а именно изначальную апорийность
«бытия» в суждениях «многое есть (как) единое», «единое есть (как) многое». Для культуры Средневековья
истина бытия — при-сущность, причастность сущего творящей энергии сверхсущего творца, понимаемая
как внутренняя форма действия. Причащающий разум актуализирует возможность бытия как всеобщего
«субъекта» («Я есмь сущий»). Онтологическая антитетика этой истины сказывается в том, что бытие
сущего («что») определяется как момент, заключенный между ничто его собственного (не)бытия и ничто его
божественного (сверх)бытия. Для культуры Нового времени истина бытия есть однородная сущность,
скрывающаяся за явлениями разнородного существования. Мир пред-определяется как бесконечный
предмет познания, разум — как субъект методического познания. Истина, определяемая познающим
разумом как объективность, чревата внутренним противоречием. Сущностное бытие характеризуется
двумя антиномически сопряженными атрибутами: относительно мира существований оно определяется как
мысленная идеализация, относительно мыслящего субъекта — как внемысленная протяженность. Наконец,
диалогическая онтология разума культуры, возможность которого намечается на эпохальном рубеже XX-
XXI вв., есть онтологика этих возможных миров-культур как уникальных допущений бесконечно-
возможного бытия.
Онто-логика культуры есть логика возможностей быть с мощностью мира, логика миропорождающих
допущений, своего рода «божественных» замыслов. Такое понимание возможно и насущно потому, что
отвечает внутренней интенции современной культуры, повсюду смещающей фокус онто-логического
внимания со смысла бытия-осуществленности и/или бытия-развития к смыслу бытия-возможности, бытия-
наброска, бытия-начинания. Соответственно, диалогической онто-логике культуры близки те направления
современной философии, где мысль сосредоточивается на онтологических парадоксах, у начал, на порогах,
в вакууме виртуальных миров: неокантианская философия культуры там, где она выходит на грань с
онтологической проблематикой; философски заостренная культурология М.М. Бахтина;
феноменологическая аналитика «жизненного мира» и фундаментальная онтология М. Хайдеггера,
остающаяся, впрочем, в горизонте монологического понимания бытия; деконструкция традиционного моно-
онтологизма, понятая как пропедевтика к онтологии возможностного бытия.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
349-
-349
Библиография
1. Библер B.C. На гранях логики культуры. М., 1997.
2. Библер B.C. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.
Ахутин A.B.
МИКРОСОЦИУМ КУЛЬТУРЫ (к позиции 1.2)
Одно из узловых понятий диалогики культуры (см.: Диалогика культуры, I) B.C. Библера. Оно имеет
двоякое определение. Во-первых, это реальное учреждение, институт (не обязательно зримый) некой
цивилизации, задающий, определяющий и устрояющий каждый раз особую форму общения людей в
горизонте личностного самосознания и бытийной истины, иначе говоря, — в сфере культуры. Это, стало
быть, также и такая форма особой культуры, в которой она возводит свою особость в горизонт все-
общности, внутренне соотносится (общается) с соответствующими культурными средоточиями других
культур, потенциально образуя (про-образуя) собственно М. к. как микросоциум (необобщаемую
сообщенность) различных культур бытия. Именно этот идеальный образ универсального, всемирно-
исторического социума культуры («большое время культуры», по М. Бахтину) по-разному проектирует и
устраивает возможный особый микросоциум современной культуры как культуры общения разных культур,
т. е. разных смыслов бытия.
Во-вторых, М. к. это внутренняя социальность (полифоничность), присущая самим регулятивным идеям
личности и разума как двум полюсам, создающим напряжение культурного поля индивида. Горизонт
личностного самосознания определен диалогическим отношением Я — Ты, где «Ты» это интимно внутрен-
366
няя, но изначально иная — и потому предельно насущная — возможность личностного (духовного)
бытия (alter ego). Горизонт разума определен онто-логической границей (логическим — изначальным —
диалогом) с разумом иной логической архитектоники (см.: Диалог культур, II; Культуры онто-логика, Я).
М. к. организован и устроен так, чтобы сосредоточить мир в событие личности, но и это событие сделать
вещественным событием мира — произведением (см.: Произведение, I, II). Устройство М. к. возводит
внешнее (социальное) общение людей во внутреннее, личностное, духовное Я — Ты-общение и
развертывает внутреннюю речь мыслящей и самосознающей души в артикулированное событие, зримое,
слышимое, охватывающее все умное и чувственное существо человека и все это существо адресующее
всему существу другого. Так из произведений культуры вырастает некое произведение произведений,
содержащее в себе М. к., социум не социологический, не цивилизационный, не коропоративный (цеховой,
конфессиональный, общинный...), а собственный социум культуры. Поэтика такого произведения есть
своего рода технология установления индивидов в горизонт личности, а психологических умов — в
горизонт онтологического разума.
Форма и строение М. к. в каждой культуре (форма культуры как произведения произведений)
определяются строением доминантного произведения этой культуры. Оно заключает в себе основные
черты, определяющие поэтику произведений в любой сфере этой культуры, а потому и позволяет понять
множество разных произведений не просто как совокупность памятников, а как полифоническое целое.
Поэтому доминантное произведение и представляет собой архитектонику М. к. Можно сказать, что М. к. это
общение людей, вовлеченых в восприятие доминантного произведения.
Для Античности форма М. к. явлена в архитектонике трагического театра, в поэтике трагедии.
Трагический театр — одно из средоточий мистериальных всеэллинских торжеств — собирает «всех» людей,
чтобы сообщить их друг другу в том, что «общезначимо и возможно» (Аристотель), в образе человеческого
удела, в некоем «Се человек!». Микросоциум античной культуры это общение в виду, в идее (как в
глубинном «смысле», так и в театральном «зрелище») трагедии. Он прямо встроен в реалии трагического
театра. Здесь важна и мистериальная настроенность публики, и отстраненность ее от «действа» в качестве
зрителей, и вовлечение во внутреннее пространство трагедии с ее основными персонажами и «складом
событий» и, наконец, катарсическое возвращение в себя. Все вовлекаются в театрально-зримый «космос», в
общение Ге-
роя — Хора — Зрителей, в перипетийное напряжение и узнавание (себя), в поэтически
артикулированный «логос» трагического события, в общую «амеханию», в личный катарсис. Греческий
трагический театр выводит на сцену и вводит в средоточие общей жизни расположение личностного этоса.
Театр делает его зримым, приводит в действие его энергии и таким образом на деле вводит (посвящает)
человека в самого себя, в свое внутреннее сообщество, в форму М. к.
Поэтика трагедии — всеобщая поэтика античной культуры. Она работает также и в построении других
произведений, например философских. Соответствия трагическому «герою», роли «хора» и позиции
«зрителя», ситуации «узнавания», «перипетии», «катарсиса» можно различить довольно ясно (разумеется,
не на поверхности) в платоновских диалогах, но той же поэтикой определена вся логическая культура и то,
что можно назвать апоретикой начал греческого (эйдетического) ума. Таким образом, поэтика трагедии
лежит в основе одного большого произведения (произведений) — «Античная культура».
Для Средневековья такой М. к. это — «бытие-в-(о)круге-храма», двуединство человека-в-храме и храма-
в-человеке. Возведение собора (мира миром), собрание (собор) мира (общины) и мира (тварного и
временного) в храме, на литургическом предстоянии пред ликом будущего конца, на пороге вечности,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
350-
-350
пограничье фрески или иконы между этим миром и тем миром («протертое окно»), катарсис исповеди, в
которой человек, предвосхищая, предосмысливая свою будущую смерть и исходя из этого последнего
момента своей жизни, представляет всю свою жизнь, отстраняется от нее в целом. Во внутренней
архитектуре храма (в его стенописи, фресках или иконостасах, в его колоннах и сводах) предстоящее — в
чаянии, в страхе, in spe — будущее, присутствует здесь, в настоящем (и жестко отстранено от этого вот
«меня», стоящего перед...) — в плотном, материальном, непрозрачном, но насыщенном бликами, отсветами,
сияниями, ритмическими жестами стен и линий. Строение собора на деле строит средневекового человека,
собирает его в горизонте личности, в микросоциум средневековой культуры. Это произведение
произведений, делает своим произведением самого человека, преображает бытие в храме во внутреннее
архитектурное устроение души человека в мире как округе храма, где храм присутствует как незримый (но
слышимый) свод колокола.
Архитектурность «бытия-в(о)круге-храма», толкуемая в смысле архитектоники средневекового М. к.,
понимается не в однозначно религиозном ключе, а как всеобщая поэтика собирания человека
средневековой культуры в горизонте личности и как логика причаща-
367
ющего ума (см.: Разум причащающий, II) во всех сферах средневековой культуры. В контексте поэтики
речь идет о взаимоотражении в сознании (Я — Ты) архитектурного, формально-ритмического образа бытия
человека (предстоящего перед пред-стоящей вечностью) и его душевно-духовного образа, «внутреннего
человека», сосредоточенного в слухе. Так в мистерийную перипетию могут быть вовлечены не только
собственно культовые или теологические смыслы, но и ремесленные, и художественные, и теоретические, и
бытовые стороны средневековой цивилизации, собираемой (мысленно сосредоточиваемой) в М. к.
М. к., отвечающий культуре Нового времени и определяющий ее всеобщую поэтику, выявить труднее.
Своеобразная социальность бытия в сфере культуры и соответствующее доминантное произведение
(например, Театр Античности и Собор Средневековья) размывается в эту эпоху и теряется в расколе на
внекультурную мегасоциальность (историческую, формационную, государственную) претендующую на
полную детерминацию индивидуальной жизни, и бытие в смысловом поле культуры как принадлежность
исключительно индивидуального самосознания. М. к. глубоко интериоризируется и вступает в резкое
(«романтическое») противоборство с «законами» внешней социальности (истории, класса, нации,
государства, семьи). Есть, однако, форма произведения, в которое именно эти особенности новоевропейской
цивилизации проецируются и где они преображаются так, что обнаруживают особый склад М. к., ведущий,
правда, странное по сравнению с описанными феноменами существование. В Новое время доминантным
произведением и вместе с тем формой М. к. является роман (понимаемый прежде всего в толковании М.М.
Бахтина). Речь опять-таки идет не о строении отдельных романов, а о тех отношениях, которые необходимы
для романного общения человека и окружающий среды, человека и других людей. Это поэтика романа как
романная поэтика личностного самосознания человека, или поэтика М. к. В романе ( 1 ) за простой
совместностью разнородного социального бытия, управляемого безличными законами, за взаимодействием
социальных ролей открывается их драматическая сообщенность, экзистенциально значимое общение людей,
в «реальном» мире, быть может, вовсе не встречающихся друг с другом, но сводимых в решающие встречи
«хронотопом» романа; (2) внешнее противостояние мегасоциума (и вообще — «не зависящего от меня»
мира объективного знания) и отброшенного в свою единичную субъектность индивида развертывается как
внутреннее событие, как условие бытия в горизонте личности; средоточия М. к. образуют различные
индивидуальные
решения, воплощенные в таких универсальных образах, как Гамлет, Дон Кихот, Фауст; (3) наиболее
характерными формами романа как своеобразного М. к. является история семьи и биография; в таком
фокусировании каждая точка, из которых складываются непрерывные цепочки причинно-следственных
связей, оказывается точкой возможного начинания, изначально-авторского решения («быть или не быть?»).
Романное слово в Новое время вырастает из таких жанров, как, например, «республики писем»
(микросоциум научной культуры XVII в.), позволяющей идеализовать реальные отношения с сотрудниками
в своеобразную форму научного произведения. Безличность научного трактата складывается как форма
межличностного общения, в котором достигается интерсубъективное (сообщимое, воспроизводимое,
опровержимое) знание.
В современности таким доминантным произведением и вместе с тем социумом, формой общения людей
в сфере культуры, является лирика, понимаемая в широком плане и углубленном смысле. Лирика как склад
произведения не просто предполагает автора, но «производит» его, — автора своего чувства, своей мысли,
своей жизни. Рождение автора во всей его неисчерпаемой единственности — ключевой момент («начало»)
лирической поэтики и парадоксальная форма современного М. к. Самым захватывающим и для автора и для
адресата произведения ХХ в. является само рождение произведения, рождение автора, рождение читателя
(зрителя, слушателя... ). Превращение частного лица в автора — лирическое начало любого произведения
ХХ в.: живописного (Пикассо), трагического (трагедия «Владимир Маяковский»), музыкального
(замкнутость камерного ансамбля, исполняющее слушание), литературного (сочиняющее чтение)...
Лирическая поэтика вовлекает человека в сферу бытийного авторства, в сочиняющее средоточие
человеческого бытия. Лирический автор не сообщает адресату авторитетное или интерсубъективное
сообщение, а обращает его в себя, в собственное лирическое авторство, т. е. в со-авторство. Причем это
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
