Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.

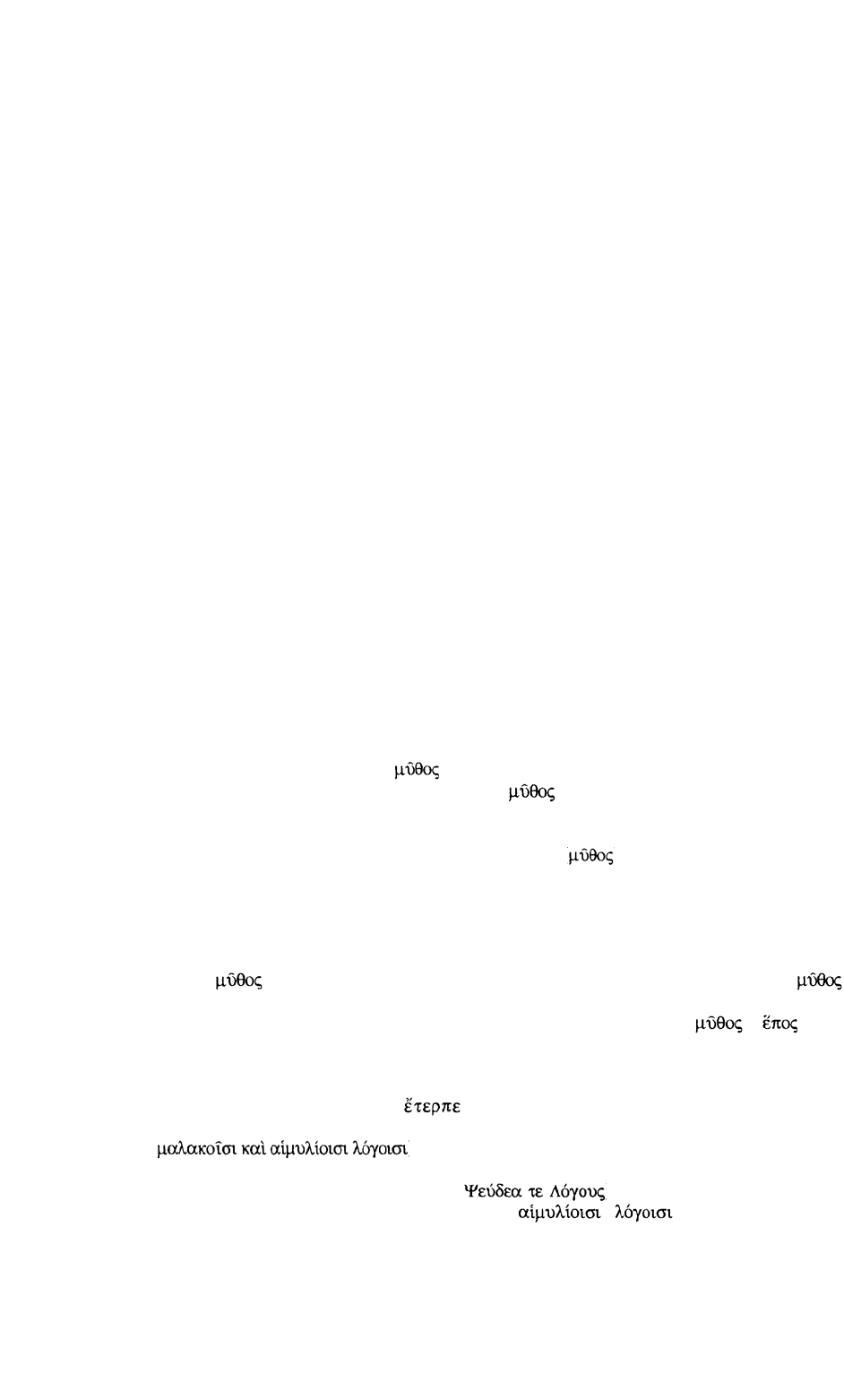
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
361-
-361
собственную жизненную стихию. М. оказывается одновременно и «первичнее» и «вторичнее» логоса.
378
Именно эта диалектика непосредственной оппозиции М. и логоса (не-опосредованность их
противопоставления и различения, которая оборачивается непосредственностью их тождества и
неразличенности) оправдывает ту характеристику античной философии как диалектики М., которую ей дал
А.Ф. Лосев. В существе своем вся эта непосредственная диалектика М. есть то, что Гегель назвал
отрицательной диалектикой классической мысли (в противоположность положительной диалектике, т. е. в
противоположность диалектике, тематически сосредоточенной на положительном определении именно
структуры опосредования). Это — диалектика непосредственного противопоставления и непосредственного
отождествления одного и иного, единого и многого, покоя и движения, жизни и смерти, бытия и небытия.
Каждая из этих оппозиций представляет собою лишь аспект в разворачивании базисной «диалектики М.», т.
е. в разворачивании оппозиции «М. — логос».
Поэтому гегелевская характеристика Платоновой диалектики как отрицательной сама является
отрицательной характеристикой: Гегель точно указал на то, что в этой диалектике отсутствует (а именно
— тематизация структуры опосредования), но не смог указать, чем же, взамен отсутствующей скрепы, она
удерживается. Ведь не отсутствием же! Но и не мог великий мыслитель Просвещения указать на эту
диалектику как на внутренний смысл и внутреннюю жизнь М., и на то, что М. есть не только ее аутентичное
и максимальное выражение, но и ее единственная точка опоры. Соверши Гегель такой шаг, он должен был
бы не просто ограничиться имманентной критикой Канта, а заявить вопреки очевидности о своей
радикальной независимости от Кантовой традиции и даже объявить Канта своим философским антиподом.
Другими словами, он должен был бы стать Алексеем Федоровичем Лосевым, или уж по крайней мере — т.
е. при сохранении минимального пиетета к Кантовой эстетике — он должен был бы объявить себя Ф.В.
Шеллингом. И дело не только в «исторической ограниченности» Гегеля. Ведь и сама лосевская философия
М. (возможно, самая глубокая и детально разработанная теория М. в философии ХХ века — во всяком
случае, по тщательности своей философской продуманности никак не уступающая философии М.
Кассирера, с которой она, впрочем, имеет немало сходного) выстраивается не на какой иной, но на этой же
платонической основе — на диалектике непосредственной оппозиции — и вполне этой диалектикой
ограничена. И это несмотря на то, что Лосев привлекает к обоснованию и выстраиванию всю философскую
технологию, разработанную именно немецкой мыслью (Гегель, Шеллинг, Гуссерль, Герман
Коген, Кассирер), т. е. мыслью, полностью сосредоточенной на структурах опосредования — будь то
задача снятия (т. е. опосредования) непосредственности или задача «прорыва» из опосредования в
непосредственность. Если гегелевское понимание античной мысли ограничено установками Просвещения,
то Лосев пытается ограничить Просвещение базисными установками античной мысли.
Сама историческая эволюция значения слов и λόγος отражает становление этой диалектики
непосредственной оппозиции. Тождественность значений слов и λόγος («слово, речь» и «все, что
артикулировано словом») выступает в этой эволюции как подчеркивающая их коннотационную
противоположность и взаимный обмен их ролей в передаче этой кон-нотационной противоположности.
В гомеровских «Илиаде» и «Одиссее» основное значение слова «М.» ( ) — «слово» или «речь».
Это может быть «слово» или «речь» в смысле «публичное выступление» {Одиссея I, 358). Но это слово
может означать и «извинение» (Одиссея XXI, 71), «разговор» (Одиссея IV, 214), «факт» (Одиссея IV, 744),
«угроза, » «приказ» (Илиада I, 388), «задача» (Илиада IX, 625), «совет» (Илиада VII, 358), «намерение» или
«план» (Илиада I, 545; Одиссея IV, 676), «разум» (Одиссея III, 140), и «история» или «сказание» (Одиссея
III, 94).
У Софокла встречается в значении «сообщения», «известия» ( Трахинянки, 67). У Геродота
может означать «предание» (История. II, 45).
Слово λόγος у Гомера встречается редко. И хотя обозначает λόγος то же самое, что и и , т. е.,
«слово», «речь», но имеет оно, скорее, коннотацию (множественное число — λόγοι) слов отвлекающих,
развлекающих или ложных, льстивых (ср. тютчевское — «Мысль изреченная есть ложь»).
Единственное место Илиады (Il. 15.393), где появляется λόγος, сообщает, что Патрокл, врачуя болящую
рану Еврепила, «веселил [Еврепила] словами» ( λόγοις). В единственном месте Одиссеи, где
появляется λόγοις (Od. 1. 56), Одиссея, «лиющего слезы, [Калипсо] держит волшебством коварно-
ласкательных слов ( )», стремясь истребить
в нем память об Итаке. Так же и у Гесиода ( Theog. 229): ненавистный Раздор рождает, среди прочих
персонализированных неприятностей, и Лживые Слова (τε ); и в другом месте у Гесиода
(Theog. 890) Зевс словами хитрыми или коварно-ласкательными ( ), т. е., как и Калипсо
Одиссея, обманывает Метиду.
Но со временем это отношение переворачивается: λόγος, как истинное слово, как «отчет» (то есть
утверждающее тематически свою ответственность за свою
379
достоверность, а потому слово само-утверждающее, само-раскрывающееся) начинает
противопоставляться слову rnиyow, обозначающему «придуманную историю», «поэтическое творение»,
нечто «всего лишь» переданное кем-то (Платон, Протагор 320с, 324d, Горгий 524а, Федон 61b, Тимей 22с, и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
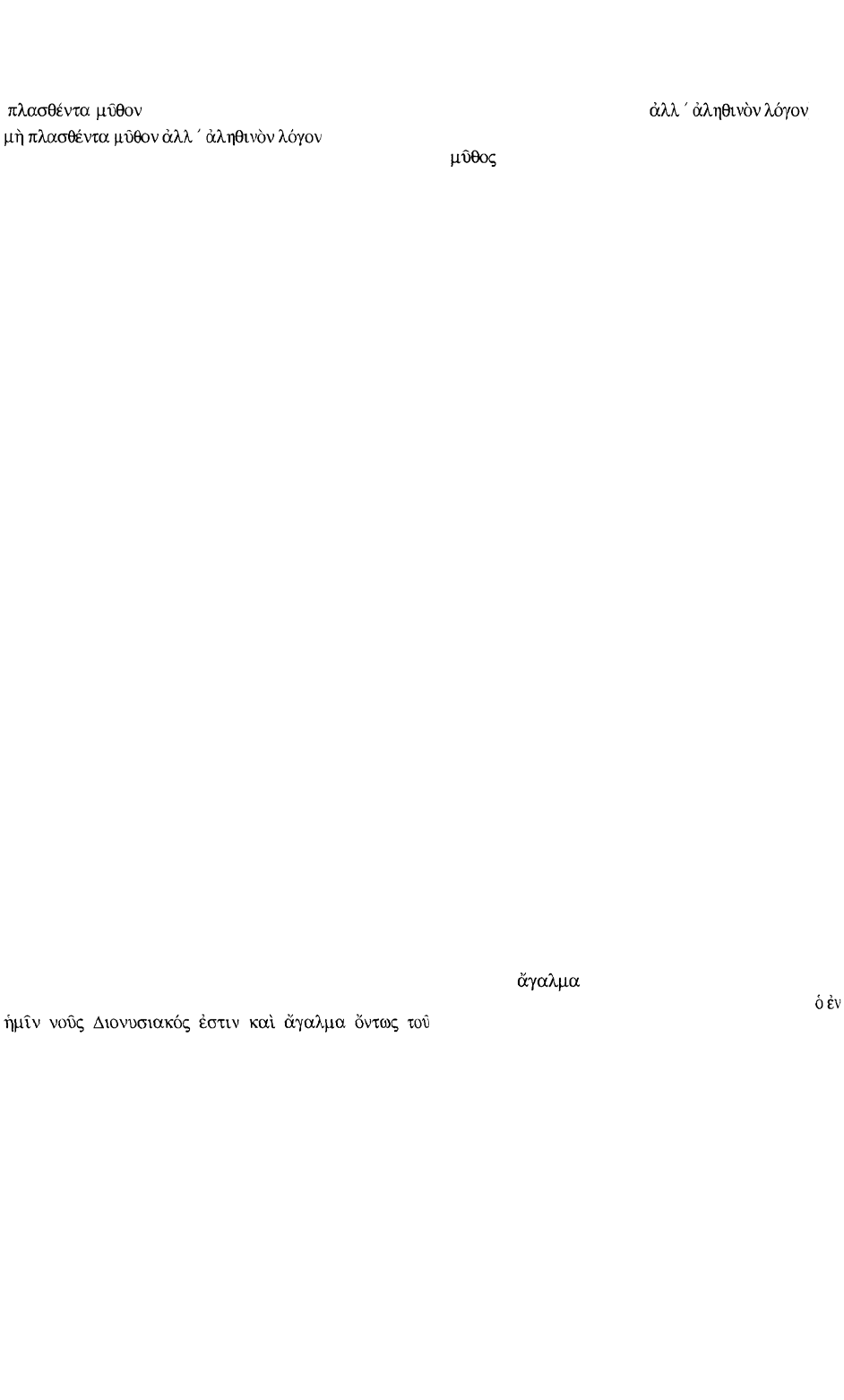
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
362-
-362
особенно Тимей 26е, где Сократ противопоставляет в одном предложении «вымышленный V/»
( ) и «правдивое слово (отчет, сказание, сказание как отчет)» ( ) —
И в то же время такая снижающая коннотация слова отражает лишь одну сторону его эволюции
внутри оппозиции «М. — логос»: оценку логосом претензий мифа на независимость от логоса. Другая
сторона этого же процесса— возвеличивание мифа над логосом, превращение М. («диахронически») и в
неизбывную предпосылку логоса, как само-осмысления, и («синхронически») в выраженость, в полноту
исполненности смысла, где о-смысление (как наделение смыслом) совпадает со смыслом (как предпосылкой
осмысления). В этом двуедином статусе М. оказывается сущим смыслом, или — что то же самое — М.
оказывается живой иконой логоса. Именно в этом двуедином статусе М. живет в диалогах Платона, находя
максимальное осуществление в самой личности Сократа.
Похвальные речи Эросу-богу, произносимые участниками Платонова Пира, являют собой, по-видимому,
чистые образцы М. как предания. С одной стороны, как предания (орфические по преимуществу), они,
казалось бы, служат лишь поводом и прологом речи Сократа — всего лишь тем контрастным фоном, на
котором логосу еще предстоит заявить о себе в подобающей ему диалогической форме: не повествованием
или гимном, а тематизацией самоосмысления, конституирующего себя как открытость иному — как
тематизираванный адресат собеседника. Но эти «досократические» речи-монологи Платонова Пира не ищут
опоры в слове собеседника, и в своей декларативности они не озабочены самообоснованием как
тематизированным самоосмыслением. В отличие же от этих речей-монологов, именно с поиска такой опоры
начинает Сократ: он начинает не с гимна и декларации, но с выстраивания своего диалога внутри —
подготовленной для него Платоном — большой диалогической композиции Пира. И он озабочен прежде
всего самообоснованием своего слова — он сам и есть воплощение тематизированного (его майевтическим
искусством) самоосмысления («познай самого себя»). С началом речи Сократа логос, казалось бы,
полностью «снимает» М. Но, с другой стороны, тотчас же и оказывается, что не логос «снимает» М., а М.
(причем М. именно орфический, М., заявителями и предвестниками которого и были эти «до-
сократические» речи) «снимает» логос. Свою энергию и свой смысл этот обстоятельно и осмотрительно
артикулирующий себя, т. е. сосредоточенный на себе самом, логос черпает из рассказа Диотимы — из
орфического М. об Эросе-демоне, о сыне Пении и Пороса, о жизни как экстатическом усилии, как той
могучей, трагической, жертвенной связи земли и неба, которая только и просветляет хтоническую тьму. И в
то же время и этот М. (казалось бы, артикулирующий последний, наиболее глубокий экзистенциальный
слой) содержит внутри себя нечто еще более глубокое. В своей последней глубине он есть опять же логос,
хотя теперь логос воплощен не в Сократе непосредственно, но в речи обращающейся к Сократу Диотимы.
Но ведь речь Диотимы и есть внутренний, т. е. мифологический, голос Сократа, она и есть его тайна — та
тайна, которую он теперь открывает своим собеседникам. И вот сама Диотима разворачивает свою речь по
законам Сократовой майевтики, обстоятельно и осмотрительно, пугающе холодно заставляет она
собеседника принять дионисийскую тайну экстатически-жертвенной сути бытия. Поскольку логос
обосновывает эту тайну, он, следовательно, и есть тайна тайны. Но ведь и это не все. За речью Сократа
следует заключающая (и тем самым — резюмирующая) Пир речь Алкивиада, уже изрядно причастившегося
«крови Диониса» и тем самым как бы пребывающего в том остраненно-комическом состоянии, когда
(казалось бы, по самому смыслу жанра «пир») речь человеческая становится и высокой, и богооткровенной.
И из речи Алкивиада делается очевидным, что Сократ, это чистое воплощение логоса, является таковым
именно потому, что он сам же и есть живая икона космического Эроса. Логос как внутренняя жизнь М.,
логос как тайна тайны М. может исполнить эту роль только в качестве живой иконы М.
«Разум в нас — Дионисов — скажет Прокл, — и он есть образ ( — слава, затем — статуя в честь
божества, и затем более общо — образ) Диониса» (
Διονύσου (Прокл, Комментарии на Платонова
Кратила, LXXXII).
С объективизацией логоса в личности Сократа смысл элеатского противопоставления «мира-по-истине»
(т. е. мира само-осмысляющего слова, логоса) и «мира по-мнению» (т. е. мира предания, мифа) радикально
преобразуется. Это уже не просто отношение «знания» (эпистемы) к «мнению» (доксе), не просто
отношение (параллельно сосуществующих и взаимно независимых) сфер высшего бытия и бытия низшего,
или, точнее, сферы бытия и сферы не-совсем-бытия; но теперь это отношение фундаментально диалогичес-
380
кое, или, точнее, телеологическое. Хотя слово «предания» (слово «мнения») теперь узаконено в своем
статусе предпосылочности, и без него слово-логос не может состояться как логос; слово «предания» тем не
менее само оказывается состоятельным только в той степени, в которой оно звучит как ответ на вопрос,
приходящий из будущего, — вопрос, заданный словом-логосом. Предание служит тому, чего в нем самом не
было и нет — объективизации своего адресата как себя тематизирующей открытости.
Будучи рассмотренными в отношении неокантианской гносеологии (сложившейся в XIX веке) и
подстилающей ее концепции абсолютной субъектности (концепции, унаследованной Новым временем от
поздне-средневековой мысли), хайдеггеровские понятия пред-понимания и понимания (как
герменевтического круга, разворачивающегося из пред-понимания) знаменуют радикальную новацию. Но в
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
363-
-363
отношении мысли Платона эти понятия представляют собой не более чем экспликацию все той же
телеологической смысловой структуры Сократовых диалогов с их оппозицией логоса и М. Логос как
понимание есть само-осмысление и потому — круг. Но этот круг не есть беспредпосылочная
самозамкнутость и самодостаточность абсолютного субъекта поздней схоластики и науки Нового времени
— субъекта созерцания, не аффицируемого созерцаемым и не втягиваемого в созерцаемую им сферу.
Напротив, сам этот круг есть форма само-осуществления (то есть само-артикуляции) логоса как пребывания
в стихии предания, где само «пребывание» осуществляется как нескончаемое усилие вхождения в предание,
«вписывания» себя в предание. Круг этот есть собственный модус бытия (собственный модус артикуляции)
логоса как открытости преданию. И (поскольку в этом круге логос утверждает себя как адресат предания)
круг этот оказывается и формулой непрерывности самого предания — формулой предания как
преемственности. Само же предание выступает как собственно пред-понимание — как отождествление с
голосом сущего, заявляющего о своем требовании быть понятым, заявляющего о своей необоснованной, но
предвечной наполненности смыслом — наполненности смыслом до того, как о-смысление наделило
смыслом о-смысляемое.
М. как феномен и есть артикуляция сферы сущего (точнее, сферы до-сущностной) как сферы пред-
понимания, той сферы исполненности смысла, которая предпосылается само-осмыслению логоса, а,
следовательно, и тому различению смысла и его выражения, которое и конституирует сферу сущего как
сущего. М. как феномен — это сфера смыслов, спрятанных своей полнейшей выраженностью. Не смыслов,
спрятанных за выражениями, за таинственными и неразгаданными зна-
ками, но смыслов, спрятанных именно своей неотличенностью от своих выражений, их
непосредственной ясностью, смыслов, утаенных их непосредственными непроблематизированным
тождеством с их выраженностью. Или, что то же самое, М. как феномен есть та сфера выраженных
смыслов, в которой не выражен адресат этих выражений, то есть не выражена та инстанция, которая
только и может отвечать за опосредование (а значит, и за проблематизацию тождества) смысла и его
выражения, за расщепление сущего на смысл и его выражение, или, точнее, за формирование сущего как
сущего — за проблематизированное единство смысла и его выражения. Само-осмысление логоса и есть
встраивание логосом себя в сферу смыслов, утаенных их непосредственной выраженностью. Но этим же
встраиванием себя логос преобразует миф (как эту сферу утаенных смыслов) в сферу сущего (как сферу
смыслов, само-адресующихся логосу).
Этим преобразованием и определяется вся трудность ответа на вопрос — «Что есть М.?» Так и возникает
своего рода «мифо-логический» принцип неопределенности. Вне контекста, заданного оппозицией «М. —
логос», нет М.а как феномена, нет самого вопроса: «Что есть М.?» Но в пределах этой оппозиции М.
преобразуется в сферу смыслов, чья само-адресованность логосу очевидна, — т. е. в пределах этой
оппозиции нет М. как М.
Но, впрочем, вопрос: «Что есть М. как М., т. е. что есть М. сам по себе?» — не мог и возникнуть, пока
европейская мысль не сформулировала для себя своей радикальной историчности, т. е. историчности,
утверждающей ответственность мысли за детерминацию своих предпосылок и своего основания. Выявление
этой радикальной историчности — и тема и содержание всей европейской культуры на рубеже XVIII и XIX
вв. Именно этот период характеризуется максимальной тематической сосредоточенностью европейской
культуры на овладении своим собственным историческим началом. Это начало — греческий космос,
живущий оппозицией «М. — логос», и, соответственно, — греческая мифология как глубинная основа этой
жизни. Но тематическая сосредоточенность на овладении своим собственным историческим началом
является и тематически выраженным отстранением от него. Раз жизнь культуры свершается как ушлые
освоения своего начала, начало это не принадлежит культуре, «естественно», безусильно. Прошлое
культуры оказывается ее будущим (т. е. тем, что еще только предстоит освоить) и, следовательно,
«потусторонним» в отношении самой культуры, которая, в свою очередь, осуществляет себя как некий
непрерывно длящийся экстатический выход в эту «потусторонность» своего
381
прошедшего будущего. Именно такая диспозиция диктует императив заглядывания за пределы,
положенные традиционным европейским контекстом оппозиции «М. — логос». Мысль обращается к «не-
нашей» мифологии, к Востоку и к архаике. Уже у романтиков М.-как-М. становится одной из основных тем,
одной из центральных проблем.
Но такое заглядывание само по себе совсем не означает, что оппозиция «М. — логос» становится
иррелевантной ответу на вопрос: «Что есть М.?» Оно также не означает, что греческой космос, как начало
европейской культуры (а с ним и тот мифологический контекст, в котором этот космос выстроен), должен
теперь потерять свой статус ее жизненного истока как неизбывно соприсутствующего прошедшего
будущего.
Отношение к М. меняется радикально лишь с утверждением «научного реализма», гордящегося своей
свободой лишь на том основании, что он представляет собой мысль, неспособную заподозрить себя в
зависимости от своей собственной метафизической генеалогии. Та радикальная историзация мысли, которая
начиная с конца XVIII и в течение всего XIX в. определяет всю историю философии и науки, зачастую
сопровождается раздвоением научного сознания и утверждением научного само-сознания как радикально
внеисторичного. Для такого самосознания объект — это не то, что поставлено перед ним усилием культуры,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
364-
-364
т. е. историей самого же этого сознания, но то, что дано ему беспредпосылочно, бесплатно и
непосредственно. Для такого самосознания нет вопроса, как вот этот объект дан, но только вопрос, как
устроен данный объект. Именно такая метафизическая ситуация складывается к середине XIX в., когда М.
становится одним из объектов научного исследования. Разумеется, и в этой ситуации логос остается сам для
себя в качестве того предполагаемого контекста, в котором только и возможно адресоваться к феномену М.
Но в своем самоосмыслении логос редуцирует себя здесь до некоторой усредненной новоевропейской
метафизики, которая, в свою очередь, принимается за нечто самоочевидное и естественное — за тот
бесплатно данный медиум, которому бесплатно же даны объекты изучения. Такое соотнесение М. со
«средне-европейской» метафизикой доминирует в научных изучениях мифа и в ХХ в. В той степени, в
которой миф осмысливается в его противопоставлении усредненной европейской рациональности, он
выступает как мышление алогическое, т. е. не совпадающее с усредненным логосом, нарушающим,
например, закон исключенного третьего (Леви-Брюль). Но когда эта же усредненная метафизика
напоминает себе о своей естественности, она надеется прозреть в М. единую для всех людей «морфологию
ума» и склонна интерпретировать миф как бессознатель-
ный логический инструмент разрешения логических же противоречий (Леви-Стросс).
Но если логика есть строй мышления-логоса, то М., конечно же, алогичен, что, впрочем, совершенно не
означает, что мышление, порождающее М. и осуществляющееся в М., абсурдно, или не соотнесено с
реальностью (что бы слово «реальность» ни означало). Алогичность этого мышления также не означает, что
оно в большей степени является порождением бессознательного (что бы это понятие ни означало — будь
оно взято по Фрейду, или по Юнгу, или по любому другому натуралисту человеческих душ), чем сознание
новоевропейское. Его алогичность заключается лишь в отсутствии того, что делает логику логикой — в
отсутствии в М. тематизации структуры опосредования. В М., взятом в его диахронном аспекте, не
тематизирован адресат повествования. В М., взятом в его синхронном аспекте, не тематизирована
активность, претворяющая М. в наличную и непосредственно данную реальность. И ни в том ни в другом
аспекте М. не представлена структура или активность, опосредующая эти два аспекта.
В плане диахронном М. есть повествование (storytelling), в котором никакой персонаж повествования не
выступает в качестве сиюминутного («вот этого») адресата повествования. В этом (диахронном) аспекте
миф отличается не только от логоса, но и от сказания религий Завета как религий Книги (что, разумеется, не
означает, что повествования религий Завета не включают в себя какие-то элементы сказаний-М.).
Логос (если рассматривать Платоновы диалоги как аутентичную форму логоса) артикулирует себя
самого в той характерной диалогической форме, в которой он сам лишь постольку выступает в качестве
персонажа, инициирующего диалог и этот диалог организующего, поскольку он сам же артикулирует себя
как адресата выразительности (т. е. как адресата артикуляции), осуществления иного. Сократ, как он сам
настаивает, не рождает истину. Его майевтическое искусство есть искусство «родовспоможения»: понуждая
своих собеседников отвечать на его вопросы, он помогает родить истину своим собеседникам.
В отличие от предания-М., но подобно Платоновым диалогам, библейское повествование также
сосредоточено на отношении слова и его адресата. Как и слово-логос, библейское слово также рефлексивно
и также тематически выражает свой собственный адресат. Библейское повествование есть письменно
фиксированное избрание и откровение, включающее в себя историю и предысторию избрания и откровения
(а значит, историю и предысторию избранников как адресата откровения) и даже историю, последующую
моменту заверше-
382
ния Писания и его передачи адресату. Как и в Платоновых диалогах, эта тематическая выраженность в
слове его сосредоточенности на отношении к тому персонажу, к которому это слово обращено (и который, в
ситуации Писания, именно этим словом вызван к жизни, к существованию в предании, в истории, вызван к
стоянию перед лицом Вызвавшего его), является основным смыслоконституирующим фактором. Но и
структурное отличие от Платоновых диалогов здесь очевидно. Не адресат Писания задает (артикулирует,
выражает в слове) свой статус как статус адресата, и, соответственно, не адресат, как и не какой-либо его
протагонист, является автором Писания. Адресат избран Адресующимся (в этом и заключается смысл
понятия откровения, и статус избранничества есть статус адресата слова-Откровения). Не слово, в котором
адресат сам же артикулирует себя как адресат, а слово, приходящее к нему из ниоткуда и приходящее
именно как слово, тематически выражающее и подчеркивающее свою обращенность к нему, тематически
наделяет его статусом адресата. Потому и естественно, что для опирающейся на Писание традиции Завета
именно Избирающий и Открывающийся является Автором Писания.
Именно поэтому, по причине тематической сосредоточенности на адресате, для сознания, движущегося в
горизонтах, заданных словом-логосом или/и словом религии Завета, непосредственно иное (т. е. та
непосредственно данная стихия, в которой это сознание живет и от которой оно себя отличает и
отталкивает) есть М. как такое предание, в котором адресат не тематизирован, или, точнее, в котором нет
«своего собственного» адресата, т. е. отличного от адресата, тематически обозначенного словом-логосом
или словом-Откровением.
Но это и означает, что миф, как предание (как передание, как со-общение) не тематизирует своей
сообщительности. М., взятый только в его диахронном аспекте, т. е. в аспекте сказания, предполагает
общение, которое в ткани самого сказания никак не тематизировано. Сообщительность, как и поскольку она
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
365-
-365
предполагается М. (как сказом), самим М. не высказывается. М. (как сказ) сам по себе никак не соотнесен с
человеком, которому он адресован, и, соответственно, с окружением человека. Это и означает, что события
мифического повествования отнесены не к «реальному», а к особому мифическому месту-времени. Та
предполагаемая, но вербально не артикулируемая (т. е. умалчиваемая мифом) сообщительность, которая
может соотнести человека и его окружение с М.-повествованием (и, соответственно, которая позволяет
мифически о-значить, о-смыслить человека и его окружение, задать место человека в отношении сказания),
— эта сообщи-
тельность может осуществляться лишь как сообщительное, т. е. коллективное, действие, соотносящее
человека с М. как повествованием. Такое коллективное действие и есть ритуал.
В философии Канта продуктивное воображение есть одна из «познавательных способностей», а именно
та, которая отвечает за априорную детерминацию пространственно-временных форм (трансцендентальный
образ и трансцендентальную схему). Поскольку в отношении живого М. именно ритуальное действие
детерминирует пространственно-временную организацию окружения человека (как адресата
повествования), аналогия с Кантовым продуктивным воображением напрашивается сама собой. Ритуал и
есть продуктивное воображение М. Ритуальное действие есть акт продуктивного воображения, но не как
способности, спрятанной в природных (или сверхприродных) тайниках души индивида, а как «способности»
коллектива, или, точнее, этот акт воображения есть публично разыгрываемое коллективное действие. Но,
разумеется, в отличие от «продуктов» Кантовой способности воображения, пространственно-временные
формы, устанавливаемые коллективным ритуальным действием, предстают не в виде алгебро-
геометрических оснований природного (в смысле «Критики чистого разума») универсума, а в форме
«матриц» непосредственной (в смысле — предпосылочной самому существованию адресата М.)
сообщительности. Ритуал устанавливает установленное, предпосылочное. Пространственно-временные
формы, устанавливаемые ритуалом как коллективным действием, — это прежде всего формы
предпосылочно зафиксированных (синхронно-диахронных) отношений родства — отношений общности,
или, точнее, отношений общностей (в смысле — общин), и, соответственно, отношений своего и иного,
нашего и чужого. Этими кровно-родственными отношениями (включая их отрицательное определение: иное
— чужое, не принадлежащее) как «априорными формами» пространства-времени (и потому
непосредственными в том же смысле, в каком непосредственны Кантовы априорные формы созерцания) и
организован окружающий человека «мир». Точнее, «мир» совпадает здесь с общностью, как в русском слове
«мiръ», означающем и Вселенную (какие бы теологически-метафизически-научные коннотации «вселенная»
ни несла), и общину, и общинную сходку. И общность эта (повторю еще раз — ритуал устанавливает
установленное, предпосылочное), формируемая только ритуализированным вхождением в нее (брачные
ритуалы, ритуалы инициации), является именно предпосылкой самого существования адресата М., —
общность эта кровно-родственная. Такой «мир» не есть
383
универсум, но кровно-родственная группа (людей и вещей, где все вещи — люди, и все люди — вещи),
соотнесенная с другими кровно-родственными группами, с другими «мирами».
Определяя место человека относительно М. как сказа, ритуал задает место человека в некоторой системе
соотнесенных кровных общностей, или (в силу непосредственности этих отношений), что то же самое,
ритуал задает некоторую систему общения относительно индивидов, вовлеченных в ритуальное действие.
Но тем самым ритуал и подготавливает место для каждого участника окружения человека, позволяя такому
участнику выступить в качестве персонажа М. Ритуал тем самым, т. е. задавая «матрицы» диахронно-
синхронных отношений, переводит М. из плана диахронного в план синхронный. Ритуал привязывает М. к
окружению человека, превращая это окружение в собственно человеческую экологию и в то же время
наделяя сам миф экзистенциальной реальностью и экзистенциальным могуществом. В этом качестве
распределителя и утвердителя ролей, предзаданных М., ритуал выступает как действие, детерминирующее
субъектность, т. е. детерминирующее статус инициатора действия. В зависимости от своей направленности,
ритуал награждает этим статусом либо тех, кто вовлечен в исполнение данного ритуального действия, либо
тех, кому оно адресовано. Но детерминация субъектности (своей, или чужой, или и своей и чужой) есть
детерминация детерминант поведения — того, что выступает как фактор, направляющий данный
поведенческий акт. И в этом смысле детерминация субъектности представляет собой детерминацию целей.
Не эмпирического выбора из желаемых объектов или состояний, но детерминацию самой диспозиции,
которая награждает объект или состояние статусом желаемого объекта или желаемого состояния —
статусом фактора, мотивирующего и направляющего мои действия. Ритуальная активность, как
продуктивное воображение М., представляет собой, следовательно, аналог того, что Кант мог бы назвать
трансцендентальным аспектом акта целеполагания (другими словами, говоря в терминах третьей Критики,
ритуал есть «рефлективная способность суждения» М.).
Как всякая целеполагающая активность, ритуал может быть понят как неслиянное и нераздельное
сплетение аспектов causa finalis (т. e. аспекта, в котором субъект действия выступает как собственный
детерминант действия) и causa formal is (т. e. аспекта, в котором иное, например предмет, на который
направлено действие, выступает как собственный детерминант действия). И все же вполне очевидно, что эти
аспекты по-разному тематизированы в разных ситуациях. Напри-
мер, ритуалы инициации (как ритуалы посвящения! несут отчетливо выраженную характеристику
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
366-
-366
детерминации causa finalis, т. e. самого адресата сказания-М. — они определяют вписанность индивида в
мир-предпосылку и тем самым его партиципированность М. Но ритуалы охоты явно служат не для того,
чтобы поместить человека в мифически сформированный мир, но для того, чтобы в этом мире охота вообще
могла бы состоятся. Ритуал охоты может разыгрываться, например, с целью убедить предков «прислать»
объект охоты, обеспечить его наличие. Такой ритуал буквально призван обеспечить предметное наличие
цели охоты, т. е. он есть собственно «трансцендентальная» составляющая целеполагания самого процесса
охоты как коллективного предприятия.
Ритуал, как «индуцируемая» М. активность, задающая предпосылку М., т. е. задающая пространственно-
временные формы М. как предпосылочные формы общности, и есть единство диахронного и синхронного
аспектов М. — М. как сказа и мифа как экологии человека. М., привязываемый ритуалом к окружению
человека, артикулирует это окружение, выделяя его составляющие в качестве персонажей и тем делая их
значимыми. Ритуал, привязывая М. к окружению человека, превращает миф-сказание в М.-текст — в мифо-
экологию человека.
Такая формулировка отношения М. и ритуала не предполагает, как это полагает Леви-Стросс, что
отношение это устанавливается (прямо или через редукцию к базисным структурным оппозициям) как
структурные гомологии или комплементарности. Эта формулировка также не предполагает, что ритуал
вторичен в отношении мифа (Леви-Стросс) или что он даже представляет собой не более чем
инсценирование М. Не предполагает эта формулировка и противоположного, а именно, что М.-сказ есть
феномен вторичный — вербальное отражение отмирающего ритуала (Фрезер). Эта формулировка также не
предполагает, что М. есть обязательно сказание этиологическое в отношении данного ритуала. Поэтому
отсутствие этиологического М., как основания ритуала, не означает наличия ритуала в отсутствие М. Как
акт продуктивного воображения М., ритуал не может служить ничему иному, как задаванию некоторого
видения, некоторой непосредственности, т. e. M. как наличной данности, как текста-экологии. И обратное
вряд ли возможно — вряд ли возможен и М. без ритуала. Конечно, ритуал (т. е. коллективное действо —
обобщение как действо обобществления) может представляться «невидимым» именно по причине его
снятости в практике (его вплетенности в эту практику) «социального строительства», т. е. в
непосредственном конституировании социальных
384
структур — возрастных групп, брачных отношений, семьи, отношений родства и т. д. Но это не означает,
что реальное функционирование М. как М. возможно без ритуала.
Ритуал — это не форма осмысления, комплементарная осмыслению в М. Не является он и выражением
«другим языком» того, что осмыслено и выражено вербально в М.-повествовании. Отношение М. и ритуала
— это, скорее, отношение между осмыслением и задаванием условий, на которых нечто получает право
выступить в роли осмысляемого, условий, на которых нечто являет себя, предстает в своем «истинном
свете». Скорее это отношение понимания и пред-понимания, где последнее означает не столько некий модус
смутного понимания, сколько активность, обеспечивающую предстояние того, что должно быть понято.
Разумеется, аналогия отношения М. и ритуала с отношением понимания и пред-понимания имеет смысл
лишь при условии, что сами мы понимаем это мифическое речевое понимание-обобщение как
социализацию понимаемого, опирающуюся на практическую активность обобществления (инициация, брак,
охота, и т. д.).
Библиография
1. Schelling F.W. Einleitung in die Philosophie der Mythologie. Sämtliche Werke. 2 Abt. Bd 1.
Stuttgart — Augsburg, 1856; Schelling F.W. Philosophie der Mythologie. Bd 2. Stuttgart, 1857;
(Schellings Werke. Auswahl, hersg. Von O. Weis. Bd 3. Leipzig, 1907.)
2. Frazer J. Golden Bough. vol. I-XII. 3 ed. London, 1907-1915; русский сокращенный перевод —
Фрезер Дж. Дж. Золотая Ветвь: Исследования магии и религии. М., 1980.
3. Malinowski В. Myth in Primitive Psychology. London, 1926.
4. Cassirer E. Philosophie des symbolischen Formen. Zweiter Teil. Berlin, 1925; Кассирер Э.
Философия символических форм: 8 3 т. М.-СПб., 2002.
5. Лосев А.Ф. Диалектика Мифа // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
6. Лосев А.Ф. Очерки Античного Символизма и Мифологии. М., 1993.
7. Luvy-Bruhl L. La surnaturel et la nature dans la mentalité primitive. Paris, 1931; Les fonctions
mentales dans les sociétés inférieures,
9 ed. Paris, 1951.
7. Jung С. G., Kerйmyi K. Einführung in das Wesen der Mythologie. 4 Aufl. Zurich, 1951.
8. levy-Strauss С. The Structural Study of Myth // Journal of American Folklore. Vol. 68, 270. P.
428 - 444.
9. Туровский M.Б. Первобытный коллектив и индивидуум // M. Б. Туровский. Предыстория
Интеллекта. М., 2000.
10. Сильвестров В.В. Мифолого-религиозные предпосылки и диалектический смысл
современной культуры; Основные этапы мифологически традиционного самосознания
деятельности // Сильвестров В.В. Культура. Деятельность. Общение. М., 1998.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
367-
-367
Черняк Л.C.
МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ (к позиции 3.2)
Мораль является важнейшим неформальным регулятором социального поведения и одной из главных
этических категорий. В отличие от прочих правил и социальных норм, моральная оценка всегда
предполагает оценку поступка с позиций добра или зла. Например, человек, сидя на светском банкете,
может неверно пользоваться вилкой и ножом. Очевидно, что это будет нарушением существующих в этой
группе норм этикета, однако даже самый строгий хранитель традиций вряд ли увидит в этом аморальный
поступок. Таким образом, в отличие от социальных норм, которые могут сильно отличаться друг от друга в
различных группах и кругах в пределах одного общества, моральные нормы, будучи связаны с
доминирующей культурой, носят более устойчивый и общий характер.
Мораль и нравственность.
Эти категории являются очень близкими, взаимосвязанными, и нередко употребляются как синонимы.
Однако большинство ученых сходится в том, что различие этих категорий носит принципиальный характер
и позволяет более рельефно описывать поведение человека. В решении вопроса об их различии существуют
два основных подхода. Согласно первому, восходящему к Канту (1724 — 1804), М. представляет собой
внутренние убеждения человека («моральный закон»), тогда как Н. является практической реализацией этих
принципов, действием на их основании в реальной жизни («нравственный поступок») [2:183]). Несколько
иной подход к решению этой проблемы восходит к Гегелю (1770-1831), для которого важнейшим признаком
моральных принципов являлась их опора на собственные, самостоятельные размышления человека о добре
и зле. В противоположность им нравственные нормы носят надындивидуальный характер, являются, говоря
современным языком, элементами коллективного сознания и ориентированы, соответственно, лишь на
внешнее содержание поступков человека. Таким образом, с точки зрения Гегеля, если нравственное
сознание (или его прообраз) существует в любом обществе, то моральное сознание, а соответственно и
моральная оценка поступков, возникает на определенном, причем весьма высоком этапе развития
человечества. Одним из первых провозвестников морального сознания Гегель считал Сократа («До Сократа
афиняне были нравственными, а не были моральными людьми, ибо они делали то, что требовалось при
данных обстоятельствах» [3:36]).
Тем не менее общим для обоих подходов является то, что моральность так или иначе связывается с
внутренними принципами человека, тогда как нравственность касается неких внешних действий и
поступков.
385
Поэтому можно сказать, что посредством М. общество оценивает не только поступки людей, но и их
мотивы и намерения.
Особую роль в моральной регуляции поведения человека играет формирование в каждом индивиде
способности самостоятельно оценивать свои поступки, т. е. быть способным к саморегуляции. Одна из
важнейших этических категорий, неразрывно связанных с М. — совесть, выражающая собой способность
личности к моральному самоконтролю, являющаяся высшим внутренним судьей человеческих поступков.
Возможно ли уйти от этого внутреннего суда? На первый взгляд нет ничего проще — ведь все, что
находится внутри человеческого «Я», казалось бы, должно быть ему подвластно. Однако Канту
принадлежит знаменитое учение об объективности совести, суд которой при определенных обстоятельствах
оказывается неотвратим. Эта великая мысль, облаченная в художественную форму, оказалась лейтмотивом
большинства произведений Достоевского. В учении о совести Кант одним из первых обосновал наличие в
человеческом «Я» неких феноменов, с одной стороны, являющихся всецело идеальными и, в этом смысле,
не существующими вне этого «Я», однако, с другой — в своем функционировании совершенно
независимыми от произвола субъекта и потому не просто не подвластными ему, а, напротив,
выступающими в качестве объективных детерминант его поведения. Именно в русле данного подхода
возникнут в XIX в. фундаментальные учения о сознании, например такие, как марксизм (см.: Товар, II) и
фрейдизм, которые ознаменуют формирование совершенно нового (неклассического) идеала
рациональности.
Тем самым мы логично переходим к обсуждению следующего вопроса — об объективности этических
норм.
Проблема объективности моральных и нравственных норм.
Это — один наиболее трудных вопросов всех этических теорий. Действительно, в отличие от изучаемых
различными науками позитивных законов объективного мира, действующих независимо от воли и желания
людей, все этические законы являются императивами (по-другому — нормативными законами), т. е.
указывают на то, как должно поступать человеку. Следовательно, эти законы, по определению,
предполагают возможность их нарушения. Значит, наблюдение за реальными фактами окружающего мира
ничего не может нам сказать относительно истинности или ложности этических правил и норм, а их
изучение оказалось бы уже не теорией этики, но ее социологией, к такому научному исследованию
нравственности неоднократно призывал один из классиков социологии Дюркгейм [9:47-48] Однако в
данном случае можно
определить их истинность. Имеем ли мы вообще в сфере этики дело с чем-то действительно
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
368-
-368
объективным или же основу любых нравственных и моральных оценок составляют произвольно и случайно
сформулированные принципы и критерии? Другими словами, должно ли в этой сфере любое убеждение
каждого человека являться единственным мерилом или же люди могут опираться в оценках своих поступков
на что-то высшее, объективное и абсолютное?
Наиболее простое решение этого вопроса базируется на обращении к авторитету религиозных учений, в
каждом из которых существует то или иное учение о праведном образе жизни. Более утонченное решение
этого вопроса основывается на так или иначе обосновываемом постулате о врожденности человеку
основных этических принципов (Сократ, Платон, Декарт и проч., см.: Позиция 3.2: Культура как
рефлексивная система, I). Весьма близок к этому подходу был и Кант, обосновавший наличие в любой
человеческой душе «морального закона» и считавший его столь же объективным и человеческому
произволу неподвластным, как «звездное небо над головой». У подобной точки зрения существует немало
сторонников и по сей день.
Другой, идущий еще от греческих софистов, подход усматривал во всех нравственных принципах лишь
более или менее удачные находки человечества, полезные с точки зрения организации общественной жизни,
но не более того. Так, например, принцип «не убий» сам по себе лишен какой-либо объективности, однако
общества, исповедующие этот принцип, являются более жизнеспособными в борьбе за существование.
Казалось бы, данная позиция является весьма привлекательной и, главное, лишенной основного
недостатка объективистских теорий — необходимости апелляции к метафизическим постулатам
(бессмертию души, бытию Бога и его всеблагости и т. д.). В рамках этой концепции с этических норм
всецело снимается какой-либо налет мистицизма, ибо их формирование осуществляется самими людьми, а
затем они передаются из поколения в поколение посредством различных механизмов социализации и
воспитания (см.: Воспитание, II). Не случайно, что именно этому подходу отдают предпочтение не только
многие философы, но и большинство представителей социологической науки. Однако замена объективности
и даже священности этических норм их «удобством» оказывается весьма не безобидной процедурой, ибо
этические нормы требуют подчинения себе в любых ситуациях, в том числе и в ситуациях «жизни и
смерти». Станет ли человек отдавать жизнь во имя принципов, являющихся лишь полезной конвенцией?
Испил бы чашу яда Сократ, считан
386
он принципы справедливости не более чем удобными соглашениями, не имеющими объективного
статуса ни в мире людей, ни в мире богов?
Одной из разновидностей этой концепции является классовый подход к объяснению реальности
этических правил и норм, возникший, в частности, в некоторых ответвлениях марксизма. Хрестоматийной
здесь является работа Л.Д. Троцкого «Их мораль и наша», в которой вообще отрицается возможность
существования некоей «общечеловеческой», «бесклассовой» М., ибо, с точки зрения этого автора, любые
моральные нормы так или иначе выражают интересы исповедующих их социальных групп [8].
Проблема морального идеала
Проблема объективности этических правил и норм тесно связана с другим фундаментальным вопросом
— вопросом о моральном идеале. Возможно ли в реальном мире жить, полностью соответствуя требованиям
высших моральных принципов, или же такая жизнь является недостижимой? На этот счет также
существуют различные мнения.
Древние стоики (IV-I вв. до н. э.), например, считали этический идеал осуществимым и даже создали
целое учение о мудреце, достигшем этого состояния. Этот мудрец должен жить, всецело руководствуясь
собственными принципами, следование которым не может быть нарушено никакими внешними
обстоятельствами, и именно такая позиция может ему обеспечить подлинную свободу. Отсюда знаменитый
афоризм этой школы: «Мудрец свободен даже в цепях». Примером такого мудреца стоики считали Сократа
[1:665].
Более поздние авторы были осторожнее в подобных утверждениях. Так, например, Кант принципиально
отрицал возможность полной реализации в жизни этического идеала. Более того, именно с ощущением
принципиальной недостижимости для обычного человека диктуемого этим идеалом образа жизни Кант
связывал возникновение у людей представления о Богочеловеке, который только и оказывается способным к
полной реализации этического идеала.
Однако недостижимость идеала отнюдь не умаляла в глазах Канта и других философов его значимости в
жизни человека. Вот как объяснял эту значимость известный русский экономист и историк социальной
мысли М.И. Туган-Барановский: «Всякий идеал, — писал он, — содержит в себе нечто неосуществимое,
бесконечно далекое и недоступное... Осуществленный, или, что то же, осуществимый, идеал потерял бы всю
свою красоту, всю свою особую притягательную силу... Идеал играет роль звезды, по которой в ночную
пору заблудившийся путник выбирает дорогу; сколько бы
ни шел путник, он никогда не приблизится к едва мерцающему, удаленному на неизмеримое расстояние
светилу. Но далекая, прекрасная звезда верно указывает путь, и ее не заменит прозаический и вполне
доступный фонарь под руками. Если идеал можно сравнить со звездой, то наука играет роль фонаря. С
одним фонарем, не зная куда идти, не выйдешь на истинную дорогу; но и без фонаря ночью рискуешь
сломать себе шею. И идеал, и наука в равной мере необходимы для жизни» [6:85-88].
Тем не менее расхождения гегельянцев и кантианцев касались и этой проблемы. В утверждении Канта и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
369-
-369
его последователей о принципиальной недостижимости этического идеала Гегель вскрыл целое «гнездо
противоречий и антиномий». Прежде всего, возможно ли ожидать от человека серьезного отношения к
задаче, которую он никогда не сможет решить? Ведь, вступая в этическую сферу, мы должны не забывать,
что принципы, задаваемые этой сферой, предполагают не просто свое абстрактное принятие, а требуют
действий на этой основе, причем действий, от которых вполне может оказаться зависимой сама жизнь
человека. Неужели же человек будет жертвовать жизнью ради цели, которая в принципе не может быть
достигнута? Притом ориентация на недостижимую цель высшего Блага обесценивает в конечном итоге
реальные поступки человека и то реальное добро, что может быть реализовано (достигнуто) через их
посредство. Это противоречие Гегель формулирует следующим образом: «Так как должно быть выполнено
общее благо, то поэтому не делается ничего доброго» [5:282]. Не менее противоречивым выглядит и итог
моральной деятельности, т. е. само высшее Благо. Как и в любой борьбе, победа является конечной целью,
после чего борьба должна прекратиться. Но поскольку моральная деятельность существует лишь при
условии противостоящего неморального мира, то абсолютная цель состоит в том, чтобы моральная
деятельность вовсе не существовала. «Следовательно, для него существует только это промежуточное
состояние несовершенства, т. е. такое состояние, которое в лучшем случае должно быть только
прогрессивным движением к совершенству. Однако оно не может быть также и этим прогрессивным
движением, потому что прогресс в моральности был бы движением к ее гибели» [5:283]. Наконец, если все
промежуточные состояния составляют несовершенную мораль, которая по высшим меркам вообще не
может способствовать достижению высшего Блага, то она и вовсе не является моралью, и, соответственно,
постулируемое Кантом посмертное блаженство получается исключительно из милости, а вовсе не по
достоинствам и заслугам [5: 273-287; 7: 309-315]. Именно поэтому Ге-
387
гель противопоставляет моральности точку зрения нравственности (во введенном выше смысле этого
слова), которая рассматривается им как более высокое формообразование духа и определяется как
«субстанция, знающая себя свободной, в которой абсолютное долженствование есть в такой же мере и
бытие» [4:339].
Нравственность, таким образом, есть реализация свободы, манифестация ее силы, в то время как в
моральности мы имеем дело лишь с требованием свободы, которая оказывается бессильной преодолеть
противостоящий ей несвободный мир. Но очевидно, что этому статусу соответствует лишь та система
нравственности, основу которой составляют высшие принципы разумности и добра. Когда же в таком
случае будет достигнуто данное состояние? Когда возникнет общество, в котором будет господствовать
разумная система нравственности, и, соответственно, будет реализовано высшее благо? Что должно для
этого произойти в мировой истории, которая по достижении этого состояния будет завершена? Быть может,
будет достаточно, если человек, осознав этот идеал, воплотит его в жизнь посредством собственной
социальной деятельности? Но хватит ли могущества человека, чтобы идеал был реализован его
собственными силами? Ведь как раз Кант показал, что в полной мере человек может отвечать лишь за свои
намерения, тогда как их результат всегда оказывается зависим от бесчисленного множества обстоятельств,
контроль за которыми не может быть в полной мере доступен ограниченным возможностям человека, а
может быть по силам лишь всемогущему Творцу. Эти, равно как и ряд других соображений вынудили
Гегеля связать достижение идеала с деятельностью Бога, реализующего собственную цель через
деятельность человека, преследующего лишь свои частные цели и не ведающего об их истинных
результатах. Именно потому не человек, а Бог в этой философской концепции является подлинным
субъектом истории. Но отсюда вытекал и неизбежный вывод Гегеля: адекватное осознание идеала
возможно лишь в момент его реализации, т. е. в конце истории — в противном случае человек, а не Бог стал
бы ее подлинным творцом. Это осознание совершилось в его собственной системе, следовательно, история
завершена, а идеал реализован в современной Гегелю немецкой действительности. Как известно, именно
данный вывод вызвал наибольшее число нареканий в адрес философа.
Очевидно, что на кризисе гегелевской философии отнюдь не завершилось развитие этической мысли.
Напротив, неклассическая философия, возникшая на обломках двадцати пяти веков рационалистической
традиции, радикально по-новому поставила фундаментальные этические проблемы. Однако классический
анализ категорий морали и нравственности, равно как и иссле-
дование возникающих в связи с ними парадоксов и антиномий, был дан именно в немецком идеализме
конца XVIII - первой трети XIX в., в силу чего наше рассмотрение мы можем завершить именно на данном
пункте.
Библиография
1. Эпиктет. В чем наше благо? // Мыслители Рима. Наедине с собой. М. - Харьков, 1998.
2. Кант. Критика практического разума. СПб., 1995.
3. Гегель. Лекции по истории философии. Т. 2. СПб., 1994.
4. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977.
5. Гегель. Феноменология духа. СПб., 1912.
6. Туган-Барановский М.И. Утопический социализм // Туган-Барановский М.И. К лучшему
будущему. М., 1996.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
370-
-370
7. Фишер К. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. Первый полутом. М.-Л., 1933.
8. Троцкий Л. Их мораль и наша. М., 1991.
9. Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.
Сорвин К.В.
МЫШЛЕНИЕ (к позиции 3.1)
М. — способность каждого индивида Homo sapiens к субъективно мотивированному целесообразному и
произвольному преобразованию культурного (всеобщего) смысла любого предмета восприятия и памяти, а
тем самым — и к порождению новых его значений и смыслов.
Как способность индивидов Homo sapiens M. генетически не наследуется, а с момента рождения
человека формируется общением с близкими взрослыми на основе уникальной особости видовых
«программ» его жизнеобеспечения — генетического «нацеливания» всех жизненных сил новорожденного на
ориентацию в мире смыслообразующего общения людей.
Как абстрактная возможность, она подготовлена эволюцией всех форм активности высших животных;
как витальная потребность предопределена антропогенезом (генотипом человека); как умение человека
целесообразно и произвольно управлять поведением других людей и своим собственным поведением, она
формируется в онтогенезе активным (жадным) присвоением новорожденным обращенных к нему
аффективно-смысловых компонентов человеческой речи. В них и через них он присваивает в качестве
первой реальности своего человеческого бытия всю полноту эмоциональной смыслообразующей речи
людей. А тем самым — и всю полноту ее органичной целостности: звучно-изобразительной непрерывности
означивания и аффективного наполнения собой каждого своего дискретного элемента.
Смыслорождающая аффективная речь как объективная реальность М. возникает и живет лишь в актах
общения людей. Отсюда:
388
M. возникает и реализует себя во всех случаях обращения каждого индивида Homo sapiens к другим
людям и к себе самому.
И только в них. Как психический феномен, М. изначально нацелено на обретение аффективно
осмысленного согласия с другими людьми, обеспечивая при этом органичное единство и целостность всех
способностей и процессов психики человека, реализуемых именно как целостность ее познавательной
креативностью.
Как субъективно мотивированное, нацеленное на понимание преображение культурного (всеобщего)
смысла любого предмета восприятия и памяти, М. превращает восприятие каждого человека в акт
целесообразного, аффективно-смыслового формообразования. А все психомоторные возможности
запоминания и памяти автоматически включает в реализацию способности воображения, подчиняя и их этой
ведущей силе субъективной мотивации всех осмысленных способов и форм бытия человека.
При этом следует иметь в виду, что обращение людей друг к другу и к себе — видообразующая
потребность и способность всех индивидов Homo sapiens, ибо как вид и индивид Homo sapiens физически
выживает лишь при общественном воспроизводстве средств жизни своей общности, что возможно лишь при
целесообразном и произвольном содействии людей, которое, в свою очередь, требует их сочувственного
взаимопонимания. Единственным средством достижения такового служат субъективно мотивированные
обращения людей друг к другу, а при этом — и к самим себе. Непрерывность обращений человека к самому
себе формирует самосознание индивида Homo sapiens, а следовательно, и его сознание.
Под обращениями людей друг к другу и к самим себе — иными словами, под каждым актом М. —
следует понимать не только вербальные, изобразительные и музыкальные формы речи, но и все мыслимое
— все, что создано людьми и ими же воспринято как предмет осмысления, все материально вещное: орудия
труда и всю технику, здания, дороги, хранилища и т. д., и т. п. И вся осмысляемая людьми природа
воспринята через и как обращение людей друг к другу. Поэтому все в окружающем нас мире и сам мир как
целое воспринято и всегда воспринимается заново как внутренне нам присущее, как исходно человечное и
свое родное, как голос собственной чувственности. Смыслы (идеи) всего того, что, казалось бы, навеки
застыло в своем материале, обращены ко всем людям так же целенаправленно и произвольно, как и голос
собеседника. Отсюда следует:
М., по определению, — аффективное смыслообразование.
Как атрибутивная способность человека М. само определяет себя интенциональным тождеством эмоций
и смысла — единым смыслонесущим аффективным мотивом обращения людей к субъективности друг друга
и к своей собственной субъективности. Любая форма обращения человека к другим людям и к себе самому
изначально образована его пространственными воплощениями в одновременно звучащих, изобразительных,
пластичных, двигательных образах внешнего действия.
Признание отличия вербального мышления от эмоционально-образного в качестве изначального их
определения, как и их отличия от мышления музыкального и предметно-практического, — это всего лишь
историческая иллюзия, рожденная историей общественного и профессионального разделения,
дифференциации и социального обособления деятельностей. В каждой из них мышление несет в себе все
четыре свои ипостаси, но с преобладанием одной из них.
Первичная историческая и культурная обособленность родовых общин, племен, а затем и народов с их
этнически разными языками общения долгое время сохраняла в ритуалах и мифах их жизни естественную
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
