Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
391-
-391
Именно со вскрытия данного противоречия начнется критическое преодоление кантовской философии и
методологии многими авторами, в том числе
Гегелем. Вот как он формулирует основную ошибку своего предшественника: «Критическая философия
требовала, чтобы раньше, чем приступить к познанию, мы подвергли исследованию способность познания.
Здесь, несомненно, заложена верная мысль, что мы должны сделать предметом познания сами же формы
мышления. Но здесь же прокрадывается ошибочная мысль, что мы должны познавать до того, как
приступим к познанию, что мы не должны войти в воду раньше, чем научимся плавать» [4:154]. Другими
словами, Р. сама является «законной» мыслительной деятельностью, исследование законов человеческого
познания само уже является познанием и ничуть не в меньшей степени, чем любая иная форма познания,
требует своего рефлексивного осмысления. Однако нетрудно понять, что такой подход, с одной стороны,
безупречен, а с другой, будучи воспринят непосредственно, без каких-либо изменений фундаментальных
методологических установок, приводит к регрессу в «дурную бесконечность»: рефлектирующее мышление
само должно быть подвергнуто Р., которая, в свою очередь, требует для себя Р. большего порядка и т. д.
Методологические изменения, введенные представителями посткантовской философии и получившие
свое наиболее последовательное и многоплановое развитие в учении Гегеля, были, с одной стороны,
принципиальны, с другой — в полной мере соответствовали фундаментальным принципам
трансцендентализма. Действительно, если исходить из собственной позиции Канта, согласно которой
теоретически строго (аподиктически) познать субъект может лишь то, что создано его собственной
креативной деятельностью, то и мышление человека может быть теоретически познано (подвергнуто Р.)
лишь в акте его самосозидания и самосотворения. Таким образом, подлинно Р. д., способная подвергнуть Р.
и самое себя, оказывается не просто познавательным процессом, а процессом самопорождения самого
мышления. Поскольку это самопорождение предполагает, что на каждом этапе своего движения мышление
оказывается не вполне тождественным самому себе, чем-то таким, что с неизбежностью переводит себя в
новую определенность, гегелевская методология становится диалектичной по определению (см.:
Диалектика, II).
Однако здесь-то и начинаются фундаментальные проблемы, не позволившие гегелевской методологии и
тяготеющим к ней подходам занять монопольные позиции в сфере теории рефлексии. Ведь само себя
порождающее и через это рефлектирующее мышление оказывается абсолютно замкнутым, в принципе не
способным воспринимать что-либо извне, а значит, несовместимым с кантовской «вещью в себе». Следова-
411
тельно, сама познавательная деятельность оказывается возможной только в том случае, если эта
деятельность является в той или иной форме непосредственно связанной с онтологическим основанием
мира — например, с Богом, бытие которого в этих учениях приходится постулировать с неизбежностью. По
такому пути и пошли виднейшие представители посткантовской немецкой философии классического
периода: Фихте, Шеллинг и Гегель. В фундамент каждой из этих систем полагалась та или иная форма
Богочеловеческого единства, в результате чего утрачивались едва ли не главные преимущества кантовской
философии — полное безразличие гносеологии к онтологии, а также возможность исследования
эмпирически данных форм интеллектуальной деятельности человека без обращения к метафизическому
вопросу об их предельных основаниях. В этих системах определенные онтологические постулаты и
допущения вновь, как и в учениях классической метафизики, становились необходимым условием
существования гносеологии. Поэтому, хотя методологические основания последних были принципиально
рефлексивны, у кантиански ориентированных критиков появлялись все основания упрекать представителей
новой традиции в возрождении прежней метафизики. И именно эта метафизичность в конечном счете
перекрывала возможность плодотворного взаимодействия диалектической посткантовской Р. философии с
наукой, которая, как и прежде, стремилась к эмансипации от каких-либо обращений к метафизическим
сверхчувственным постулатам (Бог, бессмертие души и т. д.).
Так что не стоит удивляться тому, что В. Виндельбанд, более полувека спустя после формирования
основных систем немецкой классической философии, предрек именно кантовскому учению чуть ли не
двухтысячелетнее господство в человеческой культуре. Потенциал кантовского подхода был огромен,
внутренние противоречия его методологии обнаруживались только при очень глубоком анализе, а
отсутствие в гносеологических разделах метафизических утверждений оказывалось очень органичным в
ситуации усиливающейся профессиональной разделенности и специализированности как социальных, так и
естественных наук. Именно поэтому идея автора знаменитых критик извне исследовать налично данные
формы интеллектуальной активности человека, отказавшись при этом от универсалистских системных
построений, неоднократно всплывала в последующие два столетия. Так, в середине XIX столетия
одностороннее развитие этих принципов привело к формированию контовского позитивизма, несколько
позже — уже на рубеже XIX-XX вв. — к возникновению неокантианского
противопоставления «наук о природе» «наукам о духе». Примерно в тот же период стали формироваться
такие направления, как философия и социология науки, фрейдовский психоанализ и т. д. Несмотря на явное
различие и даже противоположность этих направлений, всех их объединяло одно: внешнее по отношению к
изучаемой интеллектуальной деятельности положение рефлектирующего ее исследователя и,
соответственно, его принципиальная неспособность отрефлектировать свои собственные априорные
построения. Таким образом, упомянутый выше гегелевский упрек в адрес Канта оказывался принципиально
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
392-
-392
невоспринятым представителями этих направлений, и неудивительно поэтому, что такая позиция приводила
к принципиальному отказу от каких-либо претензий на новаторства в онтологической сфере. Закономерно и
другое: превратив Р. в искусственную, внешнюю процедуру, представители данных направлений вполне
естественно утратили само понятие Р. в строго научном смысле этого слова.
В то же время нельзя не отметить и серьезных изменений, произошедших в ХХ в. в самом отношении к
Р.д. Если ранее исследование и разработка рефлексивной методологии являлось практически монопольной
прерогативой философии, то в последнее столетие серьезные проблемы Р. начинают привлекать внимание
представителей самых разных научных и даже прикладных сфер человеческой деятельности. Этот процесс
был вызван несколькими причинами. Во-первых, фундаментальными сдвигами в естествознании,
вызванными формированием теории относительности, квантовой механики и — несколько позже —
синергетики. Во всех этих теориях в тех или иных формах происходил отказ от характерной для
классической механики жесткой субъект-объектной оппозиции и, соответственно, предлагались различные
формы рефлексивной связи субъекта и объекта. Во-вторых, параллельно с изменениями мировоззренческих
и методологических установок естествоиспытателей, аналогичные сдвиги происходили и в рамках
социальных наук. Если для социально-экономических теорий XVIII-XIX вв. характерной была явная или
неявная ориентация на методологические принципы естествознания (см.: Позиция 3.2: Культура как
рефлексивная система, I), то на рубеже XIX-XX вв. В полной мере развертывается процесс теоретического
осознания специфики социального знания. Этот процесс начинается и достигает наиболее ощутимых
результатов в рамках социологической науки (Виндельбанд, Риккерт, Вебер) и истории (Дильтей), однако
постепенно, к концу века, охватывает собой и сферу экономического знания. Так, известный современный
фи-
412
нансист Дж. Сорос в книге с характерным названием «Кризис мирового капитализма» писал:
«Наилучший способ защититься от злоупотребления научным методом (имеется в виду метод классической
науки. — КС.) состоит в признании того, что общественные теории могут оказывать влияние на предмет,
который они описывают.... Чтобы понять финансовые рынки и макроэкономические события, нам
необходима новая парадигма. Нам необходимо дополнить теорию равновесия концепцией рефлексивности»
[4:39, 47]. Более того, в этой работе кризисные процессы, наметившиеся в конце ХХ в. в мировой
финансовой системе, в первую очередь связывались с отсутствием в арсенале современной экономики
исследовательской методологии, адекватной принципиально рефлексивному статусу экономической
реальности. Соответственно, с разработкой такой методологии данный автор связывал не только успешное
функционирование мировой экономической системы, но и вообще выживание человечества в условиях
глобального мира.
Однако подобное проникновение рефлексивной проблематики в сферы человеческой деятельности,
традиционно не связанные непосредственно с философией, происходило не только на уровне макротеорий.
Одним из интереснейших явлений второй половины ХХ в. явилась разработка в СССР особой системы
организации рефлексивной мыслительной деятельности на уровне малых и средних групп, получившая
название организационно-деятельностной игры (ОДИ). Разработка этой концепции традиционно
связывается с именем Г.П. Щедровицкого. В концепции Г.П. Щедровицкого Р. рассматривается в качестве
важнейшего инструментария реализации любых форм креативной деятельности человека — начиная от
проектирования и управления и кончая высшими сферами теоретического познания. Любая мыслительная
деятельность может быть и должна быть сознательно организованной, причем в основе этой организации
должна лежать специально разработанная теория Р. которая начинает здесь рассматриваться в качестве
важнейшей прикладной дисциплины. Разработку именно такой теории Р. д. и ставили перед собой прежде
всего Г.П. Щедровицкий и его школа.
Первоначально основы этой теории разрабатывались в рамках семинаров Московского
методологического кружка. В конце семидесятых годов происходят первые попытки применения
разработанной теории на практике, в этот же период возникает и само название новой формы мыслительной
деятельности — «организационно-деятельностная игра» (далее — ОДИ). Как отмечает биограф Г.П.
Щедровицкого A.A. Пископпель, «в отличие от традиционных дело-
вых и учебно-деловых игр содержанием ОДИ стало ... не усвоение знаний и готовых форм деятельности,
а решение проблем. И в то же время, в отличие от самого семинара, это были уже не методологические, а
предметно-ориентированные проблемы, и решали их не непосредственно методологи, а специалисты-
профессионалы, соорганизуемые методологами» [11:16]. В этот же период формируются основные
принципы ОДИ, а также общая схема их проведения.
Любая организационно-деятельностная игра имеет следующий сценарий, задающий, соответственно, и
ее структуру. Прежде всего ОДИ предполагает группу (или группы) специалистов в конкретных областях
знания, нацеленных на решение какой-либо проблемы и не являющихся профессиональными методологами.
Эти специалисты, очевидно, обладают определенными стандартными методами, которые до поры до
времени обеспечивают и даже гарантируют решение встающих перед ними задач. Проведение же игры
имеет смысл, когда перед этими специалистами встают проблемы «... не разрешимые старыми средствами и
методами, или появляются новые объекты, к которым старые средства не могут быть приложены; тогда
условием решения задачи становится создание новых средств и методов» [11:317]. Создание этих новых
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
393-
-393
методов и средств предполагает формирование рефлексивного отношения специалистов к средствам и
методам собственной деятельности и, соответственно, принципиально иную, чем ранее, их коммуникацию
друг с другом. Именно такую функцию выполняет другая группа участников ОДИ — группа
профессионально подготовленных методологов во главе с руководителем игры.
Прежде всего методологическая группа должна изменить вектор привычного исследовательского поиска,
переключив внимание участников игры с изучения конкретных проблем на исследование самих способов их
решения. Подобное переключение, в свою очередь, предполагает формирование критически рефлексивного
отношения к этим, ставшим уже привычными и даже самоочевидными способам и методам мыслительной
деятельности. Процедура сама по себе непростая, в особенности если учесть, что наиболее
фундаментальные способы интеллектуальной деятельности человека неразрывно связаны с глубинной
структурой его собственного Я (в чем сходились практически все представители трансцендентальной
традиции), и, соответственно, их изменение ставит перед участниками ОДИ самые нетривиальные
проблемы, включая даже проблемы экзистенциального плана. Наконец, критическая Р. собственных
способов мыслительной деятельности должна завершиться выработкой новых спосо-
413
бов и средств. Важнейший принцип ОДИ — выработка этих новых средств — осуществляется не
методологами-профессионалами, а в первую очередь непосредственными участниками игры, для чего в
рамках ОДИ создаются особые условия их мыслительной деятельности и коммуникации.
Естественно, что представленная здесь схема проведения ОДИ предельно абстрактна: более того — даже
базовые принципы игр многократно совершенствовались и изменялись. Тем не менее она очень точно
отражает главную суть ОДИ — исходное разделение на «знающих» профессионалов и методологов,
владеющих искусством и техникой Р.
Уже результаты первой ОДИ, по собственному признанию Г.П. Щедровицкого, были ошеломляющими,
показавшими бесспорную эффективность новой формы организации мыслительной деятельности. В течение
последующих четырех лет было проведено почти три десятка крупномасштабных игр. В итоге ОДИ уже к
концу 1980-х гг. стали реальным явлением духовной культуры тех лет, а понятие Р. вошло в обиход не
только философов, но и представителей самых различных профессий. Вне всякого сомнения, можно
констатировать, что в случае с ОДИ мы имеем дело с уникальным по продуктивности взаимодействием
фундаментальной философской традиции с сугубо прикладными сферами человеческой деятельности.
Весьма значимо и то, что ОДИ стимулировали активное развитие теоретических исследований
мышления, сознания и, конечно же, самой Р. д. Естественно, что один из первых вопросов, встававших в
рамках данных исследований, был вопрос о том, в какой мере и как практика ОДИ может и должна
опираться на рефлексивные традиции западноевропейской философии. В какой мере здесь сохраняется
преемственность, а в какой мы имеем дело с принципиальными методологическими новаторствами?
Весьма интересно, что методологический потенциал западноевропейской философии самим Г.П.
Щедровицким оценивался весьма скептически. «Вместе с тем до сих пор не было попыток описать
рефлексию или тем более построить ее модель в рамках собственно научного, а не философского анализа
деятельности и мышления. Во многом это объясняется тем, что не ставилась сама задача создания теорий
деятельности и мышления» [11:487). Более того, согласно концепции Щедровицкого, классическая
философская традиция страдает некоей содержательной избыточностью, что не позволяет наработанные в
ней материалы представить в виде единого механизма или формального правила для конструирования и
развертывания схем деятельности.
Случайна ли подобная позиция автора или же она неразрывно связана с его базисными философскими
установками? С нашей точки зрения — связана. Вспомним прежде всего что господствующей идеологией в
СССР был марксизм в его ленинском варианте — явление весьма специфическое и противоречивое. Так,
если сам Маркс в своих фундаментальных трудах выступал в качестве одного из глубочайших
представителей посткантовской рефлексивной традиции, то этою нельзя сказать о большинстве его
ближайших сподвижников и последователей. Действительно, как неоднократно указывали представители
западного марксизма, по крайней мере начиная уже с «Диалектики природы» Энгельса, в марксизме
происходит постепенное утрачивание рефлексивно-онтологического потенциала посткантовской
философии, и природа вновь начинает обретать статус независимого от познающего субъекта объективного
бытия (классическая критика диалектического материализма, например, была дана в работе Сартра 1960 г.
«Критика диалектического разума»). Фихте, Шеллинг, Гегель уже не могли позволить себе рассматривать ее
«всецело объективно», более того, подобным пафосом были пронизаны и ранние произведения Маркса (где,
кстати говоря, этот мыслитель только и обсуждал фундаментальные проблемы онтологии), однако
сциентистские установки его последователей восторжествовали, а ленинская теория отражения
окончательно закрепила объектный статус природы.
Парадоксально, но факт: именно это господство «научной философии» и, соответственно, неявный
запрет на постановку фундаментальных онтологических вопросов с неизбежностью направляло развитие
рефлексивной методологии на отечественной почве в сторону «умеренного кантианства», для которого
всегда был характерен отказ от обсуждения в гносеологических разделах онтологических вопросов и
фиксация внимания на сугубо внешнем исследовании интеллектуальных процедур познающего мир
деятельного субъекта. Как мы уже говорили, потенциал кантовского подхода был огромен, так что его
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
394-
-394
адекватное развертывание сулило исследователям самые неожиданные результаты. В рамках как раз такого
пути и сформировались, с нашей точки зрения, организационно-деятельностные игры.
Посмотрим в этой связи, каким образом Г.П. Щедровицкий решает фундаментальный вопрос теории Р.
— вопрос о соотношении рефлектирующей и рефлектируемой деятельности, как он видит проблему
организации их коммуникации и взаимопонимания. «Рефлексивная и рефлектирующая деятельности не
равноправны, они лежат на разных уровнях иерархии,
414
у них разные объекты, разные средства деятельности, они обслуживаются разными по своему типу
знаниями, и в силу всех этих различий между рефлектирующим и рефлектируемым деятелями не может
быть никакого взаимопонимания и никакой коммуникации в подлинном смысле этого слова» [3:492].
Нетрудно заметить, что эта проблема — та самая, что оказалась ключевой в переходе от кантовской
теории Р. к гегелевской, так что Щедровицкий отнюдь не случайно заметил здесь апорию, зафиксировав как
раз характерную для кантианства разнопорядковость указанных выше двух типов деятельности. Как раз эту
разнопорядковость и стремился преодолеть Гегель, четко сформулировавший свой упрек предшественнику:
подвергая критической Р. наличные формы научной деятельности, он, тем самым, оказывается
принципиально некритичен к самому себе. Ведь Р. есть такая же деятельность, как и любая другая, и она
также возможна лишь при условии опоры на некие предпосланные средства деятельности. Но кто
подвергнет критической рефлексии сами эти средства Р. д.? Мы вновь здесь сталкиваемся с дилеммой: либо
регресс в «дурную бесконечность», когда Р. первого порядка влечет за собой Р. второго, она, в свою
очередь, третьего и т. д., либо постулирование некоей инстанции, появляющейся на определенной ступени
этого движения, являющейся абсолютной и потому не нуждающейся в критической Р. собственных
предпосылок.
Указанная здесь антиномия (в строго кантовском смысле этого слова, ибо она имеет даже сугубо
кантовскую структуру) является универсальной антиномией любой Р. д., осознание которой задает
различные, в том числе описанные выше (Кант, Гегель), способы дальнейшего развертывания рефлексивной
методологии. Сам Г.П. Щедровицкий (в отличие от Гегеля отказавшийся от введения каких-либо
дополнительных онтологических постулатов) увидел выход из антиномии в соединении этих двух типов
деятельности в одном субъекте, способном, с одной стороны, заниматься выполнением своих
профессиональных обязанностей, с другой — самостоятельно рефлектировать свои собственные способы и
методы. Не вдаваясь во все спорные детали предложенной Щедровицким схемы «рефлексивного выхода»,
укажем лишь на главные затруднения, с неизбежностью возникающие здесь и, по сути дела, являющиеся
разновидностями фундаментальных противоречий кантовского подхода.
Во-первых, оказывается непреодоленной главная слабость кантовского критицизма — разрыв между
рефлектирующей и рефлектируемой деятельностью. Соединение их в одном субъекте на самом деле не
снимает, а лишь затемняет главный вопрос: кто и как под-
вергнет критической рефлексии априорные формы самой Р. д.?
Во-вторых, стремясь снять данное противоречие, Щедровицкий вводит определение рефлексии как
«принципа развертывания схем деятельности». Этот тезис — очевидный крен в сторону Гегеля, ибо
указывает на явную онтологизацию Р. д. Схемы деятельности не могут быть всецело детерминированы
субъективными установками, и если такое все же заявляется, то это возможно лишь при условии полагания
какой-либо формы тождества мышления и бытия. Однако если Гегель открыто идет на введение подобного
онтологического постулата, то Г.П. Щедровицкий как раз в онтологических построениях себе отказывал
принципиально.
Наконец, в-третьих, как и у Канта, у Г.П. Щедровицкого Р. остается всецело искусственной процедурой,
не имеющей отношения к объективным формам мышления и сознания. Эти объективные формы в
кантовской философии связывались с независимой от человека структурой его познавательной способности,
в гегелевской и Марксовой традициях — с определенными формами социальной организации общества. В
философии Маркса было введено даже специальное понятие — «производство сознания», резюмирующее
его теорию о вторичности сознания по отношению к материальным условиям жизни человека [5:36-39].
Сознание эпохи в отличие от гегелевской концепции может быть преобразовано, однако путь этого
преобразования проходит вовсе не через интеллектуальную критику и Р. (что было отвергнуто Марксом уже
в полемике с младогегельянцами), а через изменение самих материальных условий социальной жизни
человека. Каким же образом сугубо интеллектуальная Р. может вторгнуться в объективный процесс
производства сознания, если она сама является лишь искусственной процедурой? Думается, что во многом
этим объясняется тот факт, что ОДИ, по крайней мере в их классических вариантах, ограничились работой с
малыми и средними группами и так и не смогли перейти на уровень, где игнорирование объективности
«производства сознания» было бы уже невозможным.
Однако высказанные соображения отнюдь не умаляют огромного социально-культурного значения ОДИ,
которые явились первой формой соединения традиций рефлексивной философии не только с научно-
теоретическими, но и с прикладными областями человеческой деятельности. Любая интеллектуальная
традиция исчезает, лишь когда оказывается в полной мере выработанным ее потенциал. Креативный же
потенциал кантовской философии огромен и, думается, что В. Виндельбанд был не очень далек от истины,
пред-
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
395-
-395
415
сказывая этой философской традиции столь грандиозное будущее.
Итак, подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. Рефлексивный характер деятельности является атрибутивным для человека как родового и социо-
культурного существа. Именно рефлексивный характер деятельности делает возможным существование
теории, а также характерный для нее аподиктический тип знания.
2. Открытие рефлексивного статуса теоретического знания и человеческого знания вообще явилось
итогом длительного развития философии, в ходе которого совершался переход от «не знающей» к
различным формам «знающей себя» Р. На определенном этапе этого развития создание теории Р.
предполагало формирование соответствующей онтологии.
3. В ХХ в. в самых разных формах и на самых различных уровнях усиливается внимание к Р. На
макроуровне это прежде всего проявляется через осознание рефлексивного статуса социальных теорий и,
соответственно, невозможности построения адекватных социальных теорий при методологической
ориентации на нерефлексивные принципы естествознания. Ряд авторов даже связывают с формированием
рефлексивных социальных теорий успешное функционирование мировой экономики и, в конце концов, —
выживание человечества. На микроуровне возникают совершенно новые формы включения рефлексивной
мыслительной деятельности в решение нетривиальных проблем в научно-теоретических и прикладных
сферах, ярчайшим примером чего являются ОДИ и связанные с ними формы мыслительной деятельности.
Оба уровня Р. пока развиваются практически независимо друг от друга. Однако это, быть может, говорит
лишь о том, что наступивший век и наступившее тысячелетие будут ознаменованы каким-то совершенно
новым синтезом этих подходов. Не исключено, что этот синтез сформирует совершенно новую эпоху,
которую по праву можно будет назвать рефлексивной.
Библиография
1. Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1976.
2. Локк Дж. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1985.
3. Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993.
4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996.
7. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1974.
8. Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990.
9. Михайлов Ф.Т. Самоопределение культуры. М., 2003.
10. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.
11. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995.
Сорвин К.В.
ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ (к позиции 1.1)
Transcendens (лат.) — перешагивающий, выходящий за пределы.
В различных философских традициях трансцендентное (Т.) — то, что выходит за границы
категориального, опытного или умопостигаемого конституирования сущностей. Таким образом, зачастую
статус Т. не может быть удостоверен сознанием в его собственных границах и предполагает или смещение
этих границ, или иллюзорность самого полагания Т.
Понятие «Т.» является одним из ключевых предельных понятий европейской культуры и описывает, в
сущности, центральную философскую проблему отношения «бытия присутствия» (Dasein) — человеческого
бытия по Хайдеггеру — к бытию и сущему, т. е. единства онтологии и онтики.
Сквозь всю историю европейской мысли проходит несколько тенденций понимания Т.: Т. как
внемировое бытие, превосходящее субъективность, Т. как «мир», бытие, внешнее сознанию субъекта и
задающее ему границы и Т. как некий провал и зияние в самом субъекте. Чаще же всего мы имеем дело со
сложными, смешанными формами.
Таким образом, через понятие Т. формулируется проблема отношения трех предельных реальностей
мысли, или трех ее предельных интенций: Бога, души и мира (сущего). Именно оно позволяет проследить,
как меняется онтологический статус этих интенций.
Суть собственно человеческого бытия или бытия индивидуального духа в европейской традиции явно
или неявно понимается как трансцендирование, выхождение за свои пределы, которое, однако, и является
имманентным природе души. В этом общем русле можно выделить, во-первых, мистико-теологическое
толкование трансценденции: обнаружение своей природы как божественной и божественной как своей,
достигаемого в самопревосхождении у Плотина, Дионисия Ареопагита или Мейстера Экхардта; и, во-
вторых, онтологическое: по утверждению Хайдеггера, само бытие есть transcendens, но в трансценденции
бытия присутствия лежит возможность и необходимость радикальнейшей индивидуации.
Трансценденция в первом указанном нами значении есть сердцевина и христианской, и
неоплатонической мистико-теологической мысли и практики. Она означает переход от двойственного к
единому, в ходе которого сущее, как образующее двойственность (различенность) бытия, снимается. В акте
трансцендирования душа осуществляет эпохе всего сущего (эмпирически данного или умопостигаемого) и
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
396-
-396
такого собственного бытия, которое полагает это сущее. Единое трансцендентно миру, хотя и дает ему
бытие, и только
416
потому и может давать бытие, что трансцендентно; оно относится к сущему как одно ко многому, как
порождающее к порожденному, первичное к вторичному. Душа через обращенность к своему истоку
преодолевает себя как сущее. «Ведь же природа души не дойдет до совершенно не-сущего, но, спустившись
вниз, она дойдет до зла и, таким образом, до не-сущего, но не до совершенного не-сущего. Устремившись
же в противоположном направлении, она дойдет не до иного, но до самой себя, и, таким образом, будучи не
в ином, она — не «ничто» и в самой себе: только же в самой себе, а не в сущем — значит, «в том»; ведь
некто и сам становится не сущностью, а тем, что по ту сторону сущности, таким образом, каким он
общается с «тем» [9:225], — эта диспозиция души, сущего и единого, данная Плотином, в целом сохранится
во всем апофатическом богословии христианства.
Понятно, что эта традиция содержит в себе диалектическое напряжение; так у М. Экхарта достижение
душой Бога как единственно сущего проходит через потерю образа Бога (как собственного вечного
прообраза) и впадение в ничто («Бог есть ничто, говорил Дионисий») [11.С.149].
Такое «отрицание отрицания», много давшее позднейшей философии, есть полная форма трансцензуса и
описывает дилемму: всякое отношение к радикально Т. осуществимо лишь через установление столь же
радикальной имманентности этого отношения. Трансцензус есть прохождение через ничто, через точку
взаимного отрицания. Такова природа отношений конечной и бесконечной субстанции: их онтологическая
асимметрия определяет это ничтожение, которое оказывается разворачиванием бытия (так же, как и у
Николая Кузанского мир есть explicatio Dei).
Глубокая связь «ничто» с трансценденцией постоянна в истории мысли; она вновь актуализируется в ХХ
в., но понимание ее радикально меняется. «Ничто» апофатического богословия определяется
вненаходимостью самого акта трансцендирования, делящего, но и связывающего две качественно
несовместимые субстанции, которые актуально поэтому и не могут быть друг для друга субстанциями (и
потому в пределе мистическая мысль не умещается в языке схоластики). Качественно иное —
бескачественно. «Ничто» есть обозначение позиции переживающего трансценденцию. «Ничто» —
феноменологическое описание созерцания, для которого уже нет феноменального. Это различение усвоил
Хайдеггер, у которого Бытие есть ничто сущее, но сказать, что бытие есть ничто, было бы бессмыслицей.
Если мы попытаемся перенести определения «ничто» на мир сущего, то само ничто окажет-
ся сущим, и мы получим ситуацию современной постмодернистской мысли.
Конечно, эта мысль опирается и на другую — классическую — традицию европейской метафизики,
заданную еще Аристотелем. Она актуализирует отношения души и сущего как гарантированные Единым,
Нусом или Богом. Такой тип понимания Т., исходящий из данности первоначала как абсолютно сущего («Я
есмъ сущий») и воплотившийся в схоластическом синтезе Средневековья, покоится на тождестве Т. и
трансцендентального. В тождестве, выступающем и как простая грамматическая неразличенность.
Трансценденталии, nomina transcendentia — надкатегориальные общие характеристики сущего, такие как
истинное, благое и единое. Трансцендентальное-Т. средневековой философии воплощает в себе логико-
онтологическое единство универсума как разумной вещи, по-мысленной Богом и мыслимой человеком (то
есть мыслимость мира не есть простой коррелят к мышлению субъекта, а неотъемлемое свойство самого
мира). Данное единство распадается к Новому времени: онтологический смысл трансцендентального, все
еще смешиваемого с Т., теряется, и, наконец, Кант решительно разводит их, хотя их
неконцептуализированная связь в сохраняется во внетеоретическом сознании, в сознании «естественной
установки», по Гуссерлю. Именно поиск единой мотивации, которая связала бы интенции этого сознания
(как сознания жизни) и сферу трансцендентальных полаганий, повернул Гуссерля к реконструкции
«жизненного мира».
Интенция классического новоевропейского разума предполагала финальное тождество мышления и
бытия: и пассивное тождество познавшего истину разума с природой, и активное тождество — через
внесение истины разума в природу. Такая диспозиция приводит к глубокому противоречию между
трансцендентальным каноном мышления и неизбежно трансцендирующей деятельностью мыслящего
существа — между границами истинного применения разума и его конечной целью. Кант рассматривает
«задачи, решение которых составляет конечную цель его (разума), все равно, достигнет ли он ее или нет, ту
цель, для которой все остальные цели служат только средством. Эти высшие цели соответственно природе
разума должны со своей стороны обладать единством, чтобы сообща содействовать тому интересу
человечества, который уже не подчинен никакому более высокому интересу» [5:468]. Само кантовское
различение Т. и трансцендентального предполагает, что Т. применение разума есть одновременно и
заблуждение, и совершенно законное действие, связанное с самой телеологией разумного существа.
417
Конечная цель «спекуляции разума« касается трех предметов, которые и определяют «высший интерес
человечества»: свободы воли, бессмертия души и бытия Бога. Но эти предметы противомысленны,
поскольку, как Кант уже доказал, релевантное применение разума возможно лишь в исследовании природы,
а не свободы. Важно помнить, что различение этих «царств» у Канта определяет не разницу предметных
сфер, а противоположность способов бытия: природное осуществляется через причинение, а свободное
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
397-
-397
через цель (телеологию). Создается парадоксальная ситуация, когда жизнь человека, его практика, покоится
на принципе свободы, вернее, требует этой свободы, исходя из своей конечной цели, а его разум не
способен вынести этой цели и ориентирован лишь на внечеловеческое природное, относительно которого
только и возможно истинное знание. Поэтому и появляется особый канон практического применения
чистого разума, основанный не на сущем, на должном. Этот радикальный разрыв природы и свободы был
бы непонятен ни античной, ни средневековой мысли, где и свобода, и природа все же восходили к одному
онтологическому источнику. И теперь усилия Канта направлены на выстраивание способов их
опосредованного согласования, которое, собственно, и порождает его формальную этику. При этом
возникают такие парадоксы: «Так как это касается нашего поведения по отношению к высшей цели, то
конечной целью мудро пекущейся о нас природы при устройстве нашего разума служит, собственно, лишь
моральное» [5:469].
Трансцендентное применение трансцендентальных идей оказывается неизбежно, поскольку через
трансцендентальное осуществляется синтез деятельности разума по построению разумного мира, что
хорошо видно уже из «Критики практического разума».
Это замкнутый цикл удвоения мира, в котором рассудок конструирует мир, в конечном счете
ориентируясь на иллюзорный регулятив «мир», данный разумом. Чистые понятия разума трансцендентны,
но именно они указывают на применение рассудочных понятий, поскольку «делают возможным переход от
естественных понятий к практическим» [5:234]. Итак, приходится разделить спекулятивное и практическое
применение чистого разума, но при этом разлагается и терпит крах природа разума, как ее определил сам
Кант: «Сама природа разума побуждает его выйти за пределы своего эмпирического применения, в своем
чистом применении отважиться дойти до самых крайних пределов всякого познания посредством одних
лишь идей и обрести покой, лишь замкнув круг в некотором самостоятельно существующем
систематическом целом» [5:467]. По существу, Кант формули-
рует антиномию, которая потом была развернута Ницше и стала базисом европейского модернизма:
человеческое бытие как трансценденция совращает сознание или само совращается им. Существование как
непрерывное трансцендирование не имеет в себе априорной трансцендентальной истины, но управляется
перспективистскими иллюзиями — ценностями. Можно сказать, что драма европейского человечества —
это драма неизбежности трансцендентного применения разума при невозможности его таким образом
применить.
Новое глубокое понимание Т. дает Гуссерль: «Неопределенный до конца, но определимый горизонт
моего актуального опыта... благодаря которому тезис мира обретает свой сущностный смысл» [3:6]. Далее
он утверждает, что Т. Бога («теологического принципа») должно сущностно отличаться от трансценденции
«в смысле мира», но его определения не входят в задачи феноменологии [3:16]. Гуссерль предлагает новый
канон трансцендентальной философии, в которой будет уничтожен разрыв между миром феноменов и
миром сущностей, поскольку сущее не прячется более за явлением, а проясняется в полном анализе нашего
сознания сущего. Гуссерль борется с «удвоением мира», полностью сводя Т. к корреляту имманентного
бытия, абсолютного бытия сознания. Но это не сведение мира к «субъективной кажимости», а прояснение
возможностей истинного познания «любых реальных единств» как «единств смысла». Гуссерль говорит:
«Мы не переосмысляли и тем более не отрицали реальную действительность, мы только устранили
противосмысленное ее толкование — такое толкование, которое противоречит ее же собственному,
проясненному смыслу. Оно идет от философской абсолютизации мира, вполне чуждой естественному
взгляду на мир. <... > Противосмысленность возникает лишь тогда, когда мы начинаем философствовать и,
стремясь обрести последнюю истину относительно смысла мира, вообще не замечаем того, что сам же мир
обладает своим бытием как неким «смыслом» предполагающим абсолютное сознание в качестве поля, на
котором совершается наделение смыслом; и когда мы вместе с тем не замечаем и того, что это поле —
бытийная сфера абсолютных истоков — доступно созерцающему исследованию и несет на себе
бесконечную полноту доступных ясному усмотрению познаний, отмеченных величайшим научным
достоинством» [3:30].
Проблемой этого разума, им еще не осознаваемой, является именно утрата радикально Т., которое
сходится с радикально имманентным — утрата, которая и привела к кризису реального в новейшей
культуре.
Культурная ситуация настоящего времени замыкает собой новоевропейскую историю Т., в которой, с од-
418
ной стороны, Т. утрачивало способность прямой символической экспликации, утрачивало «сущность»,
но, с другой стороны, парадоксальным образом обретало бессущностное негативное существование,
поскольку все новые горизонты ранее положительно данной действительности оказывались
трансцендированы европейским институциализированным разумом. Если для классического разума Т. —
это сфера конечных истин и целей, то в культуре модерна и постмодерна трансцендентным оказывается весь
крут укореняющего опыта человека. Именно непосредственное оказывается потусторонним. Т. есть Ничто
(конечно, с разными последствиями) и у Хайдеггера, и у Сартра, и у Батая. У Хайдеггера «человеческое
присутствие означает: выдвинутость в Ничто. Выдвинутое в Ничто, наше присутствие в любой момент
всегда заранее уже выступило за пределы сущего в целом. Это выступание за пределы сущего мы называем
трансценденцией» [10:22]. Но если для Хайдеггера «Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
398-
-398
такового для человеческого бытия» [10:23], то для последующей философии часто всякая форма бытия
принципиально равна Ничто, поскольку из нее изъято сущее. В этом универсуме трансценденция уже
невозможна. Именно невозможность Т., связанная с крушением трансцендентального субъекта и метода, во
многом определяет такие черты современных философских методологий (деконструктивизма, шизоанализа
и пр.), как тотальный имманентизм: бесконечное движение неких актантов, которые не могут войти в
отношение ни с каким другим актантом, но лишь вновь и вновь смещают его или смещаются относительно
него. Эти актанты (собственно, активные единицы сюжета) действуют в поле метаязыка при отсутствующем
(или утратившем значимость) языке. Такая попытка философского письма уже со стороны Ничто
предполагает как бы контртрансцензус: движение смещения уничтожает саму предметность, на которую оно
направлено, смывает границу перехода, и пространство дискурса делается все более имманентным самому
себе.
Современная культура много и плодотворно занимается археологией, следами субъективности, которые
не могут быть актуализированы (ведь след есть прошлое, у которого не было настоящего, «фиктивное
прошлое» [см. 2] ), а тот, кто его оставил, — некая фигура пустоты, «отсутствующий господин». Речь идет
не столько о пороке культуры, сколько о кризисной точке в ключевом для европейского разума процессе
определения границ самодовлеющего разума как границ позитивной реальности. Это сложный,
диалектический процесс, в котором сначала производится отграничение Т. от закономерной связности
«данного в уме», а
затем выявляются трансцендентные истоки самой этой данности.
Например, для софиста мир как таковой, со своими внутренними связями, трансцендентен миру мнений.
Т. е. мир может быть каким угодно — собственно, неизвестно, каков он, а человек укореняется в своем
человеческом мире благодаря тому, что делает свое мнение общим. Однако через это софистическое
«отчуждение» разрушается мифологическое единство мнения и бытия: мнение теряет свое прямое
тождество с бытием, с «положением дел», мнение оказывается производимо, т. е. производно. Возникает
вопрос об общечеловеческом, об организации самого «топоса» человека. И здесь уже может явиться Сократ
с призывом прекратить производить мнения, обратившись на само про-изведение.
В сфере мышления, пребывающего в себе, собственно философского мышления, Т. всегда будет лишь
ускользающим горизонтом мысли — горизонтом, который организует ее движение в силу того, что он и
есть ее исток. Философская мысль есть мысль о собственном начале, о логически невозможной точке
порождающего небытия. Философская трансценденция всегда будет осуществляться через ничто, через
чистую неданность, не-положенность, по утверждению Хайдеггера. В этом отношении мысль является
превращенной формой Т., и основная тема такой мысли — превращение как неотменимый онтологический
акт.
Потому знаменитое рассуждение Декарта, увенчивающееся «cogito ergo sum», часто переформулируется
так: «Я мыслю, следовательно Бог существует». Бог есть то, что осуществляет сознание как интенцию.
Именно через бытие Бога сознание не иллюзорно, и мир не есть иллюзия. Трансцендентное бытие как бы
выступает гарантом двух имманентностей тем, что делает их взаимно реальными. В посткартезианской
мысли эта формула утеряет двойственную природу целостности: Бог окажется окончательно имманентен, а
мир трансцендентен. Имманентность будет пониматься как фиктивность (умышленность), ибо имманентное
само для себя есть ничто, и фиктивна окажется сама субъективность, покоящаяся на превращенной форме.
Теперь сознающее бытие негативно по отношению к себе самому, и потому трансцендентность истока как
животворящего Другого оказывается также фиктивной.
После Ницше и Фрейда эта коллизия начинает решаться через техники нового мифотворчества. Миф
выражает досубъектное и внесубъектное бытие, описывая воздействия на индивида, производимые
существами, бытие которых проявляется именно в этих воздействиях. Переход телесной границы
удостоверяет,
419
что в мире есть Другие, но они есть именно как изменения моих границ. Место субъективности (
обращенной на себя и делающей себя прозрачной) занимает телесность, которая непрозрачна для себя и
поэтому не предполагает субъект-объектной границы. Понятно, что телесность требует совсем другого
познавательного и регулирующего поведения. Необходимо назвать неопредмеченную воздействующую на
нее силу и приручить ее, то есть совершить частичную субъективизацию тела, но традиционные процедуры
верификации здесь невозможны. Одной из основных стратегий является перенос онтологического акта (акта
полагания бытия сущего) на посредника, выстраивание бесконечной цепи посредников, медиальных
структур, которые осуществляют трансляцию содержания, в отсутствие того, кто бы это содержание
осуществил. Транслируется сообщение, у которого нет ни отправителя, ни адресата. Структурами-
посредниками могут быть бессознательное, язык, власть, культура и прочее. Апогеем такой техники
является учение Лакана, где единственным, в сущности, «позитивным» содержимым субъекта, его
внутренней структурой, является Речь Другого, уничтожающая этого субъекта «в зародыше». Отсюда
ключевое для новейшей культуры открытие разумности до разума, архаических оснований культуры — в
сущности, попытка воспроизвести структуру «дикой мысли» средствами утонченной рефлексии, часто
утрачивая саму сердцевину этой мысли.
Научная мысль должна последовательно сводить Т. к трансцендентальному, как показал Кант.
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
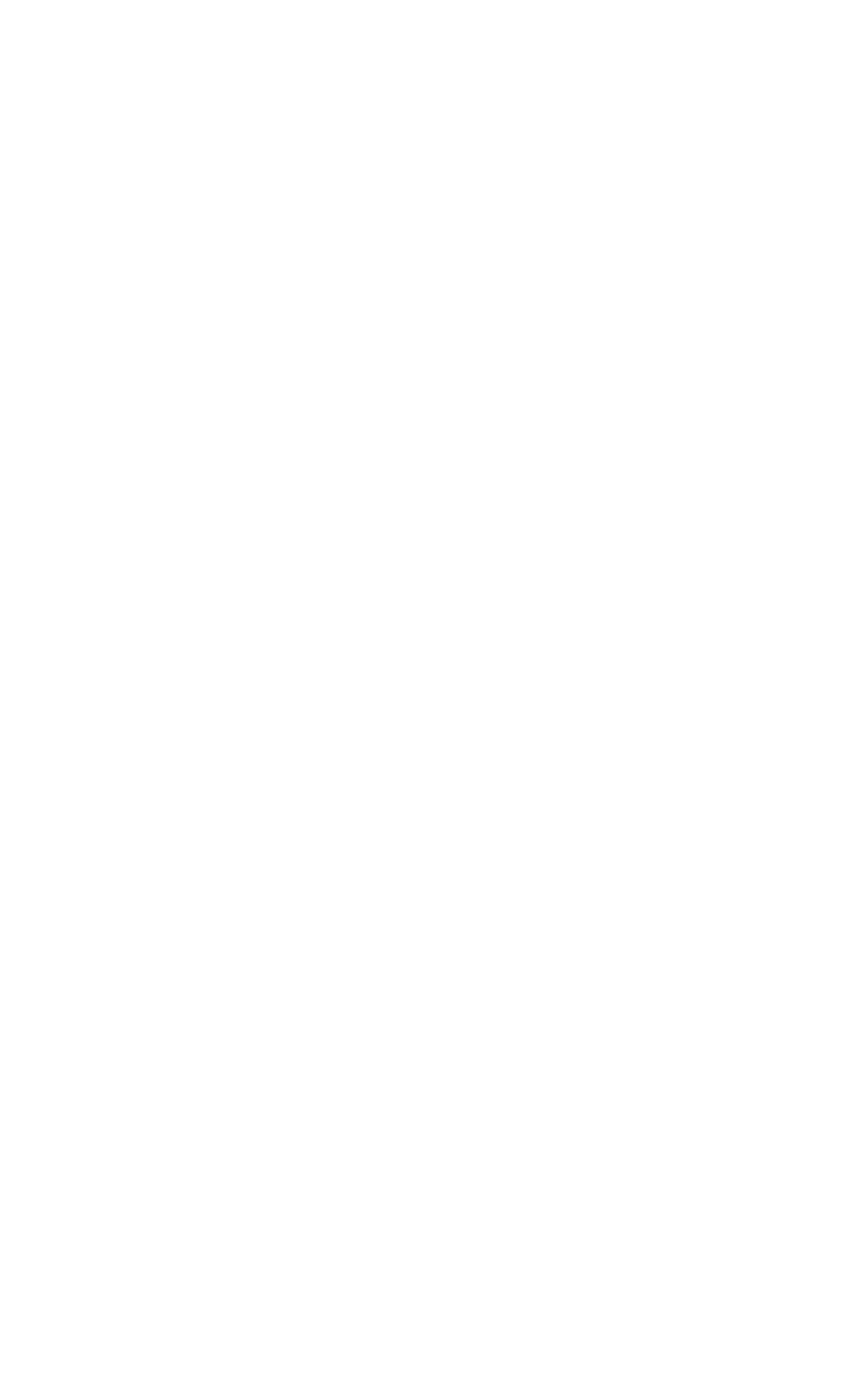
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
399-
-399
Философская мысль в пределе обнаруживает себя как Иное Т. и вечно осуществляет поворот к нему,
реализуя новое транцендентальное снятие опыта (так и у Гегеля, и у Гуссерля). Есть ли тогда какие-то
формы немифологического, рефлексивного сознания, в которых возможно позитивное, а не негативное
присутствие Т.? Такая возможность присутствует и в поэтическом опыте, и в религиозном опыте
радикальной мысленной аскезы, и даже в простейшем опыте тела, ведь всякое чувство (хотя бы простое
прикосновение к чему-либо) есть чувство себя через другое и другого через себя. И в творческом, и в
религиозном опыте осуществляется парадоксальное принятие радикально Другого, не данного в «условиях
возможного опыта», но одновременно это Другое открывается и как сокровенная природа человека, как его
подлинное. В европейской (и не только) культуре всегда сохранялась память о смысле поэтического
творения, которое заключает в себе не «эстетическую ценность», а некоторое знание относительно «замысла
о человеке», о полноте антропологической формы. Опыт аскезы (при всех глубоких различиях) совпадает
здесь с опытом творения, предполагая внут-
ренний переход от твари к творцу. И в том и в другом опыте тварная природа видится спасенной. Можно
сказать, что трансцендентное переживание такого рода есть неконцептуализируемый опыт любви.
В сущности, каждый опыт Т. сообщает человеческую природу ее собственному бытию. Конечно, эти
глубинные опыты не могут быть прямо экстраполированы на всю культурную практику, но память о них
присуща «нормальной» культуре и поддерживает ее горизонт Т.
Библиография:
1. Декарт Р. Рассуждение о методе // Разыскание истины. СПб., 2000.
2. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1994.
4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология...// Вопросы
философии. 1992. № 7.
5. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
6. Кант И. Критика практического разума. М., 1997.
7. Кузанский Николай. Об ученом незнании. М., 2000.
8. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М., 1997.
9. Плотин. О благе, или Едином // Логос. 1992. № 3 (1).
10. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
11. Экхардт Мейстер. Духовные проповеди и размышления. СПб., 2000.
Файбышенко В.Ю.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (к позиции 1.1)
Странный концепт Э. приводит в смешение понятийную лестницу европейской культуры.
Еще для Канта эстетика была учением о чувственном восприятии, а то, что мы сейчас именуем Э.,
понималось как «способность суждения». К настоящему моменту особая оптика «целесообразного без
цели», то есть осмысленного и образующего, перешла к оптике бессмысленного и безобразного (говорю без
иронии — это важное свойство эстетической оптики), но имеющего цель, цель специально заявляемую как
эстетическая. При этом, в силу некоторого эстетического парадокса, такая цель оказывается более или менее
последовательной пародией морального, политического, религиозного-антирелигиозного утверждения.
Особое «гетто эстетического», возникшее в Новое время, и задает, и одновременно искажает
проблематику эстетического (сформулированное Хайдеггером свойство постава, который есть некоторое
устройство забывания и забывания о самом забывании).
Парадокс Э. как «разумного-чувственного», «бесцельно-целесообразного» укоренен в
антропологической проблеме. Это вопрос о человеке в космической или естественной истории. Э. есть
прояснение естества как явления; являющее прояснение. А пробле-
420
ма явления-созерцания — это оселок всей европейской мысли, поворотный пункт, с которого всегда
начинает метафизика. И такая практика, которая потом была названа Э., предлагает путь, асимметричный
пути, по которому шла метафизика.
Проблема впервые была сформулирована греками. Философский «поворот» Античности осуществился в
связи с осмыслением работы «нового» человеческого органа — речи, который образован взаимной
обращенностью «природы» и «искусства». Оказалось, что природа выводится на свет некоторым
искусством, которое сама и порождает. Эта ситуация подлинника, порождаемого подражанием, близка
современной философии, но современная философия уже не может выдержать такой тип различения: и
подлинник, и подражание оказываются фиктивны.
Основания греческого мышления были забыты, и на этом забвении зиждутся новоевропейские
представления о подражании природе как «Э. отношении», в то время как это отношение онтологическое.
Тонко формулирует эту проблему В.П. Зубов: «... философские воззрения греков на природу являлись
вместе с тем их философией искусства. Природа мыслилась как произведение искусства, на нее
переносились категории художественного (respective технического) творчества. Не случайно, например,
Аристотель так часто пользовался в своей «Физике» образом статуи, изготовляемой ваятелем, или дома,
создаваемого зодчим. Не столько произведение искусства мыслилось у него в категориях органических,
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
400-
-400
сколько, наоборот, организм мыслился в категориях художественных (или «технических»), и потому
философия искусства, извлекающая из физики и биологии Аристотеля основные свои понятия, возвращает
себе то, что принадлежит ей по праву. То, что в физике и биологии вело Аристотеля... к виталистической
телеологии, к представлению о душе, формирующей материю сообразно определенной цели, то в
применении к художественному процессу оказывается расшифровкой аспектов и этапов этого процесса,
взаимоотношений между художником, материалом и произведением.
И произведения искусства, и произведения природы, говорит Аристотель, возникают «ради чего-
нибудь». Более того, самый процесс возникновения в обоих случаях одинаков: «Если бы дом принадлежал к
числу предметов, возникающих от природы, он возникал бы так же, как теперь он возникает путем
искусства, а если бы, наоборот, предметы, возникающие от природы, возникали бы не только от природы,
но и путем искусства, то они возникали бы именно такими, какими способны становиться от природы»
(«Физика», II, 8, 199а). Разница между природными существами и про-
изведениями искусства, по Аристотелю, заключается в том, что причина движения или изменения
природных существ находится в них самих, а в произведениях искусства лежит вовне, в художнике. Но в
обоих случаях и цель и средства к ее осуществлению должны оставаться теми же. «И если бы искусство
кораблестроения находилось в дереве, оно действовало бы как природа»; иными словами, действие природы
можно уподобить тому случаю, когда кто-нибудь врачует самого себя, то есть когда искусство врачевания
находится в самом врачуемом, а не направлено на другое существо (там же). Отсюда явствует, как следует
понимать принцип «подражания природе»: «...художник творит как природа, а не имитирует природу»
[5:64].
Расхождения между Платоном и Аристотелем по поводу мимесиса, пожалуй, заключаются в том, что, по
мнению Платона, творить как природа не есть полная форма творения, поскольку природа творит по
образцам (или творится по образцам), — следовательно, подлинное (философское) техне — это «умное
художество», произведение в себе образца. Платон описывает ситуацию, в которой художник и материя
мимесиса совпадают, и цель не опредмечивается в объекте. Тут мы подходим к важному, но редко
отмечаемому топосу античной мысли: отрицая становление как благо, она тем не менее указывает на некое
динамическое отношение, или оборот, предшествующий разумной (истинной) форме некоей сущности.
Таков Эрос Платона — ничто, нечто, не держащее в себе никакого позитивного представления, но
приводящее в подвижность все наличные представления. У Аристотеля это начало имеет позитивное бытие
и объединяет Э. (чувственное) с этическим — кругом родового человеческого бытия: «Вообще, вопреки
мнению некоторых, не разум — начало и руководитель добродетели, а скорее движения чувств (ta pathe).
Сначала должен возникнуть какой-то неосмысленный порыв (normen alogon) к прекрасному — как это
бывает, — а затем уже разум произносит приговор и судит. Это можно наблюдать у детей и бессловесных
животных: у них сначала без участия разума возникают порывы чувств к прекрасному (kalon), и потом уже
разум, соглашаясь с ними, помогает вершить прекрасные дела. Но не так обстоит дело, когда стремление к
прекрасному берет свое начало в разуме: чувства не следуют за ним в полном согласии, часто противятся
ему. Поэтому скорее верно направленное движение чувств (pathos ey diakeimenon), a не разум служит
началом добродетели» [1: кн.II, 7, 1206b].
Почему же отвергается становление? Дело в том, что становление есть вос-становление до некоторого
нормального состояния, возмещение нехватки или убытка, что есть низменное наслаждение, или
наслаждение тела (и это, строго говоря, лишь кажущееся становле-
421
ние). Благо есть наслаждение, происходящее от действия (уже) восстановленной природы — например,
наслаждение зрения, слушания и размышления. Новоевропейская привычка вынуждает «восстанавливать»
чувства из разума, который отслеживает их как улики. И они, по определению, опознаны из некоторой
нехватки. Здесь же сам разум помещен в перспективу наслаждения. Он есть действие полной природы, без
биологически-приспособительных обертонов. Античная мысль оперирует не последовательной разверткой
причиняющих ходов, а скорее предполагает встречное движение разных перспектив неизмеряемого единого.
Конечно, Нус онтологически первичен, но онтически он лежит в перспективе некоторого искусства,
достигающего его. Всякая достигнутая разумность — это освоенное техне. Прекрасное творится самой
влекущей силой прекрасного, но через разумное искусство.
Новоевропейское «подражание природе» последовательно исключает природное как самодействующее
из игры. Принцип постава заключается в том, чтобы задавать правильное представление I, в соответствии с
которым следует мыслить природу как представление II, удерживающее позиции разума. Исчезает само
понимание добродетели как искусства, разумения как искусства. Именно в художественной сфере выступает
специфическая подоплека европейского разума как устройства избирательной чувствительности, которое
для своей активности нуждается в пассивизации того, на что оно направлено. Но у этого устройства,
безусловно, есть возможность помнить о том, о чем оно забывает, — то есть совершать пресловутый
хайдеггеровский поворот.
Кантовский принцип целесообразности без цели на самом деле формулирует и отношение этого разума к
природе, и тот сложный способ, которым этот разум относится к истине — через неформулируемое,
потаенное узрение формы, которая может быть и чувственно непосредственна, и универсально понятийна.
Мы не можем говорить об истине созерцания, но можем — об истинной форме созерцания. И здесь
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
