Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
411-
-411
космологической мысли и господствующей картиной М. вплоть до XV-XVI вв. Во-вторых, в атомизме наш
М. также включает, как и у Аристотеля, все видимые небесные тела с Землей в его центре, однако при этом
утверждается, что М. во Вселенной бесконечное множество. М. в таком истолковании расходится в своем
значении с понятием Вселенной, в то время как у Аристотеля эти понятия совпадают. В-третьих, в орфико-
пифагорейской традиции, а также у Гераклида Понтийского, Посидония и Клеомеда любое небесное тело
считалось М., причем населенным, в частности Луна считалась населенной душами умерших. Такое
понимание М., на долгие столетия оттесненное господством аристотелевско-птолемеевской системы,
возобновляется в эпоху Возрождения, способствуя размыканию и гомогенизации замкнутого
иерархического античного космоса и созданию нового космологического видения.
У Платона М. (космос) как прекрасный и одушевленный «порядок» создан демиургом не из ничто, а из
«беспорядка» (Тим. 30 а-b). M. y Аристотеля вечен, не-
сотворен, все существующее в нем движимо Перводвигателем. У атомистов миры возникают в
результате атомных вихрей и с неизбежностью распадаются, что постоянно происходит в бесконечной
Вселенной. Понятия M. y атомистов и у Аристотеля близки между собой — в обоих случаях это в
качественно-структурном отношении геоцентрический замкнутый и конечный М., ограниченный в одном
случае «крайней сферой» (Аристотель), а в другом — «мембраной» или «оболочкой» (атомисты). Аналогия
прослеживается и в отношении внутрикосмического дуализма (противопоставление центра периферии).
Однако радикальное различие в мировоззрении и в исходных принципах приводит к тому, что если
Аристотель защищает тезис о единственности М. и о его целесообразном и иерархическом устройстве, то
атомисты учат о бесконечной множественности М., подчиненных случаю и механическим закономерностям,
не оставляющим никакого места в устройстве М. телеологическому принципу.
Если для античных философов важно было отстоять идею вечности М., то для христианских
мыслителей, напротив, на передний план в идейной борьбе выступает задача утвердить тезисы о сотворении
М. из ничего (creatio ex nihilo) и о божественном провидении, управляющем М. Самым непримиримым
противником нового христианского представления о М. был античный атомизм с его отрицанием разумного
промысла в устройстве и функционировании мироздания и учением о бесконечном множестве М. Ситуация
изменилась после 1277 г., когда парижский епископ осудил аристотелевский тезис о невозможности
множества М. Значительный шаг в расшатывании аристотелевской концепции М. был сделан Николаем
Кузанским, сочетавшим принцип всеобщей одушевленности органического мирового целого с принципом
его разомкнутости («хотя этот мир не бесконечен, но, однако, его нельзя помыслить и конечным, поскольку
у него нет пределов, между которыми он был бы замкнут» — Об ученом незнании, II, 11, 156). При этом
происходит переоценка самого понятия бесконечности — ее низкая оценка, типичная в целом для
Античности, сменяется утверждением ее поистине божественной природы. В соответствии с древней
орфико-пифагорейской традицией «миры» у Кузанца понимаются как видимые и невидимые небесные тела
или «звезды», на которых существует жизнь и даже разумные обитатели. М.-«звезды» гармонично
взаимодействуют друг с другом, выступая тем самым органами единого целого, отсылающего к своему
Творцу. Подобное представление о М. мы находим и у Дж. Бруно, у которого, однако, мотивы христианской
теологии, типичные для Кузанца, уступают место герметизму и открыто выражен-
433
ному пантеизму. M. y Бруно — анимистические образования («великие животные»), а Вселенная не
просто открыта и разомкнута, а актуально бесконечна, практически мало чем отличаясь от Бога. У
христианских мыслителей М. понимается как конечное пространственно-временное тварное образование,
имеющее свои начало и конец (эсхатология) и представляющее собой средоточие всего «мирского» как
нравственно и духовно несовершенного состояния. В иудео-христианской традиции М. мыслится как бытие,
онтологически неполное и преходящее, в противоположность божественному Слову, которое вечно и
абсолютно («небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». — Матф. 24:35). В философии Нового
времени, особенно в ее секуляризованных вариантах, понятие «М.» приобретает значение единственно
значимого предмета философской мысли. Так, у Шопенгауэра М. истолковывается «как воля и
представление», исчерпывающие фундаментальные определения бытия и познания. В философии Ницше,
радикализирующего учение Шопенгауэра, дух и трансцендентное начало лишаются самостоятельного
бытия, а М. истолковывается исключительно как сфера посюстороннего и имманентного существования,
абсолютным принципом которого выступает «воля к власти». Большое значение придается понятию «М.» в
феноменологии позднего Гуссерля, выдвинувшего концепцию «жизненного М.». Отказываясь от ранее
принимаемого им примата трансцендентального субъекта над его М., Гуссерль развивает теорию
интерсубъективности, определяющей объективный М. вещей и одновременно зависимой от него.
Интерсубъективность мыслится вместе с конкретным исторически данным М.-феноменом, М. жизни или
«жизненным М.», выступающим предельным и подвижным «горизонтом» всех целей и способов видения,
мышления и деятельности человека. Гуссерль проводит различие между М., как он дан в научном знании, и
М., в котором мы живем. Этот второй М. и есть «жизненный М.», служащий интерсубъективно данной
основой всего опыта человека, в т. ч. и научного. В его описании, в выявлении его структуры философ видит
важную задачу феноменологии. Ученик Гуссерля Хайдеггер также широко использует понятие «М.»,
анализируя его различные смыслы. «Бытие-в-мире» есть, по Хайдеггеру, фундаментальный конститутив
«присутствия» или «вот-бытия» (Dasein). В этом понимании М. как нечто внешнее по отношению к

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
412-
-412
человеку исчезает, раскрываясь в своей «мирности» (Weltlichkeit), высвечиваемой в экзистенциальной
аналитике Dasein. В концепции историчности Хайдеггера М. выступает как событие, как фундаментальная
«определенность Dasein», не являющаяся его следствием,
но структурирующая его. «Событие истории, — говорит Хайдеггер, — есть событие бытия-в-мире.
Историчность присутствия есть по своему существу историчность мира» [ 1:338]. Судьба М., по Хайдеггеру,
связана с судьбой бытия. Действительно, в Новое время, как считает философ, М. превращается в «картину
М.», становится «представлением», что отвечает господству математического естествознания как
культурной парадигмы, выступающей проявлением «забвения бытия», лежащего в основе европейской
метафизики.
В современной науке понятие единой картины М. лишается своей обоснованности и на передний план
выступают такие характеристики М., как сложность, случайность, нелинейность, множественность,
историчность и связанность его с человеком и жизнью в целом. Все эти черты М. развиваются в
современной постнеклассической науке (синергетика, теория диссипативных структур, антропный принцип
в космологии и т. д.).
Библиография
1. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
2. Визгин В. П. Идея множественности миров: Очерки истории. М., 1988.
3. Бибихин В. В. Мир. Томск, 1995.
4. Brand G. Welt. Ich und Zeit nach unveröffentlichten Manuskripten Edmund Husserls. Den Haag,
1955.
5. Lebenswelt und Wissenschaft in der Philosophie Edmund Husserls, hrsg. von E. Ströker. Fr./M.,
1979.
6. Bohrmann K. Die Welt als Verhältis: Untersuchungen zu einem Grundgedanken in den späten
Schriften Martin Heideggers. Fr./M., 1983.
7. Couturier P. Monde et être chez Heidegger. Montreal, 1971.
Визгин В.П.
НИГИЛИЗМ (к позиции 2.2)
H. (от лат. nihil — ничто) — установка на отрицание основных общепринятых ценностей; понятие,
обозначающее тенденции к отрицанию высших ценностей, традиционно придающих цивилизации смысл и
оправданность, и поэтому используемое для критики общества и его культуры. Термин «Н.» встречается
уже в теологической литературе Средних веков. В философии выражение Н. впервые употребил, видимо,
Ф.Г. Якоби (1799 г.). Термин Н. прочно вошел в общественное сознание благодаря И.С. Тургеневу (Отцы и
дети, 1862). Характеристику русскому Н. дали СЛ. Франк и H.A. Бердяев, различивший его узкий
(«эмансипационное умственное движение 1860-х годов») и широкий (течения мысли, отрицающие «Бога,
дух, душу, нормы и высшие ценности» [1:37] ) смыслы. Считая русский Н. религиозным в основе своей
феноменом, Бердяев, однако, определяет его истоки противоречивым образом, считая их то христианско-
право-
434
славными, то гностическими. Нигилистическая ментальность (см.: Ментальность, II), заявленная в
образах Базарова, Рахметова и др., трансформируясь в ходе исторического развития, продолжается в
русском коммунизме, в котором она приобретает некоторые черты богоборчества в духе
вульгаризированного Ницше (например, у М. Горького).
В философии Ницше представление о Н. вырастает во всеобъемлющую концепцию, подытоживающую
все европейское историческое и культурное развитие, начиная с Сократа, выдвинувшего представление о
ценностях разума, что и явилось, по мнению философа, первой причиной возникновения Н., развивавшегося
затем на основе «морально-христианского истолкования мира». «Опаснейшим покушением на жизнь»
Ницше считает все основные принципы разума, сформулированные в европейской философской традиции
— единство, цель, истину и др. Под «клевету на жизнь» он подводит и христианство со всей его историей,
ведущей к его самоотрицанию через развитие ориентированной на науку интеллектуальной честности.
Таким образом, устойчивая нигилистическая ситуация в культуре Европы формируется благодаря тому,
учит Ницше, что «истинный мир» традиционных религии, философии и морали утрачивает свою
жизненную силу, однако при этом сама жизнь, земной мир вообще не находят собственных ценностей,
своего настоящего оправдания. Н., выражающий эту глобальную ситуацию, не есть, по Ницше,
эмпирическое явление культуры и цивилизации, пусть даже и очень устойчивое. Н. — это глубинная логика
всей истории Европы, своего рода роковая «антижизнь», ставшая парадоксальным образом жизнью ее
культуры, начиная с ее рационально-эллинских и иудео-христианских корней. Невероятная убыль
достоинства и творческой силы индивида в современную механизированную эпоху только радикализирует
действие этой логики и заставляет поставить кардинальный вопрос о преодолении Н. Ницше подчеркивает,
что «смертью христианского Бога» Н. не ограничивается, ибо все попытки его замены с помощью категории
совести, рациональности, культа общественного блага и счастья большинства или культа истории как
абсолютной самоцели и т. п. только усиливают тревожную симптоматику Н., «этого самого жуткого из всех
гостей». Попытку спастись от «обвала» высших ценностей, восстанавливая их секуляризованные имитации,

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
413-
-413
Ницше решительно разоблачает, указывая на «физиологические» и жизненно-антропологические корни Н. В
связи с этим социализм, по Ницше, есть только апогей указанного измельчания и падения типа человека,
доводящий нигилистическую тенденцию до ее крайних форм.
В понятии H. y Ницше можно увидеть формальное сходство его с идеей коммунизма у Маркса
(совпадают даже метафоры «призрака», бродящего по Европе), а также с темой «забвения бытия» у
Хайдеггера, давшего свое прочтение концепции H. y Ницше. Действительно, как «забвение бытия»
(Хайдеггер), так и декаданс жизненной силы (Ницше) одинаковым образом начинаются с Сократа и
развиваются параллельно в платонизме и в традиции европейской метафизики в целом. В обоих случаях
общим знаком преодоления этой «судьбы Европы» выступает профетически проповедуемый возврат к
мистико-дионисийской и досократовской Греции. Оригинальность Хайдеггера в трактовке Н., этой
пугающей «судьбы западных народов», в том, что он его рассматривает в свете проблемы ничто как «завесы
истины бытия сущего». По Хайдеггеру, недостаточность истолкования H. y Ницше состоит в том, что он «не
в состоянии думать о существе Ничто» [2:74]. И поэтому рационализм и секуляризация вместе с неверием не
причины Н., считает Хайдеггер, а его следствия. В этом тезисе состоит оригинальный вклад Хайдеггера в
концепцию Н., стремящегося дать ему новую, фундаментально-онтологическую трактовку.
Ницше не может понять Н., считает Хайдеггер, независимо от метафизики, им критикуемой, потому что
сам исходит в его анализе из идеи ценности (см.: Ценность, I), мыслящей «существо бытия... в его срыве»
[2:75]. В результате он остается в пределах Н. и метафизики, будучи, впрочем, «последним метафизиком». В
отличие от Ницше Хайдеггер связывает Н. с проектом Нового времени с его идеей автономного
самозаконодательствующего субъекта, ведущей к декартовскому механицизму, необходимому для
утверждения господства нигилистического человека над Землей.
По Камю, история современного Н. начинается со слов Ивана Карамазова «все позволено», раз Бога нет.
Понятие Н. анализируется им в связи с темой «метафизического бунта» (la révolté), причем вехами его
истории выступают романтики, Штирнер, Ницше, Достоевский. «Н., — подчеркивает Камю, — не есть лишь
отчаяние и отрицание, но прежде всего воля к ним» [3:467]. В наши дни понятие Н. используется критиками
современной цивилизации, например, австрийским философом и публицистом В. Краусом, различающим
социально-политический, психолого-невротический и философский типы Н., причем все его виды взаимно
поддерживают друг друга, усиливая свои негативные последствия и создавая тем самым что-то вроде
порочного круга нигилистического синдрома. Различные формы Н., по Краусу, связаны с упадком чувства
вины и личной ответственности в век господства научно-технической картины мира, а также с тем,
435
что в структуре внутреннего мира современного человека недостаточно выражено влияние сверх-«Я» как
противовеса для безудержных вожделений индивида. Современный Н., считает Краус, это традиционный Н.,
описанный в философии и литературе XIX в., плюс невротические его проявления, во многом характерные
именно для сегодняшнего дня. Новая идололатрия, например, рынка, считает он, также ведет к усилению
разнообразных нигилистических тенденций, представляющих угрозу для свободы, достоинства и
выживания человека [4].
Библиография
1. Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 (1937).
2. Хайдеггеры. Европейский нигилизм // Время и бытие. М., 1993.
3. L'homme révolté // Essais. P., 1965.
4. Kraus W. Nihilismus heute oder die Geduld der Weltgeschichte. Wien, 1983.
5. Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. М., 1994.
6. Франк СЛ. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 167-199.
7. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
Визгин В.П.
РЕНЕССАНСНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ: ДЖ. БРУНО (к позиции 2.1)
Джордано Бруно (1548 — 1600) — фигура неоднозначная в историческом ее восприятии, пусть и
лишенная в своих многочисленных сочинениях единой строгой философской системы рациональной мысли,
но зато художественно яркая и по-своему цельная, забегающая в своих построениях далеко вперед и в то же
время воспроизводящая уходящие средневековые типы мышления. Философская мысль Бруно неотделима
от мифопоэтической формы ее представления, насыщенной аллегориями, образами античной мифологии, в
ней чувствуется влияние традиций дидактической поэзии, риторики, искусства памяти, различных течений
средневековой и ренессансной мысли, что создает из творчества этого философа-поэта уникальный
памятник культуры позднего Возрождения. Своеобразный «барочный характер» мыслительного стиля
Бруно, проявляющийся, например, в том, что он легко смешивает классы явлений совершенно различного
плана, выражает, во-первых, центральную для него интуицию живого бесконечного всеединства, а во-
вторых, отсылает к стилистике натурфилософской литературы того времени, образцом которой можно
считать творчество Палингения (автора космологической поэмы «Зодиак жизни») или земляка Бруно Дж. Б.
делла Порты, автора «Натуральной магии» (1558). «Среди
различных способов лечения, — говорит Теофил, alter ego Бруно, — я не отвергаю тот, который

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
414-
-414
производится магически, при помощи приложения корней, привешивания камней и нашептывания
заговоров... Одобряю я и тот, который производится физически при помощи аптекарских средств...
Приемлю я также и тот, который производится химически, извлекает квинтэссенции и при помощи огня
заставляет ртуть выпариваться...» [1:238] В этом кредо медицинского плюрализма глядящая в будущее
химиотерапия свободно и на равных сочетается с талисманами и заговорами герметической магии.
Хотя взгляды Бруно претерпевали определенное развитие и об их строгой системе, как мы сказали,
говорить трудно, тем не менее у него четко прослеживаются две центральные интуиции — идея всеединства
и идея бесконечности, объединяемые им в одну идею бесконечной единой всецелостности, являющейся
живым тождеством всего, всех мыслимых противоположностей и прежде всего таких фундаментальных
онтологических категорий, как возможность и действительность, материя и форма и т. п. В отличие от
неоплатоников и досократиков, которые, как он считал, близко подошли к постижению этой идеи,
Аристотель не сумел помыслить такое всеединство и своим авторитетом на долгие годы затруднил его
познание. При этом Бруно считал, что прямых выразительных возможностей рациональной мысли
недостаточно для раскрытия содержания такой интуиции. Поэтому он использует как рациональные модели
(например, представления арифметики, проводя аналогию между единицей и единым), так и различные
художественные приемы и символы (типа «светящейся ночи»).
Учение Бруно о едином интересно тем, что в его рамках он отстаивает права категории различия перед
опасностью ее унификаторского истолкования, разделяемого, кстати, в его время, например, таким близким
к нему по духу мыслителем, как Т. Кампанелла (1568-1639). Как считает Бруно, сообщения между мирами, в
том числе и между мирами различных культур на Земле, не должны вести к их нивелировке, к ассимиляции
одним миром других. Видимо, усвоив опыт недавней насильственной колонизации Америки, Бруно придает
ему глубокое философское и культурное звучание. Возможно, что сама настроенность мысли Ноланца на
эстетику барокко с ее культом разнообразной сложности, с ее невозможностью «растворить» в одной
доминанте не укладывающееся в нее разнообразие способствовали этой апологии различия, тем более
интересной, что ее мы находим у философа всеединства.
Божественное начало, скрытое в природе, у Бруно блещет и сверкает великолепием красоты и жизнен-
436
ности. Жизнь пронизывает собой всю Вселенную, и поэтому в ней нет иерархически
привилегированного места, откуда бы могло исходить начало движения. Бруно несколько модифицирует
герметико-неоплатоническую по своим истокам формулу Кузанца («машина мира имеет свой центр
повсюду, а периферию — нигде»), говоря, что «Вселенная — вся центр и вся — периферия» [2:143].
В личности и творчестве Бруно соединяются самые непримиримые, казалось бы, противоположности.
Действительно, с одной стороны, он необыкновенно чуток к новым идеям, значимым для возникающей
новой науки. Так, например, в физике и астрономии он решительно отвергает теорию «естественных мест»
Аристотеля и становится убежденным коперниканцем в то время, когда мало кто в Европе слышал о
великом реформаторе неба. Но в то же время, с другой стороны, Бруно находил для себя опору в магико-
герметической традиции. Только с подъемом новой науки уже в XVII в. эта традиция будет вытеснена в
культурный андерграунд. Но в эпоху Бруно она еще полна претензий на универсальный синтез наук,
включая и духовно-религиозное ядро мировоззрения. И оставаясь в орбите этой традиции, Бруно выступает
скорее все же архаистом, чем новатором, потому что его младшие современники, такие, как Кеплер и
Галилей, занимались наукой как автономной деятельностью, полагая, что книга природы написана на языке
научной математики, и поэтому не примешивая в свои математические расчеты герметические соображения.
Бруно считал, что языки монотеистических религий Писания и Слова уступают языку политеистической
религии природы, жизни и посюстороннего мира древних египтян, которую он излагает по герметическим
источникам. Так, например, в его диалоге «Изгнание торжествующего зверя» Изида от имени богов говорит:
«Мы, боги, желаем, чтобы люди слушали и понимали нас не в звуках тех наречий, какие они измыслили, но
в звуках явлений природы» [6:214]. В соответствии с такой установкой высшим языком общения человека с
богами выступает язык самих вещей. Если человек стремится к победе над врагом, то ему следует
обратиться к «великодушному Юпитеру» с помощью жертвы в виде орла, так как орел уже сам собой
указывает на то, чего хочет человек от божества. Если же у богов просят осмотрительности в делах, то
жертвой им должна стать змея — существо умное и осторожное. «Нет никакого основания, — говорит
Бруно, — насмехаться над магическим и божественным культом египтян» [6:218]. Он считает, что звезда
этого культа закатилась временно, что победа монотеистических религий трансцендентного Бога над
пантеис-
тической и политеистической религией посюстороннего мира не является прочной, что грядет возврат
этой истинной веры и он, Ноланец, является ее пророком и предтечей. Знаком ее восхода он считал
гелиоцентрическое учение Коперника, математические выкладки которого его мало интересовали.
Ренессанс — эпоха по преимуществу южноевропейская, итальянская — вспомним «сфумато» Леонардо,
тонкость и нежность линий Боттичелли, всю эту странную и волнующую, несущую аромат тайны и
«секрета» поэтику цвета и формы, которую невозможно не почувствовать, скажем, во Флоренции или в
Ферраре, заглянув во дворец Скифанойа. А уж если мы доберемся до Сьены и зайдем в ее кафедральный
собор, то прямо в центральном нефе, у нас под ногами, раскроется тот самый «ключ» к «секрету» культуры
Ренессанса, тот буквально магический «сезам», открытие которого и стало славой выдающегося

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
415-
-415
английского историка, Ф.А. Ейтс (Йейтс). Мы имеем в виду исполненное в жанре мозаики изображение
Гермеса Трисмегиста (художник Джованни ди Стефано, 1488 г.), «современника Моисея», как гласит
латинская надпись под его фигурой. Именно это изображение было выбрано Ейтс художественным
эпиграфом к ее знаменитой книге о Дж. Бруно и герметической традиции [3].
Читая Бруно, мы отмечаем одно, казалось бы, незначительное обстоятельство — у него слова
«доктрина», «знание» и т. п. нередко стоят в одном ряду со словом «секрет». И это не случайно: для Бруно
знание, а значит — вспомним Платона (Федон 72 с. 5) — и память, есть, по определению, тайнознание. Он
верит в единую и вечную Мудрость, в prisca theologia, родоначальниками которой считались Гермес,
Моисей, Пифагор, Орфей, Зороастр, Платон... Здесь для нас важен не список сам по себе, который мог,
впрочем, и незначительно варьироваться, но сама вера в секрет и в посвященных в него. Исследуя
ренессансную культуру, Ейтс настолько глубоко слилась с душой любимого ею Возрождения, что сама
попала под чары его «секретомании». Поэтому неудивительно, что некоторым ученым она могла показаться
своего рода адептом магии... Как бы предвосхищая подобное впечатление, она в конце своей статьи,
посвященной науке Ренессанса, подчеркивает, что она, однако, вовсе не маг, но и не позитивный ученый в
современном смысле слова. «Я только историк», — говорит она [4:274]. Нелишне добавить — историк
Ренессанса. Действительно, трудно представить ее историком какого-либо другого времени: настолько она
конгениальна избранной ею эпохе.
Занимаясь Бруно, она намеревалась издать перевод его диалога La cena de le ceneri («Пир на пепле» — в
русском переводе), в котором в типично ренессансно-
437
барочном ключе изложены перипетии бесед Ноланца в доме Фолка Гревилла, поэта и драматурга. Вот
тогда-то и возникло у нее томящее чувство «секрета»: зачем эта южно-италийская комета ворвалась в
туманы пуританского Альбиона? Почему с такой страстью Ноланец проповедовал здесь коперниканскую
систему, вовсе не собираясь при этом доказывать ее математически? Что за всем этим стояло? Вставали и
другие вопросы подобного рода, ответа на которые она не находила. Хотя многие факты историку были
известны, но в целом пребывание Бруно в Англии, с его спорами с профессорами Оксфорда и с проповедями
английским поэтам, оставалось для Ейтс подернутым чарующей дымкой какой-то неузнанности,
неизвестности, тревожащей, но в то же время как бы уверяющей, что все это можно раскрыть и что разгадка
«секрета» лежит в нашей душе. Надо только вспомнить... И так, или почти так, она вышла в конце концов
на тезис о «герметическом импульсе» как ключе не только к Бруно и к его визиту в Англию, но и к генезису
всей новоевропейской науки.
Секреты ренессансного искусства памяти, которым бесподобно владел Дж. Бруно, и загадка Шекспира с
его театром «Глобус» связываются английским историком. На первый взгляд, казалось бы, что может быть
общего у знаменитого «мнемоведа» из Нолы и величайшего английского драматурга? Но, как показывает
Ейтс, их соединяет Воображение и его воплощение — Театр. Ключевыми фигурами этой театрально-
оккультной традиции выступают Джулио Камилло (р. 1480) из Венеции и Роберт Флудд (1574-1637),
знаменитый английский врач-оккультист, автор герметических сочинений, полемика с которым со стороны
М. Мерсенна (1588-1648) и И.Кеплера (1571-1630) знаменует собой решительное размежевание новой науки
с герметической магией, включавшей в себя и отдельные элементы рождающейся науки. Бруно, будучи
доминиканским монахом, уже тем самым, в силу традиций ордена, был лучше многих посвящен в
средневековое и ренессансное искусство памяти. Тогдашняя Европа знала его не столько как философа или
поэта, сколько как выдающегося «искусника памяти», посвященного как никто другой в ее секреты,
овладеть которыми пытались сильные мира сего. Памятуя историю с Дж. Мочениго, пригласившим Ноланца
обучать его тайнам искусства памяти и выдавшим его инквизиции, можно сказать, что и слава и гибель
Ноланца оказались исходящими, по сути дела, из одного и того же источника — из его герметического
искусства памяти.
В истории европейского искусства памяти Дж. Бруно — одна из центральных фигур. Цитируя
Аристотеля («мыслить — значит созерцать в образах» — О душе
431 а 17), он вкладывает в эту мысль Стагирита совсем не то, что тот хотел сказать (что мышление без
опоры на чувственное восприятие вещей невозможно). В данном случае авторитет Философа понадобился
Бруно для того, чтобы провести свой тезис в духе александрийского неоплатонизма, состоящий в том, что
воображение столь ценно для мысли потому, что служит проводником божественных воздействий на
человека. Тем самым он совершает переход от традиции классического искусства памяти к оккультной ее
модификации. «Ошеломляющая поглощенность воображением» [5:370] возникает у него именно из-за
явных оккультно-магических коннотаций его искусства памяти. Традиционные мнемонические образы при
этом талисманизируются (т. е. магически активируются), а сами талисманы (списки которых ему были
хорошо известны из соответствующей традиции) мнемонизируются. В результате такой метаморфозы
искусство памяти становится надежной базой для магико-герметической религиозно-имажинативной утопии
Ноланца, проповедником которой он и выступал в своих скитаниях по Европе в поисках как покровителей,
так и адептов.
Ситуация, в которой оказался Бруно, иначе чем положением между молотом и наковальней трудно
назвать. Действительно, он бежал из Италии, порвав все связи со своим орденом и тем самым — с
католицизмом, немыслимым без соответствующей системы образов. Но оказавшись среди пуритан Англии,

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
416-
-416
многие из которых были сторонниками Петра Рамуса, отвергавшего имажинативную основу мысли в пользу
рациональной диалектики, он как бы завис в «мертвой точке». Такое положение не могло не добавить желчи
в его сарказмы, так что он в конце концов начинает открыто предпочитать католическое монашество
профессорам английских университетов. Опыт испытанной им нетерпимости со стороны кальвинистов
Женевы в августе 1579 г. действовал в том же направлении. В этой ситуации ему не оставалось ничего
другого, как идти по пути оккультной герметической образности, отвергая одновременно и
христианизированный окатоличенный герметизм, и лишенный имажинативных корней педантизм логиков и
грамматиков рамистского направления.
Мир, в эпоху Средних веков стоящий под знаком (божественной) Книги, в эпоху Возрождения
оборачивается книгой (обожествленного) Мира. Емкая метафора «книги мира» становится универсальным
топосом не только Возрождения, но и того, что из него воспоследовало, — эпохи Нового времени с новой
наукой в центре ее проекта (Декарт переходит от «мира книг» к «книге мира», le grand livre du monde, a
Галилей подчеркивает, что эта книга написана на языке мате-
438
матики). Важную роль в этой инверсии метафорического поля культуры сыграло маргинальное для
нашего современного восприятия искусство памяти. Базовая для всей культуры метафора чтения (мира)
материализуется благодаря открытию книгопечатания, разрушающего, как подчеркивает Ейтс, «вековые
обычаи искусства памяти». В результате значение искусства памяти ставится под вопрос, что способствует
его маргинализации. В свою очередь, подъем гуманистического движения (см.: Гуманизм, II), особенно в
его Эразмовой версии, тоже маргинализирует его, вытесняя «из первичного центра европейской традиции»
[5:165]. В -этой критической ситуации искусство памяти (его символ — Мнемозина) спасает его союз с
герметической традицией (Гермес — ее символ). В результате классическое искусство памяти превращается
в оккультное искусство со своей специфической магически активированной образностью. Это означает, что
особым родом понимаемое художественное начало («внутренний художник» как своего рода natura naturans)
обеспечивает тождество ключевых культурных фигур — Мыслителя, Поэта и Художника (к нему,
оглядываясь на Бруно, следует добавить, на наш взгляд, и образ религиозного Реформатора-Пророка).
Иными словами, благодаря перешедшей в союз встрече Мнемозины и Гермеса имагоцентричный пласт в
культуре Европы смог продлить свое существование, поставленное под угрозу в XVI в.
Существенной структурой в этом процессе был Театр, который обогащал метафорическое поле
культуры, способствуя удержанию его имажинативного наследия в новых условиях. Театр в качестве
космологической метафоры («весь мир — театр») возникает прежде всего в венецианской версии
христианизированного герметизма у Дж. Камилло. В Средние века мир как театр был еще и «позорищем» в
негативном смысле, ибо его, мира, истина была ему трансцендентна. Но в эпоху Возрождения набирает силу
тезис, выраженный Бруно устами Саулина в его самом откровенно «еги-петско»-герметическом диалоге:
natura est deus in rebus (природа есть бог в вещах) [6:213]. Это — «пантеизм» (все есть Бог), который иногда,
но редко (напр., Бердяевым) прочитывается и справа налево, т. е. как «тео-пантеизм» (Бог есть все). И
поэтому мир (см.: Мир, II) раскрывается как божественное великолепие, как живая бесконечность, и
исповедующий подобное «миро-верие» Ноланец гордо говорит о себе в том же диалоге как о «слуге мира» и
«сыне Отца-Солнца и Матери-Земли» (до ницшевского «будьте верны Земле, братья!» отсюда, если
расстояния в истории культуры измерять экспресслогикой мысли, а не годами, совсем недалеко).
Трансцендентное стало имманентным. И еще в
начале XVII в. вкус, цвет, аромат такой не вполне секуляризированной божественности ярко пылает,
смешиваясь без ущерба для нее со всеми качествами земли и неба (Я. Бёме). Но когда на традицию
оккультного театра «теней идей», стоящих под астрально-магическими знаками-«изваяниями» позднего
Бруно (речь идет о религиозно-мистическом аллегоризме Бруно в сочинении «Светильник тридцати
изваяний», написанном в 1588 г. в Виттенберге, но впервые изданном только в 1891г. [5:359-363];
посредством аллегорических изваяний — Бездна, Аполлон, Сатурн и т. д. — ум поэта-художника-философа
возносится к божественным персонифицированным силам мироздания) проливается ледяной душ
картезианского метода, то божественность одухотворенного мира уступает место блистательной
галантности звездного театра Фонтенеля, секретом которого выступают не Бог и не боги, и даже не демоны,
духи и оккультистские «деканы» герметизма, а банальные рычаги, шарниры, лебедки, пружины или их
естественные аналоги, действующие по механическим законам с их математической неумолимостью (О
картезианском театре миров у Фонтенеля см. [7]). Воцаряется машинерия мировой сцены, означающая
вторую смерть Пана (еще раз после прихода в Европу христианства), а заодно — и союза Мнемозины и
Гермеса.
Библиография
1. Бруно Дж. Диалоги. М., 1949.
2. Bruno G. Dialoghi italiani. Dialoghi metafisici e dialoghi morali. Firenze, 1958.
3. Yates F.A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964 / Пер. Г. Дашевского. M.,
2002.
4. Yates F. A. The hermetic tradition in Renaissance science // Art, science and history in the
Renaissance. Baltimore, 1968.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
417-
-417
5. Йейтс Ф. Искусство памяти. С. 370.
6. Бруно Дж. Изгнание Торжествующего Зверя. Самара, 1997.
7. Визгин В. П. Идея множественности миров. М., 1988. Гл. VI.
Визгин В.П.
РЕСЕНТИМЕНТ (к позиции 2.2)
Ресентимент (от франц. ressentiment) — окрашенное недоброжелательством переживание прошлых
обид, унижений или оскорблений, мстительная злопамятность, «затаенная обида» (М. Вебер), вторичная и
отравленная эмоция, источающая яд. Понятие, обозначаемое этим французским словом (ему нет точного
аналога в других языках), было введено в философию культуры Ф. Ницше, использовавшим его в своей
генеалогии морали. «Священник — говорит Ницше — есть переориентировщик ressentiment» [1:497].
Ницшевская переориентация Р. аналогична фрейдовской сублимации либидо. Концепция Р., лежащая в
основе генеалогии морали (см.: Генеалогия, II), выступает своего рода
439
путеводителем по подсознанию, средством проникновения в его мир. Представляя собой устойчивую
негативную эмоцию, которую в обществе надо скрывать, Р. выступает подходящей основой для вытеснений,
проекций и других подобных превращений его динамики, описанных в психоанализе для либидо.
«Восстание рабов в морали — говорит Ницше, имея в виду генеалогические корни христианской морали, —
начинается с того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности: ressentiment таких
существ, которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступке,
вознаграждают себя воображаемой местью» [1:424]. Здесь подчеркнута психоаналитическая
амбивалентность Р.: переживающий это чувство сам не способен к его прямому обнаружению. Р. — сжатая
«пружина» негативных эмоций, имеющих своего адресата в лице тех, кто ее изначально спровоцировал, или
тех, на кого они направились в порядке вымещения. И если эта «пружина» не может распрямляться сразу
прямо и естественно, то тем сильнее она бьет украдкой, в трансформированном виде, отравляя своими
«токсинами» и своего носителя.
«Вытесненная ненависть, месть бессильного», утверждает Ницше, создает поворот оценивающего
взгляда, заменяя аристократические ценности ценностями «упадочническими», декадентскими —
христиански-моральными. Смешивая филологию с физиологией, Ницше рисует тип «человека Р.»,
выступающий противоположностью аристократическому типу с его силой, прямотой, откровенностью,
естественностью тона. «Человек ressentiment, — говорит Ницше, — лишен всякой откровенности,
наивности, честности и прямоты к самому себе. Его душа косит, ум его любит укрытия, лазейки и задние
двери, все скрытое привлекает его как его мир, его безопасность, его услада, он знает толк в молчании,
злопамятстве, в сиюминутном самоумалении и самоуничижении» [11:426].
В своей теории Р. Ницше наделяет это явление огромной исторической и культурогенной силой,
усматривая в истории не только отдельных людей, принадлежащих к ресентиментному типу, но и целые
народы и культуры. И Реформацию (XVII в.), и Революцию (конец XVIII в.) он рассматривает как события,
вызванные волнами «народных инстинктов ressentiment».
«Среди сделанных в Новейшее время немногочисленных открытий в области происхождения моральных
оценок открытие Фридрихом Ницше Р. как их источника — самое глубокое, несмотря на всю ошибочность
его специального тезиса о том, что христианская мораль, а в особенности христианская любовь, —
утонченнейший цветок Р.» [2:11]. В этих словах М. Шелер, внесший существенный вклад в разработку
понятия
Р., указывает одновременно на силу и слабость концепции Р. Ницше. По Шелеру, Р. — это глубоко
залегающий эмоционально-волевой комплекс, проявляющийся в самых разных исторических
социокультурных ситуациях. Шелер стремится придать Р. метафизическую значимость, рассматривая его
как пронизывающую весь мир антилюбовь, гнездящуюся в сумерках сознания, скрывающуюся в
подсознательном слое психики. Но прежде всего он дает феноменологическое и культурно-социологическое
исследование Р., который может проявляться в отношениях полов в браке, людей различных классов,
возрастов, национальностей и т. п. Терроризм, приводящий к гибели случайно попадающих под его удар
людей, это, по Шелеру, тоже проявление Р. [2:44]. В период социальных революций стихия Р. буквально
затопляет общественную сцену. В частности, в эпоху Французской революции, считает Шелер, «страшный
взрыв Р.» [2:20] был во многом обусловлен тем, что особую остроту мстительным чувствам низов придавало
то обстоятельство, что на 4/5 состав тогдашней французской аристократии был рекрутирован из
обогатившихся представителей третьего сословия. И поэтому мещане или буржуа, оставшиеся в своем
сословии, особенно гневно ненавидели «мещан во дворянстве» — тем удалось возвыситься, а им, таким же,
как и они, не удалось. Кроме того, Р. подхлестывало и остро переживаемое чувство равенства, возбужденное
революционной пропагандой. Антиномия здесь была такова: равенство по праву и неравенство по факту. И
вызванное ею напряжение на бессознательном уровне не могло не усиливать Р.
Отдавая должное оригинальности, проницательности и новизне подхода Ницше к проблеме Р., Шелер не
соглашается с ним в существенном пункте: «Несмотря на то, что христианские ценности крайне легко
поддаются перетолкованию в ресентиментные и слишком часто именно как таковые их и понимают, —
говорит он, — семя христианской этики взросло отнюдь не на почве Р. В то же время мы полагаем, что
буржуазная мораль, которая начиная с XIII в. все больше вытесняет христианскую и достигает своего
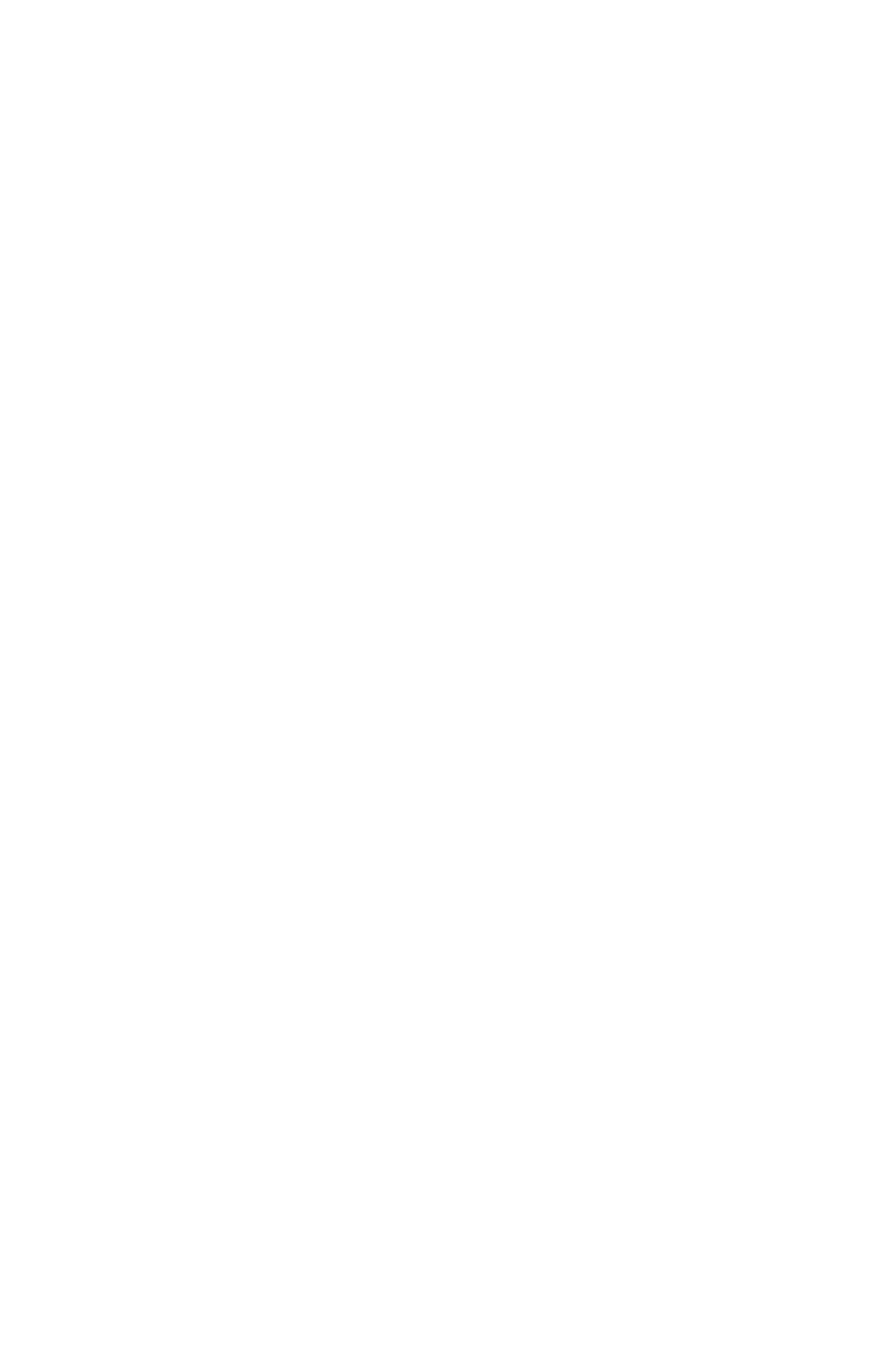
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
418-
-418
апофеоза во Французской революции, уходит своими корнями в Р. Именно Р. стал одной из самых
влиятельных сил в современном социальном движении и в значительной мере преобразовал действующую
мораль» [2:68-69. Курсив автора. — В.В.]. Человек Р., по Шелеру, это зависимый, духовно слабый человек,
уклоняющийся от творчества, ведущего к контакту с самими вещами, и выбирающий более безопасный и
облегченный путь учета и критики чужих мнений о вещах. Такой человек, подчеркивает Шелер,
«отказывается от собственного познания
440
того, что есть добро, и начинает искать опору в вопросах «А что думаете Вы?», «А что думают все?»
[2:163]. Человек Р. — конформист и оппортунист, а поэтому и релятивист. Можно сказать, что кантианство
в морали есть эффект ресентиментного сознания просвещенской буржуазии, подменяющей предметность
добра идеей о нем, «общезначимым законом человеческой воли». Шелер не отрицает общезначимость как
объективность добра, но он отвергает как несостоятельную попытку свести добро к формальной максиме,
пригодной для того, «чтобы стать общезначимым принципом» [2:164]. Он усматривает в таком формализме
«общезначимого» Р. по отношению в позитивным культурным формам, выводящим человека на контакт с
самим бытием. Шелер выстраивает вертикально ориентированную шкалу ценностей, в плане которой
ценности «общезначимого» оказываются далеко не на ее высоте. Читая эти страницы Шелера, понимаешь,
почему в последние годы своей жизни он дружил с С.Л. Франком, русским философом, стремящимся к
соединению платоновского онтологизма с экзистенциально-библейской традицией мысли.
Каково же в главных чертах отношение Шелера к концепции Р., выдвинутой Ницше? Шелер заимствует
ее содержательное ядро, но смещает основную «работу» Р. в истории с эпохи Сократа и первоначального
христианства к эпохе эмансипации третьего сословия и роста городов (XIII-XIV вв.), получившей свое
оформление в Новое время. Если Ницше отождествлял христианскую мораль и современную ему
буржуазную мораль, то Шелер, напротив, их четко разделяет, принимая тезис об основополагающем вкладе
Р. в происхождение лишь последней. Р. у Шелера — это антропосоциокультурный аналог хайдеггеровской
«метафизики» как причины «забвения бытия», равно как и марселевской «техномании», ведущей к
деградации духовно-высокого, к сведению открываемого им онтологического измерения к усредненному —
общезначимому и формальному — субъективизму, к отрицанию основополагающей культурной функции за
откровением и трансцендентным, сопровождающимуся выдвижением на передний план того разума, или
даже рассудка (bon sens — здравого смысла), которым, по Декарту, в равной мере наделены все люди. Все
эти замены и искажения Шелер видит как проявление действия Р. «частично мертвого по отношению к
живому» [2:199], оставаясь в своей антропологии витальных ценностей в значительной степени в рамках
традиции философии жизни, самыми яркими и самыми близкими к Шелеру представителями которой были
Ницше и Бергсон. В то же время нельзя не сказать, что подход Шелера к проблеме Р. по отношению к его
концепции у Ницше обо-
гащен феноменологией и начавшейся как раз в годы создания труда о Р. его эволюцией к своеобразной
персоналистической метафизике, которая и сближала его как с С. Франком, так и с Г. Марселем.
Значительный вклад в разработку проблемы Р. внес М. Вебер. У Вебера не было какого-то
онтологического монизма. Он не сводил мировое целое, историю, культуру к одному принципу — будь то
экономика, воля к могуществу (власти) или сексуальность. Для него и экономические интересы, и
стремление к господству и социальному престижу, и, наконец, сексуальные импульсы — все эти факторы
характеризовали мир человеческих отношений в его динамике. И это не было эклектикой, потому что Вебер
как социальный теоретик был историком, а не отвлеченным схематиком. Как историк-эмпирик он говорил,
например, что если по отношению к иудаизму идея Ницше о «ресантимане» частично и верна, то совсем
ложна, если ее применить к буддизму. «Буддизм, — говорит Вебер, — совершенно неподходящий объект
для распространения на него генеалогической схемы Ницше», так как это — «религия спасения
интеллектуалов, последователи которой почти без исключения принадлежат к привилегированным кастам»
и поэтому ничего общего с моралью, основанной на мстительных чувствах низших групп, она не имеет
[3:165].
Генеалогия морали Ницше, использующая концепцию Р., по Веберу, отчасти как бы примыкает к
марксизму: «Общую, в известном смысле абстрактную, классовую обусловленность религиозной этики, —
пишет Вебер, — можно было бы как будто вывести после появления блестящего эссе Ф. Ницше из его
теории затаенной обиды (ressentiment), подхваченной и серьезными психологами» [3:46]. Контекст
цитируемой фразы содержит упоминание об историческом материализме, который вместе с другими
истолкованиями истории (Вебер это подчеркивает) связывает религиозную этику и интересы различных
социальных слоев «напрямую», считая первую функцией последних. Ницше, казалось бы, мог подтвердить
эту установку «с психологической точки зрения», однако, по Веберу, «тогда важнейшие проблемы
типологии религиозной этики получили бы очень простое решение» [3:46]. «Сколь ни удачно, — заключает
Вебер, — и плодотворно само по себе открытие психологического значения затаенной обиды, оценивать ее
социальный смысл следует с большой осторожностью» (там же). Для Вебера исторический аргумент всегда
хранил свою силу и был способен привести его к отказу от любой абстрактной схемы, от любой
претендующей на всеобщность и аподиктичность философии истории.
Для антиредукционистского вкуса Вебера теория Р. Ницше уж слишком сильно упрощает проблему,
кото-
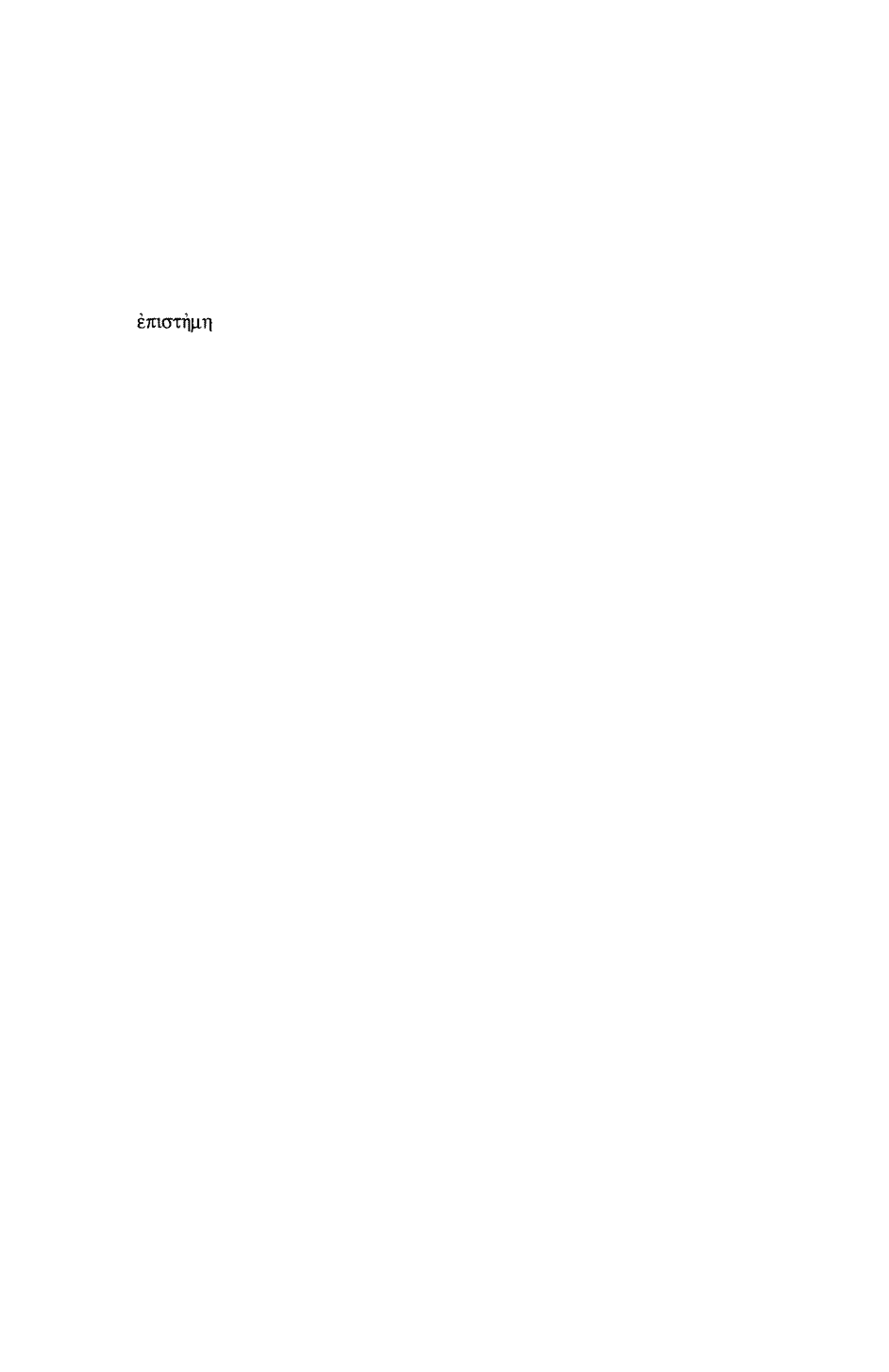
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
419-
-419
441
рая интересует Вебера, — проблему исторической типологии религиозных этик. Мотивы, которые
выявляет Вебер в качестве детерминант для различных типов этической рационализации жизненного
поведения, «большой частью, — говорит он, — не имеют никакого отношения к чувству обиды» [3:46], хотя
он и не отрицает психологического значения фактора затаенной обиды, впервые выдвинутого Ницше. В
основе критики Вебером концепции Р. Ницше или, быть может точнее, ее строгой коррекции лежит, во-
первых, принципиальный историзм Вебера (его, несмотря на все к нему стремление, не было у Ницше) и,
во-вторых, последовательный отказ ученого от метафизического истолкования истории и культуры. Вебер
не приемлет воли к власти как метафизического монопринципа, подпирающего теорию Р. у Ницше, в чем
можно видеть его верность заветам кантовской критики. Библиография
1. Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 407-524.
2. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999.
3. Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994.
Визгин В.П.
ЭПИСТЕМА (к позиции 2.2)
Э. (от греч. — знание) — основное понятие концепции «археологии знания» М. Фуко,
представленное в его книге «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» [ 1 ], в которой европейская
культура от Возрождения до наших дней рассматривается как определяемая тремя эпистемами —
ренессансной, классической и современной. Э. в этой концепции Фуко выступает как культурно-
познавательное априори, задающее условия возможности форм культуры и конкретных форм знания
определенной исторической эпохи, причем ее основу составляют скрытые структуры, определяющие способ
упорядочивания «вещей» в «словах» и обнаруживаемые в системе синхронистических изоморфизмов
культурных феноменов. На формирование понятия «Э.» повлияли «историческая эпистемология» Г.
Башляра и структуралистская традиция в гуманитарных науках, особенно широко представленная во
Франции. Выдвигая понятие «Э.», Фуко хотел преодолеть традиционную историю идей, строящуюся в
соответствии с заданными научно-дисциплинарными членениями и опирающуюся на понятия классической
рациональности и объективности знания. «Нам бы хотелось, — говорит Фуко, — выявить
эпистемологическое поле или Э., в которой познания, рассматриваемые вне всякого критерия их
рациональной ценности или объективности, утверждают свою позитивность и обнаруживают, т. о., историю,
являющуюся
не историей их возрастающего совершенствования, а, скорее, историей их возможности» [1:13]. В эпоху
Возрождения, по Фуко, в основе познания лежала категория сходства или подобия, действовавшая в
различных своих формах («пригнанность», «соперничество», «симпатия/антипатия» и др.). В классическую
эпоху (XVII - нач. XIX в.) упорядочивающее мир представление вещей в знаках осуществляется с помощью
категории тождества (и различия), поэтому характерным познавательным средством выступает таблица. В
современную эпоху (с нач. XIX в.) освоение мира осуществляется методами интерпретации и
формализации.
В «Археологии знания» (1969) понятие «Э.» не только существенно переосмысляется Фуко, но и вообще
отходит на задний план. Э. здесь — это уже не культурная трансценденталия, задающая способ
упорядочивания мира, а подвижная сеть отношений на уровне регулярностей дискурса как практики,
налагающая на его конкретные разновидности определенные ограничения. В философии науки понятие «Э.»
иногда используется в смысле, близком к значению понятия парадигмы, однако при сохранении
определенного различия между ними, обусловленного разными мыслительными контекстами формирования
этих понятий. Оба понятия подчеркивают своеобразие и дискретность крупномасштабных
интеллектуальных формаций, характерных для различных исторических эпох.
Библиография
1. Foucault M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. P., 1966.
2. Фуко M. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.
Визгин В.П,
ЯСНОСТЬ РАЗУМА: ДЕКАРТ (к позиции 2.1)
Я. — ключевое понятие философского метода Декарта. Общее правило, говорит Декарт, в том, что «все
вещи, воспринимаемые нами очень ясно и очень отчетливо, являются истинными». Я. при этом
фундаментальнее отчетливости, так как она без отчетливости возможна, но отчетливость без Я. — нет.
Определение же Декартом Я. до предела кратко: то, что дано внимательному уму (qui est présente et
manifeste a un esprit attentif [1:591]). Можно добавить: дано явно, очевидно. Аналогом здесь служит зрение,
четко осуществляющее свою функцию, когда вещи воздействуют на него достаточно сильно, чтобы их
видеть ясно. Здесь Я. не определена, а лишь пояснена сравнением ясно мыслящего ума с ясно видящими
глазами. Сравнение можно продолжить: нечто мыслится ясно, когда мыслимая вещь присутствует с
неотвратимой силой в мышлении внимательного ума. Итак, со стороны субъекта призна-
442
ки или условия Я. — внимание и расположенность мыслить, а со стороны объекта мысли — сила

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
420-
-420
самораскрытия вещи, мощь ее присутствия, воздействующего на внимательный ум. Само внимание и эта
сила присутствия вещи, очевидно, взаимосвязаны. Принимая во внимание эксплицитную дефиницию Я.,
вряд ли можно сказать нечто большее о ней, чем то, что это — несомненная усмотренность. Понятие света, в
том числе естественного, являющегося как бы элементом (стихией) Я., служит еще одним средством
пояснить понятие «Я.» [1:288].
Все мышление Декарта стоит под знаком Я., что отмечают историки философии. Декартова Я. — ясность
здравого рассудительного смысла, а не ясность ясновидца, воспринимаемого людьми как безумец (фигура
Кассандры). Правда, грань здесь тонка, и уже для ученых XVII в. многие физические идеи Декарта казались
безумными фантазиями. Например, Паскаль называл учение Декарта о природе «грезами» и «романным
вымыслом о природе, приблизительно напоминающим историю Дон Кихота» [2:641 ].
Я. Декарта как маску на лице неясном, неуверенном и неопределенном увидел Паскаль, сказавший о нем
inutile et incertain (бесполезен и ненадежен) [2:615]. Сомнительность, неуверенность, недостоверность и,
следовательно, корневую неясность — вот что прозрел Паскаль за Я. и несомненностью Декартова метода и
его принципов. Декартова Я. обнажилась как своего рода бессильное заклинание шевелящегося под ней
хаоса. Подобного типа квазипсихоаналитическое прочтение Декартова дуализма и механицизма, полностью
изгоняющего всякую ментальную природу из мира физики, мы предложили, опираясь на высказывания Ф.
Ейтс, раскрывающие своего рода возможный латентный герметизм Декарта [3:147-148]. Дементализация
мира, явленная в механистической картине Вселенной, для Декарта могла бы быть своего рода надежным
алиби от возможного его обвинения в крамольном (особенно в эпоху Контрреформации) герметизме и
магизме. Я. механицизма с его полной неодушевленностью мира «по истине» (мира тел) как бы лишь
внешне прикрыла этот дымящийся хаос сил, который вновь, как джин из бутылки, будет выпущен Ницше,
этим антиподом Декарта. Причем выпущен парадоксальным, так сказать, изнаночным образом, как бы
дублирующим его, выбалтывая его секреты и вытеснения.
Я. и очевидность, о которых так много говорит Декарт как об общих и неизменных свойствах ума, ему
естественным образом присущих, есть миф философа. Дело в том, что никогда этой Я. в неизменном виде в
истории не существовало. И сама история восприятия Декарта это показывает достаточно ясно. Следуя
тому же принципу Я. и очевидности, Вл. Соловьев из той же посылки ( cogito, «я мыслю») «вывел»
совсем иное, чем Декарт [4:781, 783]. Затем тот же шаг сделал и Гуссерль, отбросивший вовсе не очевидную
(по крайней мере для него) метафизику декартовского «Я» или «Эго» [5:21]. Увы, исходные
методологические и метафизические принципы воспринимаются различно в разные эпохи. Однако Декарт
верил в неизменность разума. И это и был его миф, который он, впрочем, передал и Просвещению, столь
сильно им подготовленному.
Для характеристики декартовской Я. как Я. классической новоевропейской культуры существенно то,
что можно назвать исключением, или, точнее, нейтрализацией языка. Ко времени Декарта открытие нового
человека, или человека Нового времени, — уже свершившийся факт, о чем свидетельствует, например,
Монтень, рассуждающий о том, что «мудрости свойственна никогда не утрачиваемая ясность» [6:205], какая
существует лишь в надлунном мире. Эти Я. и предпочтение, которое нужно отдавать доводам кратким и
точным, не могли бы иметь места, если бы язык как непокорная для рациональности нового типа стихия не
был нейтрализован, эпистемически нивелирован. Вот как Монтень выражает это, на наш взгляд, одно из
основных условий классического мышления: «Это словам надлежит подчиняться и идти вслед за мыслями, а
не наоборот, и там, где бессилен французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи
преобладали, чтобы они заполняли воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о
словах» [6:218]. Подобное послушание слов мыслям и есть упомянутая нами нейтрализация языка.
Словоприемное устройство разума конструируется таким образом, чтобы принимались в учет лишь логико-
аналитические параметры языка, равняющие один естественный язык с другим. И поэтому неудивительно,
что «век гениев» говорит на латыни и одновременно переходит к национальным языкам, но еще дублируя
их в универсальном языке ученого посредничества. В эпоху Возрождения правил бал именно язык — он
силой своей безучастной к логике вещей семантики сближал геральдических змеев с объектами научной
серпентологии (например, у Альдрованди). Этот режим построения дискурса подпирала соответствующая
метафизика с ее постулатами всесильности подобий, симпатий, антипатий и аналогий. Такое господство
человеческой речи над логосом самих вещей подвергается иронии и насмешке в XVI в. (напр., у Рабле и
Монтеня). Возникает поворот от слов к вещам. И восхождение установки на скромное, но точное и ясное
знание самих вещей сопровождается «дрессировкой», опрозрачиванием язы-
443
ка, способствующим вхождению его в новую эпистемическую дисциплину опыта и скупого, но ясного
естественного света. И это новое соотношение слов и вещей характеризует основную установку
классического мышления, проявившуюся в механистической науке и в новой метафизике. В этом рубежном
повороте Декарт — звезда первой величины. Литературно-моралистический портрет нового человека,
набросанный великим эссеистом (особенно в гл. XVI, ч. I «Опытов»), Декарт перевел на язык метафизики и
научной методологии. Если в этом отношении Монтень протягивает руку Декарту, то в позиции, занятой
перед лицом безумца и безумия, два великих француза расходятся между собой. Монтень допускает безумие
самой мысли. Исключение языка в его непокорности новой рациональной дисциплине опережает подобное
исключение безумца из сообщества новых рационально мыслящих людей. Декарт, как его, на наш взгляд, в
