Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
441-
-441
Легитимация нового явилась одной из необходимых социокультурных предпосылок мощного научно-
технологического прогресса XIX-XX столетий, который вывел страны Запада на рубежи
постиндустриального общества. Ограничения свободы творчества, воспроизведение некоторых
социокультурных механизмов традиционного общества, видимо, находятся в числе тех причин, которые
привели к краху советского строя.
Каждая Л. принадлежит своей эпохе. Ее собственное отношение к окружающим людям, к обществу и его
проблемам, к явлениям культуры, направленность ее действий определяются условиями ее социального
бытия, но преломленными через ту систему ценностей, которые эта Л. усвоила. Человек обладает
относительной свободой воли, он активно избирательно относится к окружающему миру и выбирает
ценности, которые служат ориентирами в ее деятельности. Поэтому в одних и тех же условиях появляются
совершенно разные люди, т. е. плюрализм ценностей служит индивидуализации личностей.
Конечно, на этот выбор и вообще на поведение людей влияют и внешние силы и условия. Но одни легко
поддаются этим влияниям, другие способны им противостоять. Самостоятельность в решении вопросов, в
поведении зависит от силы воли человека, от степе-
466
ни его личностного развития. В идеале каждая Л. автономна и суверенна. Но хотя реальность далека от
него, было бы односторонне считать Л. лишь тех, кто отвечает этому идеалу. Если Кант развил идею
автономии Л., то Гегель связал Л. с содержанием ее деятельности. Эту мысль выразил С.Л. Рубинштейн: «Л.
тем значительнее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее».
Библиография
1. Кантор В.К. В поисках личности: опыт русской классики. М., 1994.
2. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984.
3. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
4. Рубинштейн СЛ. Бытие и сознание. М., 1957. С. 309.
5. Соколов Э.В. Культура и личность. Л., 1972.
6. Туровский М.Б. Культура, личность, история // Философские основания культурологии. М.,
1997. С. 333-344.
7. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. Работы разных лет. М., 1989.
Келле В.Ж.
МАССЫ (ТОЛПЫ) (к позиции 6.5)
В политическом лексиконе XIX в. слово «М.» (как и его синоним — Т.) использовалось достаточно часто
в смысле объединения людей из простонародья. Например, «народные М», «пролетарские М.»,
«крестьянские М.» и т. п. Его превращение в термин происходит в конце Х1Х-первые десятилетия ХХ в. в
связи с процессами разрушения традиционного сословного общества и выходом на авансцену истории
новой социальной общности, со своей особой формой политического действия, экономики и культуры. По
образному выражению С. Московичи: «Разумеется, толпы существовали всегда, невидимые и неслышимые.
Но в этом своеобразном ускоренном движении истории они разорвали путы. Они восстали, став видимыми
и слышимыми — и даже несущими угрозу существованию индивидов и классов из-за их тенденции все
перемешивать и обезличивать»[1:51].
Причем термин «М.» постепенно начинает определять не столько деклассированную прослойку бывших
мелких торговцев, пролетариев или крестьян («дно общества»), сколько особый тотальный срез через все
слои общества. В этом смысле каждый человек в той степени, в которой он включен в обезличенные
(деперсонализированные) связи (экономические, политические или культурные) оказывается человеком М.
независимо от того, беден он или богат, капиталист или пролетарий. С этой точки зрения значение термина
«М.» отличается от значений близких к нему слов «чернь», «пролетариат», «люмпен-пролетариат», «сброд»,
«плебс» и т. д.
Следует учитывать, что хотя в социологическом и культурологическом смысле термин «М.» обычно
синонимичен термину «толпа», однако эта синонимия неустойчива. В некоторых случаях (причем у одних и
тех же авторов) толпа рассматривается как разновидность М. Ле Бон, к примеру, иногда говорит о толпе как
о «раскрепощенной массе». У Ортеги-и-Гассета толпа выступает как слово обыденного языка, а М. как
соотнесенный с ним исходно социологический термин, который впоследствии приобретает расширенное
культурологическое значение. Г. Тард называет М., в которой связь между людьми осуществляется «из уст в
уста», толпой. Если же связь осуществляется через средства массовой коммуникации — публикой.
Следует отметить, что некоторые устойчивые черты М. (Т.) исподволь сложились в научном и
политическом обиходе в течение XIX в., тем самым подготовив материал для последующего
терминологического оформления и точку отталкивания для теоретической работы. К этим чертам следует
отнести прежде всего иррациональность М., склонность к нарушению порядка, асоциальность и
преступность (например, «криминальные толпы» Ломброзо).
Проблема М. и оформление соответствующего термина в концепциях, пытающихся ее осмыслить,
актуализируется ближайшим образом в форме опознания на рубеже XIX-XX вв. новой исторической угрозы.
Исходно эта угроза была воспринята и осознана как фундаментальная политическая проблема в доктрине

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
442-
-442
основоположника коллективной психологии Ле Бона. Над Ле Боном еще довлеет обычный для буржуа страх
перед «чернью», перед варварством и жестокостью народных бунтов. Однако его заслуга состоит в том, что
он попытался дать ответ на эту угрозу в теоретическом плане, переступив порог собственной сословной
ограниченности. Угрозу для общественного порядка европейских стран Ле Бон опознал в особых чертах
«души толп», которая радикально отличается от «индивидуальной души». Его открытие заключено в том,
чего обычно не замечают политические теории, — «в сердцевине общества обнаруживается масса, почти так
же, как в человеке — животное или в скульптуре — дерево» [1:112].
Преодолевая свою антипатию и страх по отношению к склонному к терроризму «антисоциальному
сброду» деклассированных элементов, Ле Бон видит главную опасность власти человека М. в буржуазной
парламентской демократии, ее «приверженности к рассуждениям» и отсутствии «воли к действию».
Демократия идет вразрез с психологией «души толп», которая нуждается в вожде как своей опоре. Эта связь
имеет бессознательную суггестивную основу, которой безуслов-
467
но подчиняется сознание захваченного толпой индивида. Не случайно, что основные идеи Ле Бона (по
образованию врача) складывались одновременно с разработкой теории гипноза у Шарко, Бернгейма и
Льебо. Ле Бон иногда сравнивал поведение человека М. и сомнамбулы в состоянии гипноза.
В отличие от индивида, рассуждающего с помощью абстрактных понятий, М. «мыслит» образами. Для
нее чистая видимость значительно важнее реальности. Она не ищет нового, но постоянно готова к повтору
уже пережитого, услышанного или увиденного. Московичи находит у Ле Бона две основные характеристики
«мышления» М. Во-первых, наложение случайных идей-образов на основе произвольных общих признаков,
которое имитирует рассуждение и обоснование. Во-вторых, проекцию своих собственных иллюзий во
внешний мир. М. «рассматривает как внешнюю данность событие, являющееся не более чем продуктом ее
желаний и фантазии. Она попросту принимает свои стремления за реальные события и действует
соответствующим образом» [1:133]. Подчеркнем еще раз — для Ле Бона в М. таким образом начинает
мыслить и профессор, и служащий, и художник, и рабочий.
Концепция Ле Бона оказала огромное влияние на таких разных мыслителей, как Фрейд, Юнг, Каутский,
Лефевр. К примеру, Карл Каутский, обогащая марксизм идеями социальной психологии, считал, что
историческая роль М. столь же слепа, как и их психология. Они могут быть революционными, способствуя
общественному прогрессу, и реакционными. Например, когда массовые выступления сметают устаревшие
институты феодализма, расчищая место для институтов буржуазной демократии, М. играют позитивную
историческую роль. Но М. могут быть и реакционны, препятствуя общественному прогрессу, неся угрозу
нового варварства. Примером могут служить еврейские погромы или обычай линчевания негров.
Среди ортодоксальных последователей Ле Бона следует отметить также Адольфа Гитлера и Бенито
Муссолини. Они, в явной форме ссылаясь на его идеи, на практике использовали теоретический тезис Ле
Бона, утверждавшего, что легче всего душой М. можно управлять в том случае, когда захват и удержание
власти становятся формой театрального искусства. В работах Ле Бона обосновывается необходимость для
власти использования драматических выразительных средств, которые впоследствии стали неотъемлемой
частью фашистской (как, впрочем, и советской) политической эстетики: ярких торжественных парадов,
митингов, красочных церемоний, ритмического скандирования, синхронных машинообразных движений
рук, маршей и т. д. Политический театр должен играть роль
коллективного гипнотизера, который превращает идефикс вождей в формы актуального переживания
реальности М., коллективных галлюцинаций. Демократические режимы стали легкой добычей
тоталитарных движений, поскольку апеллировали главным образом к разуму граждан, игнорируя
фундаментальные свойства психологии М. Идеи Ле Бона до сих пор влиятельны в идеологии
экстремистских движений, практике политического терроризма, маркетинговых и избирательных
технологий («паблик рилейшнз»).
Качественно иное значение термин М. приобретает у Габриэля Тарда. Как и Ле Бон, Тард считал, , что М.
образуют сердцевину человеческих сообществ. Однако для него М. — это не просто особая форма общности
со своей специфической психологией, но прежде всего социальная материя, из которой образуются и через
стадию которой преобразуются любые социальные институты и образования — государственные,
религиозные, культурные, криминальные и т. д. Центром кристаллизации М. в социальный институт или
криминальное образование является лидер (вождь). М. образуют суггестивную среду, в которой виртуально
постоянно присутствует место лидера (гипнотизера). Лидером может стать лишь человек из М. Причем
лишь тот, кто подойдет в данный момент для данной М. на роль «зеркала», вглядываясь в которое члены М.
«узнают себя» (самоидентифицируются). В этом смысле М. активна. Она с помощью механизмов,
напоминающих дарвиновский отбор, отбирает лидера из многообразия претендентов. Неустойчивость этого
выбора в эпохи социальных перемен объясняет кровавые эксцессы смены вождей, которые наблюдаются
практически во всех революциях.
Открытием Тарда, которое оказало мощное влияние на формирование во второй половине ХХ в.
концепций «массовой культуры» и «массового общества», стал тезис, согласно которому тип социального
образования, возникающего через механизмы самоорганизации М., непосредственно зависит от типа
существующей между людьми коммуникации. Им, в частности, рассмотрена роль салонов и «казуаров» —
специальных комнат для частных бесед — для формирования политических элит в эпоху, когда

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
443-
-443
коммуникация существовала главным образом в форме устного разговора. Тард первым обратил внимание и
дал теоретическое объяснение роли средств массовой информации (в его эпоху — газет) на формирование
современного типа социальных институтов и др. образований. Особую силу (власть) пресса приобретает в
эпоху кризисов. Угроза превращает дремлющего в иных обстоятельствах обывателя в читателя газет —
новый тип М. для новых буржуазных социальных институтов.
468
Для Ле Бона и Тарда М. были интересны прежде всего как новый специфический субъект политической
жизни. Они писали главным образом для политической элиты, стараясь дать ей новые политические рычаги
управления М. для предотвращения социальных кризисов.
Культурологическое измерение проблемы М. было впервые осмыслено в труде Ортеги-и-Гассета
«Восстание масс» (Мадрид, 1930). Для Ортеги речь идет не просто о политической угрозе, но об угрозе для
европейской культуры в целом. Возникает новый антропологический тип «человека-масс». Первый шаг в
определении термина М. связан с наличествующей в любом обществе оппозицией большинства и
выделенного особым образом меньшинства. По Ортеге, деление на М. и избранное меньшинство —
типологическое. Оно не совпадает ни с делением на социальные группы, ни с иерархией. Например, самая
агрессивная и опасная для культуры разновидность человека М. — это невежественный в культурном
смысле ученый-экспериментатор, который самоуверенно навязывает свое заурядное мнение и пошлые
усредненные ценности во всех областях жизни. Этот человек, который довольствуется «как все» мнением,
высказывая пренебрежение к вопросу об истине.
В предшествующие эпохи средний человек «знал свое место» и не претендовал на большее.
«Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности,
безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всякому»[2:311]). Наиболее ярко это
отношение выражено в американском обществе.
Многие черты представителей избранного меньшинства, противостоящего, по Ортеге, человеку М.,
напоминают определения «совершеннолетнего» гражданина мира И. Канта — так, как они сформулированы
в знаменитой работе «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?». Как и Кант, Ортега ставит
самостоятельность (автономию) в качестве основополагающей этической ценности. Добровольный отказ от
самостоятельности вследствие отсутствия мужества — основное направление морального впадения в порок
существования «несовершеннолетним по собственной вине». Однако для Канта естественной ситуацией
была послушность «несовершеннолетнего» авторитету проповедника, врача, книги.
Ортега в человеке М. видит много черт несовершеннолетнего. Массовый человек напоминает ему
«избалованного ребенка», который привык пользоваться благами цивилизации, не задумываясь об их
происхождении. Участники «хлебных бунтов» громят пекарни, а восстающие против авторитета Церкви
ученые
перечеркивают тысячелетнюю историю, в которой наука только и могла родиться. Но
«несовершеннолетний» эпохи Просвещения послушен. Кант его даже упрекает за отсутствие решимости
действовать собственным умом. Ортега видит, что, начав пользоваться собственным умом, человек М. не
становится самостоятельным. Он просто навязывает свои инфантильные взгляды миру культуры. По Ортеге,
«ось координат массовой души» современного человека является результирующей двух черт —
«беспрепятственного роста жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной
натуры и врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь» [2:319]. У человека М.
нет опыта встречи с другой личностью, «которая выше меня». Реальность массового общества в господстве
инфантильного сознания — в отсутствии «совершеннолетних».
Однако место того, «кто выше меня», не пустует. Его занимает анонимное государство. Поэтому человек
М., сталкиваясь с проблемами в своей жизни, не предпринимает самостоятельного усилия для их
преодоления, а апеллирует к власти, требуя от нее защиты. Это, по Ортеге, и является корнями и
российского большевизма, и фашизма.
Другое отличие от кантианской трактовки вопроса об инфантилизме массового сознания и идеи
самостоятельной личности заключено в том, что Ортега в своем философском подходе делает шаг в сторону
от доминировавшего еще у феноменологов и неокантианцев «наукоцентризма». Философия — это не «наука
наук», и ученый не центральный проект самоидентичности для универсального разума. Научный подход к
миру даже в его максимальной самовыраженности — лишь абстрактный, метафизический момент
инструментального отношения к реальности. Мир культуры онтологически «больше» в сравнении с научной
картиной мира. Поэтому и современный философский рационализм должен быть иным. Ортега выдвигает в
этой связи концепцию рациовитализма, в которой центральное место занимает идея жизни незаменимого,
уникального человека, неподвластная теоретическому уразумению. Ее связанность и единство имеют
драматическую структуру, способную удержать в себе нестабильное исторически становящееся бытие.
Карл Ясперс определяет термин М. через его соотнесение с терминами «народ» и «публика».
Характеризуя историческую ситуацию в современном мире, он пишет о том, что благодаря прогрессу науки,
технологий и промышленного производства раздробленный во времени и пространстве мир «сомкнулся» в
единое целое. Мировой становится и экономика, и полити-
469
ческая жизнь, и культура. Даже войны становятся мировыми. В этой новой исторической ситуации

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
444-
-444
основную роль начинают играть М., которые представляют своеобразную форму распада собственно
человеческого бытия, воплощенного в жизни народа.
В чем отличие М. от народа: «Народ структурирован, осознает себя в своих жизненных устоях, в своем
мышлении и традициях. Народ — это нечто субстанциальное и квалитативное, в его сообществе есть
некоторая атмосфера, человек из народа обладает личными чертами характера также благодаря силе народа,
которая служит ему основой.
М., напротив, не структурирована, не обладает самосознанием, однородна и квантитативна, она лишена
каких-либо отличительных свойств, традиций, почвы — она пуста. М. является объектом пропаганды и
внушения, не ведает ответственности и живет на самом низком уровне сознания» [3:142-143]. Причем
каждый отдельный человек представляет и М., и народ в своем лице. В качестве М. он стремится к тому, к
чему стремятся все, любит то, что все любят, аплодирует «звезде», носит модную одежду, калькулирует и
рассчитывает, нивелирует, низводя все к примитивному вкусу, склонен к забвению и безразличию.
Осознавая себя принадлежащим к народу, человек стремится быть незаменимой личностью, которая
самостоятельно, через переживание внутреннего опыта, основанного на памяти и традиции, ответственно
выносит суждения, оценивает и совершает поступки.
Одновременно, по Ясперсу, М. следует отличать от публики. «Публика составляет первую стадию на
пути превращения народа в М. Это эхо, отвечающее поэзии, живописи, литературе. Как только народ
перестает жить полной жизнью, черпая силы в своем сообществе, возникает множество, составляющее
публику, необъятное, подобно М., но воплощающее в себе общественное мнение о духовных ценностях в их
свободной конкуренции. Для кого пишет писатель, будучи свободным? Сегодня уже не для народа и еще не
для М. Он домогается публичного признания, стремится обрести свою публику и действительно обретает ее,
если ему везет. Народ хранит обладающие вечной ценностью книги, которые сопровождают его на
протяжении всей его жизни; публика меняет свои оценки, она лишена характера. Но там, где есть публика,
еще сохраняется живая гласность.
В наши дни превращение народа в публику и массу стало неизбежным» [3:143]. К этому принуждает ход
истории, прогресс науки и техники, развитие общества массового потребления и массовой культуры.
Человек-личность, олицетворяющий народ, вытесняется в сферу «частной жизни», маргинализируется. Но
посколь-
ку он еще существует, сохраняется возможность возрождения из распада М. народного духа.
В современном обществе, которое немецкий социолог Ульрих Бек назвал «обществом риска» или
обществом «другого модерна» (см.: Другой модерн, II), возникает новый тип массового сознания (и
соответственно новый тип человека М.), в формировании которого основную роль играет страх перед
экологической катастрофой, угрозой техногенных рисков. С этим связаны тоталитаристские установки
части «зеленого» движения и экстремизм некоторых сторонников антиглобализма.
Библиография
1. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. М., 1996.
2. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
3. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
4. Тард Г. Социальная логика. СПб., 1996.
5. Гильдебранд Д. Новая Вавилонская башня. СПб., 1998.
6. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896.
7. Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959.
8. Ашин Г.К. Доктрина массового общества. М., 1959.
9. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1986.
10. Матлар Α., Делькур К., Матлер М. Международные рынки образов. М., 1993.
11. Bell D. The end of ideology. Glencoe, 1964.
12. Riesman D. The Lonely Crowd. N.Y., 1950.
13. Karmhouzier W. The Politics of Mass Society. N.Y., 1965.
Тищенко П.Д.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (к позиции 4.4)
Понятие «Н. к.» возникает на пересечении понятий «нация» и «культура», ни одно из которых не
существует в отрыве друг от друга: нельзя представить нацию вне культуры и культуру вне нации. Понятно,
культура не является только национальной, а нация не сводится к одной лишь культуре. В своем раздельном
существовании они являются предметом самых разных толкований. Но и в сочетании друг с другом они
образуют понятие, не имеющее на сегодняшний день однозначного определения.
Отношение к Н. к. постоянно менялось в нашей недавней истории. Ленин считал лозунг Н. к.
буржуазным, даже реакционным, видя в нем проявление буржуазного национализма. Признавая его
относительную справедливость в эпоху борьбы с феодальным прошлым и перехода к капитализму, он
отвергал его применительно к классовой борьбе пролетариата с буржуазией, противопоставляя ему лозунг
интернациональной культуры трудящихся всего мира. Речь шла у него, правда, не об отрицании Н. к., как
ему это иногда
470

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
445-
-445
приписывают, а о невозможности для рабочего класса замыкаться в рамках культуры какой-то одной
нации, отождествлять себя с ней, отбрасывая то ценное, что есть в других культурах. Рабочие, по мысли
Ленина, будучи интернациональным классом, являются наследниками всей мировой культуры.
В годы советской власти такая оценка Н. к. (как исключительно буржуазной), учитывая характер
государственного устройства СССР, была несколько смягчена: советская культура трактовалась как
национальная по форме и социалистическая по содержанию. Национальное в культуре было
реабилитировано хотя бы по форме. Сегодня сведение национального к одной лишь форме уже никого не
устраивает.
За различными суждениями о Н. к. порой трудно уловить, о чем, собственно, идет речь. Для многих она
— всего лишь слово, у которого нет четкого значения и определенного содержания. Под видом Н. к. часто
защищают то, что ею вовсе не является, попутно разрушая ее подлинные святыни и ценности. Возрождают
древние обряды и обычаи, когда никакой нации не было, и равнодушно взирают на бедственное состояние
школ, музеев и библиотек, без которых нет Н. к. Поощряют шоу-бизнес и масскультуру и обрекают на
финансовое голодание все, что служит делу сохранения национального культурного достояния. Культурная
архаика и масскультура — тоже культура, но не национальная: с их помощью можно вернуться к племенной
жизни или приобщиться к космополитизму современного массового общества, но сохранить свое
национальное лицо невозможно.
Вместе с тем нельзя отрицать реальные трудности, возникающие при определении границ Н. к. В нее
часто включают либо все, либо... ничего. Вот лишь один пример из истории нашей отечественной мысли.
Русский философ Г.П. Федотов, много размышлявший на эту тему, склонен был трактовать понятие Н. к.
предельно широко. В статье «Новое отечество» (1943 г.) он писал: «Нация, разумеется, не расовая и даже не
этнографическая категория. Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы
можем определить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной
культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри ее, есть место для одной
господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией»[1:245]. Нация есть прежде всего
«культурное единство», куда входят «религия, язык, система нравственных понятий, общность быта,
искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного
единства» [1:245]. «Культурное единство» в трактовке Фе-
дотова и есть то, что сегодня принято называть национальной культурой. Для него несомненно, что
русские в плане своего культурного единства уже сложились как нация, однако оно не нашло для себя еще
адекватной формы национального государственного устройства. «Так за все тысячелетие своей истории
Россия искала национального равновесия между государством и культурой и не нашла его» [1:248]. В этом
причина крайней неустойчивости Российского государства, которая, как предсказывал Федотов, рано или
поздно приведет его к распаду.
Другой русский мыслитель — социолог Питирим Сорокин — в противоположность этой точке зрения
отрицает возможность определения нации через религию, язык, мораль и пр., т. е. через то, что обычно
понимают под Н. к. Но тогда само ее существование ставится под сомнение. Обращаясь к понятию Н. к.,
Сорокин пишет: «Но разве это «туманное пятно» не состоит как раз из тех элементов, о которых только что
шла речь? Выбросьте из «культуры» язык, религию, право, нравственность, экономику и т. д., и от
«культуры» останется пустое место» [2:247]. Определяя нацию через культуру, мы рискуем, как считает
Сорокин, превратить нацию в миф, которому в действительности ничего не соответствует.
Как ни парадоксально, по-своему прав каждый из этих авторов. Н. к. действительно включает в себя
язык, религию, мораль, искусство и пр., но ни один из этих элементов сам по себе не может служить
признаком, отличающим одну национальную культуру от другой. Большинство мировых религий имеет
наднациональный характер, многие национальные культуры (английская и американская, испанская и
латиноамериканские) функционируют на одном языке. Все знают, что искусство национально, но что
отличает одно национальное искусство от другого? Если только язык, то как быть с музыкой и живописью?
Ведь звуки и цвета не имеют национальной природы, и тем не менее музыка Верди — итальянская музыка, а
Чайковского и Мусоргского — русская. В каждой национальной литературе есть свои поэты, прозаики,
драматурги, которые пишут на разных языках, но работают в одних и тех же литературных жанрах и
формах. И разве русский роман отличается от французского только языком, на котором написан? Тогда
перевод снимет эту разницу. Есть, видимо, какая-то более тонкая и трудно уловимая граница между
национальными искусствами, над обнаружением которой постоянно бьются искусствоведы. Пусть они и
ищут ее в каждом конкретном случае. Но можно ли в общей форме сформулировать то, что отличает одну
Н. к. от другой?
471
Пытаясь раскрыть «субстанциальную основу» Н. к., говорят обычно о том, что она выражает «душу»
народа, его менталитет, общность исторической судьбы, особенности его психического склада и характера,
присущий ему взгляд на мир и пр. Такое объяснение, возможно, верно, но слишком абстрактно и
метафизично, отсылает к реалиям, которые не поддаются верификации (опытной проверке) и строгому
анализу. И главное — оно не содержат критерия, по которому можно судить об отличии Н. к. от любой
другой — племенной, этнической и пр., также выражающей чью-то «душу» и менталитет. В наскальной
живописи тоже есть «душа», но она не национальная культура. И чем «душа нации» отличается от всякой
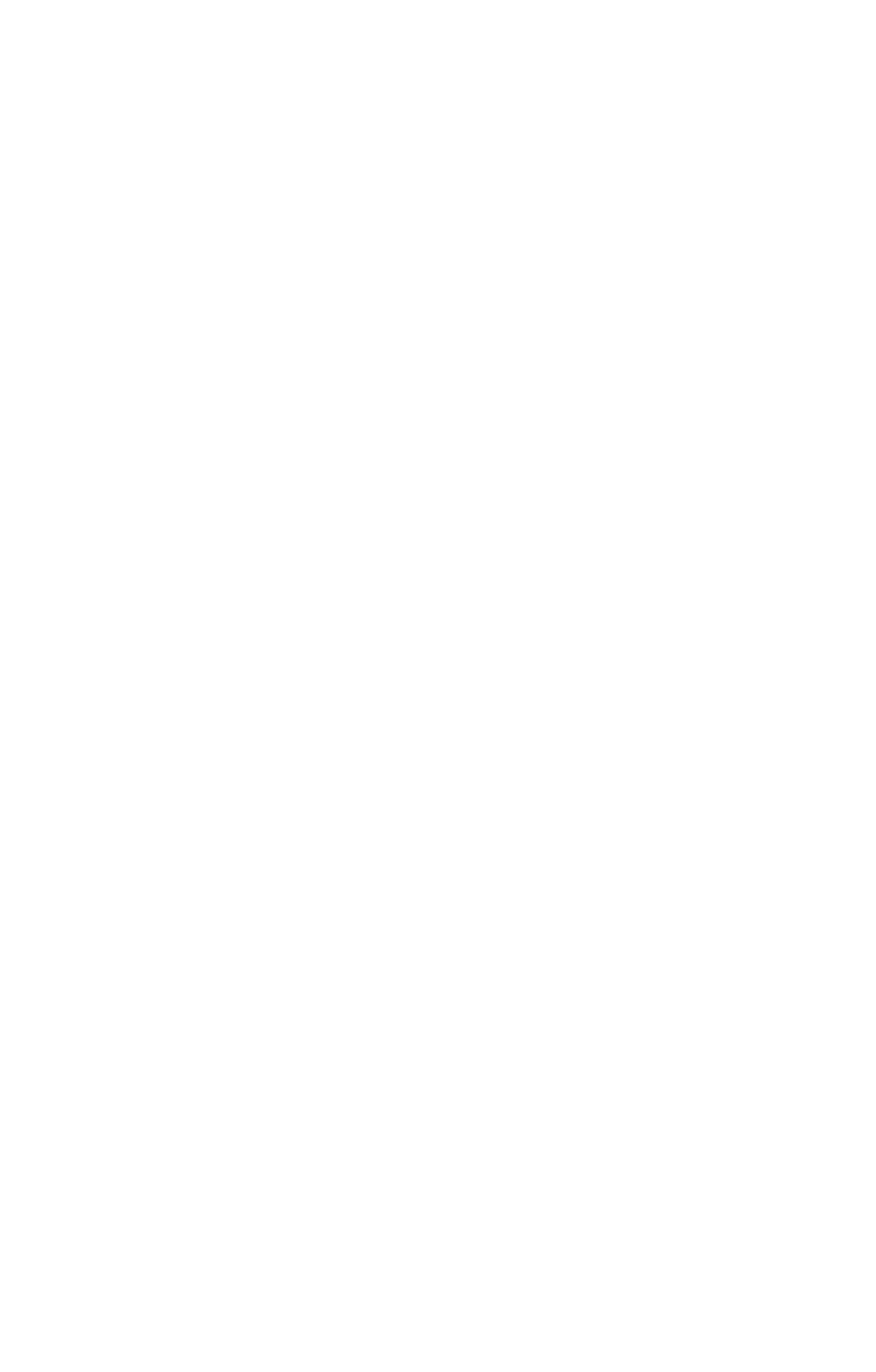
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
446-
-446
иной «души»? Сорокин прав: нельзя всерьез доверять дефинициям, которые видят в нации «метафизический
принцип», какую-то таинственную «вне- и сверхразумную сущность». Сюда относится и определение нации
как «коллективной души», которое создается «путем подчеркивания психологической природы этого
явления». Отсюда он делает вывод, что «национальности как единого социального элемента нет, как нет и
специально национальной связи»[2:248], т. е. в реальном социальном мире нет ничего такого, что
безусловно заслуживает названия национального.
Видимо, правильнее считать, что нация — понятие не субстанциальное (т. е. заключающее в себе некий
метафизический или психологический субстрат), а функциональное, существующее в системе определенных
соотношений. Применительно к Н. к. это означает, что каждая из них существует только в соотношении с
остальными. Не будь их, не было бы и ее. Каждая Н. к. включает в себя столько отличительных признаков и
характеристик, сколько есть других культур, с которыми она себя соотносит. Русская культура, например,
по отношению к немецкой обладает одним набором признаков, по отношению к французской — другим и т.
д. Граница каждой Н. к. и определяется общим числом этих соотношений. Национальной является любая
культура, которая признает за другой культурой право также считаться национальной, видит в ней то же,
что и в себе. Одна Н. к. отличается от другой Н. к. в отношении лишь того общего, чем они оба обладают.
Здесь особенное неотделимо от общего, различие от единства.
Народы древности (греки, напр.), считая культурными только себя, называя других варварами, не имели
никакого понятия о Н. к. Средневековая Европа, мыслившая себя как единый христианский мир, культурно
превосходящий все остальные, также не знала этого понятия. Культура, считающая себя единственной в
мире, естественно, не осознает себя как Н. к.
Н. к. могли возникнуть не раньше, чем было открыто и признано наличие множества разных культур,
хотя и отличающихся друг от друга, но в чем-то равных, единых между собой. Когда, где и как это могло
произойти?
Возникновению Н. к. препятствовало, конечно, не отсутствие соответствующего понятия, а тот тип
культурного развития, который был господствующим на достаточно длительном отрезке человеческой
истории. В течение долгого времени культуры, сколько их есть на свете, существуют и осознают себя в
отношении не друг к другу, а только к самим себе, считают себя как бы единственными в мире. Такие
культуры можно уподобить натуральному (но только духовному) хозяйству: они самодостаточны, замкнуты
на себя, и им нет никакого дела до чужих культур. Эти культуры можно суммарно обозначить как
этнические (или народные). Они существуют в состоянии полного изоляционизма, резкого
противопоставления своего чужому (только «свое» считается нормой и ценностью), обостренного чувства
вражды и неприязни ко всему, что выходит за границы собственного мира. «Чужак» здесь почти что враг, а
чужие обряды и обычаи воспринимаются как нелепые и достойные насмешки.
Представляя сложную систему, каждая из этнических культур как раз и обладает (в отличие от
национальных) свойством «субстанциальности» — постоянно воспроизводимого субстрата, имеющего в
значительной мере природное происхождение. Это культура людей, связанных между собой «кровью и
почвой», единством рождения (кровным родством) и места проживания. Условием ее существования и
трансляции от поколения к поколению являются естественные способности человека — его память,
природный музыкальный слух, органическая пластика, не требующие для себя никакой специальной
подготовки и технических средств. Она не нуждается и Б письменности, существует в значительной мере как
дописьменная культура, на уровне устной речи и живого языка. Близость к природе придает ей черты
«местной ограниченности», жесткой локализации в социально узком пространстве племени, общины,
этнической группы. Обладая повышенной изменчивостью при переходе от одной местности к другой (так
сказать, пространственным разнообразием), она в границах каждой группы отличается исключительным
постоянством, невосприимчивостью к любым инновациям, устойчивостью и неизменностью всех своих
образующих элементов. В ней господствует сила традиции, раз и навсегда принятых образцов поведения и
мышления, как бы не признающих над собой власти времени. Отсутствие временной координаты в ее
472
функционировании (при наличии пространственной) — прямое следствие ее традиционализма.
Но главной особенностью этнической культуры является ее непосредственно групповой, коллективный
характер, исключающий наличие развитого индивидуального начала. Проявления этнической культуры
лишены именного авторства: они анонимны, безымянны. Никто не знает, кто автор дошедших до нас
древних мифов и произведений народного творчества: они созданы как бы одним коллективным автором,
чье личное имя не имеет существенного значения. Культура этноса — это культура гомогенных (еще
первобытных) коллективов, в которых индивид не выделился из целого, не отличает себя от него. Не
претендуя на исчерпывающую характеристику этнической культуры, что входит в задачу современной
культурной антропологии, отметим, что она не обладает главным свойством национальной культуры —
способностью соотносить, сопоставлять, соизмерять себя с другими культурами, жить с сознанием, что она
— одна из многих культур, существует лишь в связи с ними. Обладая структурным сходством, эти культуры
как бы лишены дара общения. Этническая культура позволяет каждому народу оставаться самим собой, но
мало способствует его жизни вместе с другими народами. Когда такая жизнь станет исторической
необходимостью, наступит время Н. к.
Переход к ней есть результат прорыва в жизни и сознании людей узкого горизонта обособленного

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
447-
-447
этнического существования. Должна была произойти настоящая революция, чтобы этот прорыв мог
состояться. И такой революцией станет изобретение письменности — возможно, главное событие в истории
культуры. В русле письменной традиции сложится впоследствии и то, что получит название Н. к.
Письменность возникла задолго до появления наций — в странах древней цивилизации, в период так
называемой аграрной истории. Открытие письменности, по мнению Э. Геллнера, сравнимо лишь с
возникновением государства. Между тем и другим существует прямая связь: «По-видимому, письменное
слово входит в историю вместе с казначеем и сборщиком налогов: древнейшие письменные знаки
свидетельствуют прежде всего о необходимости вести учет»[3:37-38]. Еще более важна связь письменности
с мировыми религиями. «В конце концов, — пишет Э. Геллнер, — сам Господь Бог свои заветы и заповеди
преподносит собственному творению в письменной форме»[3:38]. Если этносы общаются со своими
местными богами посредством устного языка (поэтому, вероятно, их и называют язычниками), то мировые
религии, обращаясь к людям, независимо от их
этнической принадлежности, могут говорить с ними посредством письменного слова, получающего
значение священного писания.
Причиной этого прорыва стало тем самым возникновение мировых религий с их богами, лишенными
этнической окраски, и возникновение империй, часто объединяющих в одном государстве разные этносы.
Все современные нации прошли в своем становлении стадию имперского существования (империи в этом
смысле — инкубатор наций) и находятся в поле действия мировых религий, освобождающих их от власти
местных богов. Мировые религии и империи сверхэтничны по своей природе, что требует и иных средств
коммуникации, среди которых особое значение обретает письменность. Посредством письменности
индивид как бы возвышается над традициями своей этнической группы, приобщается к более
универсальной системе ценностей. Римский гражданин и христианин — еще не национальная
самоидентификация, но уже и не этническая.
Включая в себя разнообразные тексты, письменная культура противостоит стихии разговорного языка с
его местными диалектами и семантическими различиями. В силу этого она способна объединять людей,
живущих на больших пространствах и не обязательно связанных между собой узами прямого родства.
Носителями этой культуры становятся не все члены общества, а те, кто умеет читать и писать, — его
образованные слои, представляющие поначалу явное меньшинство по сравнению с остальной —
неграмотной — частью населения. Они являются носителями «большой традиции» письменной культуры в
отличие от «малой», представленной многочисленными местными культами. «В аграрном обществе
грамотность углубляет пропасть между большой и малой традициями (или культами). Принципы и формы
организации ученого сословия в великих, создавших свою письменность культурах, многообразны, и
глубина пропасти между большой и малыми традициями может быть очень разной» [3:38].
Письменная культура создается не этносом в целом, а отдельными индивидами (само умение читать и
писать требует от человека индивидуальных усилий) и до определенного времени остается непонятной и
чуждой народу (хотя бы в силу его неграмотности), несет на себе печать кастовой или сословной
обособленности. Представители «ученого сословия» порой с недоверием и презрением относятся к
народной культуре, третируют ее как нечто низкое и недостойное образованного человека. Пока
сохраняется разрыв между этнической (устной) и письменной культурами, что характерно для всех обществ
традиционного (аграрного)
473
типа, нельзя еще говорить о возникновении нации как культурного единства и, следовательно, о
возникновении Н. к.
Хорошо известное из нашей истории противостояние интеллигенции и народа является примером такого
разрыва. Сам факт такого противостояния указывает на незавершенность процесса складывания нации. Не
случайно русская интеллигенция постоянно апеллировала не к нации, а к народу, а в сознании россиян
понятия «народ» и «нация» фактически не различались. Преодолеть этот разрыв можно было бы, казалось,
посредством образования, всеобщей грамотности. Школа (в широком смысле этого слова) в условиях
складывания нации, действительно, становится главным культурным институтом, приходящим на смену
традиционным формам передачи культурного наследия. Недаром в XIX в. в немецком языке слово
«образование» (Bildung) было синонимично слову «культура».
При всей важности всеобщей грамотности она, однако, не решает всей задачи формирования Н. к.,
существование которой предполагает не просто умение читать и писать, но наличие национального
литературного языка, национальной литературы. Национальная литература, с появления которой обычно
начинают историю любой Н. к., не является прямым следствием возникновения письменности.
Средневековая образованная Европа, читавшая и писавшая преимущественно по-латыни, осознавала себя
единой — христианской — нацией под водительством Римской церкви. Национальные литературы обычно
имеют здесь своим началом перевод общих для всей Европы письменных источников (прежде всего Библии
и античных авторов) с латыни на языки европейских народов. Этому способствовало и стремление народов
Европы к обретению политической самостоятельности и независимости от Римской церкви. Политика
заставляла их говорить и писать на родном языке, что вовсе не отрицало их цивилизационного родства, их
общей приверженности ценностям христианства и Античности.
Последнее обстоятельство особенно важно. Н. к. не является простым переводом этнического наследия

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
448-
-448
на язык письменности. Одна лишь запись древних мифов, легенд, эпических сказаний недостаточна для ее
возникновения. Н. к. вбирает в себя это наследие, но преобразует его в соответствии с теми условиями
жизни, масштаб которой превосходит границы жизни того или иного народа, охватывает все пространство
европейской цивилизации. В ином случае дописьменные народы становились бы нациями благодаря
усилиям этнографов, записывающих то, что они выражают изустно.
Возникшие на исходе Средневековья европейские нации представляют собой в культурном отношении
своеобразный сплав этнокультурного наследия своих народов с общеевропейскими ценностями западной
цивилизации. Они возникают на стыке локального и универсального, являются сочетанием, синтезом того и
другого. Всю цепь, в которой существует нация, можно представить в виде формулы «этнос — нация —
наднациональное единство, или цивилизация», где нация — лишь промежуточное, среднее звено в
движении народов от их этнического обособления до их общей жизни в границах единой цивилизации.
Нация — существование народа в общецивилизационном пространстве, форма его цивилизованной жизни.
Без этой опосредующей функции нации между особенным и всеобщим в жизни народа трудно понять, зачем
она вообще появляется на свет, чем отличается от этноса. В качестве нации народ, этнос не просто
растворяется, исчезает в пространстве цивилизации, но сохраняет себя, подключаясь одновременно к
ценностям более высокого порядка.
Соответственно и Н. к. — культура народа, живущего с другими народами в одной — общей им всем —
цивилизации, считающего себя вместе с ними частью этой цивилизации. Любой европеец, принадлежащий к
определенной нации, знает, что он еще и европеец. Он как бы одновременно существует в национальном и
общеевропейском пространстве. Об этом духовном родстве народов Европы писали многие крупнейшие
мыслители Запада. По словам Э. Гуссерля, «как бы ни были враждебно настроены по отношению друг к
другу европейские нации, у них все равно есть внутреннее родство духа, пропитывающее их и
преодолевающее национальные различия. Такое своеобразное братство вселяет в нас сознание, что в кругу
европейских народов мы находимся «у себя дома» [4:302].
Народ становится нацией в силу не только своей несхожести с другими народами, но и общей с ними
«идеи», системы ценностей, выраженной в Н. к. Через эту культуру народ обретает способность общаться,
разговаривать с другими народами — соседями по цивилизации, сохраняя при этом свою самобытность и
неповторимость. В равной мере через нее же цивилизация как бы разговаривает с входящими в нее
народами, что возможно лишь, во-первых, на языке данного народа (иначе она не будет услышана им), во-
вторых, на письменном (литературном) языке, ибо никакого другого языка у цивилизации просто нет.
Первоначально этот разговор ведется на уровне образованной элиты, которая берет на себя функцию
посредника в межкультурном общении народов, создавая необходимый для этого общенациональный язык
474
и соответствующую ему письменную литературу. Уже только потому Н. к. — продукт не коллективного,
а индивидуального творчества, несущего на себе печать именного авторства. В истоке любой Н. к. — имена
выдающихся писателей, художников, мыслителей, называемых ее классиками. Соответственно и
приобщение к Н. к. происходит на уровне не группы (как в этнической культуре), а отдельного индивида, в
процессе личного обучения, воспитания и образования. Что создано индивидуальным авторством,
воспринимается столь же индивидуально. Базовым условием Н. к. является, следовательно, существование
человека как развитой индивидуальности, личности.
Н. к. можно уподобить в этом смысле не натуральному, а товарному хозяйству. На смену локальным
объединениям людей, ведущим традиционно замкнутый образ жизни в границах родства и общей
территории, приходит связь самостоятельных индивидов, обменивающихся продуктами своего труда.
Соответственно, возникает и новая форма культурного единства, требующая не группового, а
индивидуального участия в нем. В границах этого единства люди осознают себя не этнически однородной
массой, а автономными единицами, обладающими индивидуальным самосознанием и свободой выбора. Н.
к. как бы уравнивает всех в праве считаться индивидуальностью, обладать собственной жизненной
позицией, своим мнением и свободой самовыражения. В этом смысле она соответствует обществу,
наделяющему каждого правами человека и гражданина, — гражданскому обществу.
Здесь причина многообразия форм индивидуального самовыражения в Н. к., заметно отличающего ее от
единообразия этнической культуры. К одной и той же Н. к. могут принадлежать индивиды, расходящиеся
между собой во взглядах, идеологических предпочтениях и эстетических вкусах, в своей приверженности
тем или иным канонам и стилям. В каждой Н. к. есть свои просветители и романтики, рационалисты и
мистики, традиционалисты и модернисты. Ошибочно приравнивать Н. к. к какому-то одному литературно-
художественному направлению или философскому мировоззрению, отстаивать монополию на нее со
стороны отдельной идеологии или политического движения. Единство национальной культуры
обеспечивается не единообразием мнений и взглядов, не общим согласием по всем вопросам жизни, а
способностью принадлежащих к ней людей вести диалог между собой и представителями другой Н. к. на
языке, доступном и понятном каждому.
Можно сказать, что Н. к. открывает каждому возможность быть самим собой при наличии, однако,
общих для них всех святынь и ценностей. Подобное един-
ство позволяет лично свободным людям считать себя одной нацией, жить в одном государстве, видя в
других своих сограждан. С установлением гражданских прав и свобод на смену государственному

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
449-
-449
принуждению приходит сознание культурного единства, если угодно, духовного родства, побуждающего
людей к совместной жизни. Не власть, а культура становится здесь объединяющей скрепой общества. В
таком обществе, как отмечает Э. Геллнер, «культура — больше не просто украшение и узаконивание
социального порядка, который поддерживается и более жесткими, насильственными методами. Культура
теперь — это необходимая общая среда, источник жизненной силы или, скорее, минимальная общая
атмосфера, только внутри которой члены общества могут дышать, жить и творить. Для данного общества
это должна быть атмосфера, в которой все его члены могут дышать, говорить и творить; значит, это должна
быть единая культура. Более того, теперь это должна быть великая или высокая (обладающая своей
письменностью, основанная на образовании) культура, а не разобщенные, ограниченные, бесписьменные
малые культуры или традиции» [3:93].
Геллнер, правда, делает упор не на политической, а на экономической (точнее, технологической)
необходимости перехода к Н. к., порожденной становлением индустриального общества. Такое общество
требует от граждан исполнения социально и профессионально стандартизированных ролей, что возможно
лишь при наличии единой (гомогенной) культуры, свободной от местных различий и базирующейся на
столь же стандартизированном, общем для всех литературном языке. В обществе научной и технической
рациональности все его члены «должны быть способны общаться с помощью письменных, безличных,
свободных от контекста, ни к кому определенному не обращенных типовых посланий. Поэтому средством
этого общения должен быть единый, общий для всех, стандартизированный устный и письменный
язык»[3:89]. В подобном изображении Н. к. выглядит излишне формализованной и рационализированной,
лишенной индивидуальных смыслов и значений. Язык Пушкина, Тургенева, Толстого и Достоевского — это
не язык индустриального общества, хотя именно в нем сложились общенациональные нормы русского
литературного языка. Отождествление Н. к. с индустриализмом не кажется слишком убедительным:
приобщение к Н. к. создает не безликую и стандартизированную массу, а гражданина и свободную
личность. Н. к., несомненно, цивилизует человека, но не в смысле его стандартизации и обезличивания
(чему более способствуют научные технологии, не исчерпывающие собой всего содержа-
475
ния Н. к.), а в смысле развития у него способности вести диалог внутри своей и одновременно с другими
культурами.
Отсюда понятно, почему зрелые нации не страдают ксенофобией, болезненным и подозрительным
чувством ко всему чужому, национализмом. Обостренный национализм есть признак не сложившейся до
конца нации, сохраняющейся власти этнического традиционализма и локализма. Нация — не закрытая, а
открытая система, способная вбирать в себя достижения других народов. Этим не отрицается ее собственная
оригинальность и самобытность, но они возможны здесь как результат приобщения к тому, что создается в
другие времена и часто другими народами.
Закрепляясь преимущественно в письменной форме, Н. к. обретает способность жить и накапливаться не
столько в естественной памяти народа, сколько в искусственно созданных хранилищах — музейных
коллекциях, архивах, библиотеках и пр. Реальный объем Н. к., если измерять его в количественных
единицах, определяется тем, что собрано в этих хранилищах и, стало быть, доступно для дальнейшего
пользования. Библиотечные, музейные, архивные фонды есть главный культурный ресурс нации, ее, так
сказать, культурный капитал. Для существования нации он имеет не меньшее значение, чем другие
капиталы — промышленный, торговый, финансовый и пр. От него зависит в первую очередь и
экономическое благосостояние страны, и ее политическая независимость. Культурный капитал делает
возможным само существование нации как экономического и политического субъекта. Нация с этой точки
зрения рождается в университетских аудиториях и библиотечных залах — через освоение своего
культурного капитала — и только затем обретает характер политической и экономической общности.
Народы, раньше других понявшие эту истину, и являют сегодня собой пример наиболее развитых,
экономически процветающих и политически стабильных наций.
Библиография
1. Федотов Г.П. Новое отечество // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1992.
2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
3. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
4. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ век:
Антология. М., 1995.
Межуев В.В.
ОБЩЕСТВО (к позиции 4.2)
О. — сфера человеческого бытия, включающая жизнь и деятельность людей как носителей
складывающихся между ними многообразных связей и отноше-
ний (общественные отношения, коммуникации), создателей и субъектов материальной и духовной
культуры. О. существует в природе и в то же время отличается от нее как исторически возникший продукт и
результат деятельности людей. Человек — живой организм, часть биосферы Земли, хотя его физический
облик, его нервная организация формировались в ходе становления О. и под влиянием этого процесса. Но
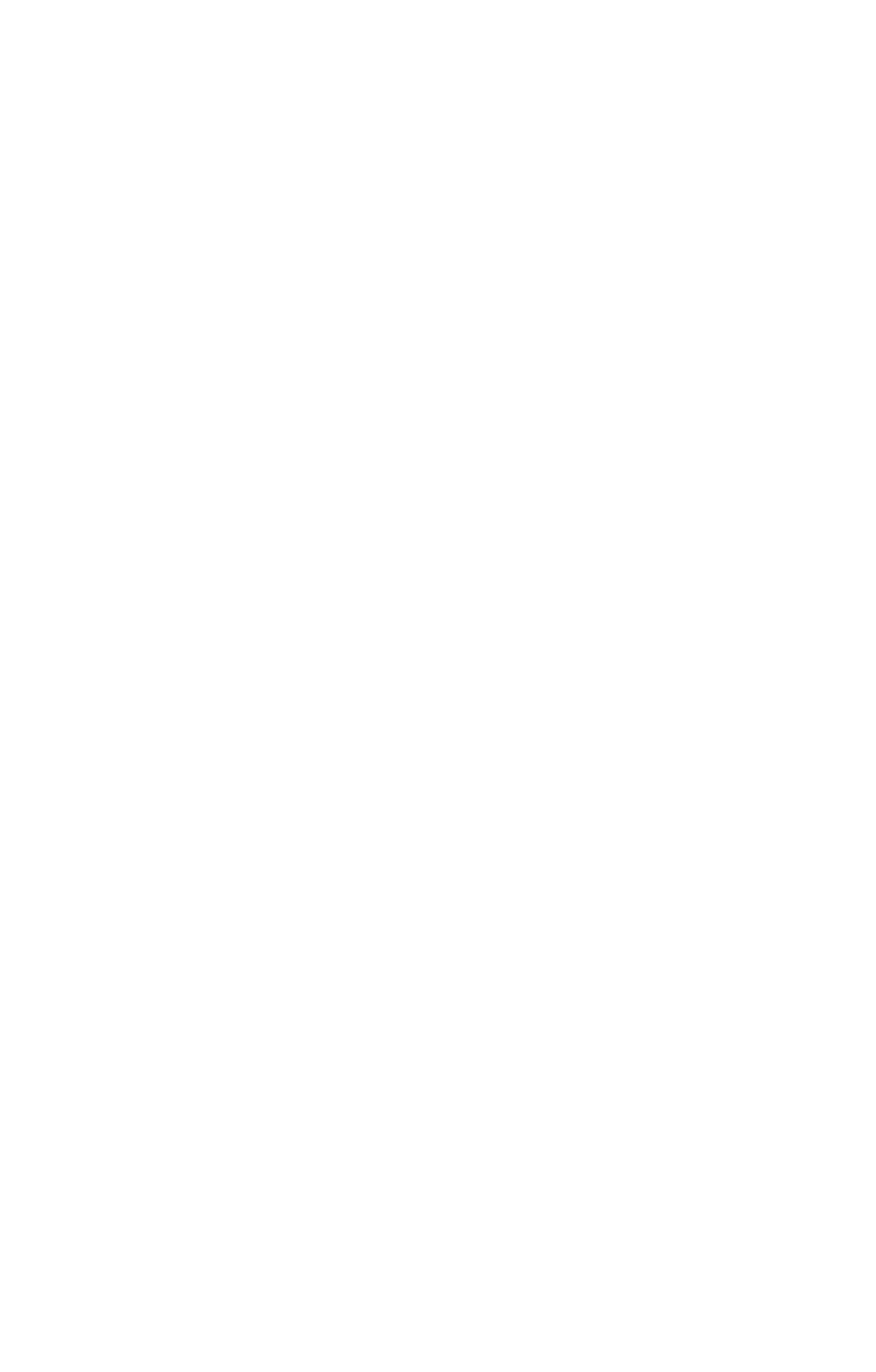
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
450-
-450
как социальное существо и субъект культуры, человек — продукт О. Он не только создает О., но и создается
О. Принадлежность к О. — отличительный признак человека
В понятие О. вкладывается также различное, но более конкретное содержание при его употреблении в
общественных науках и в обыденной речи. Но в ходе общественного развития понятие О. формировалось и
в его социально-философском значении. В античной философии О. отождествлялось с государством.
Согласно Платону, люди объединяются в государство потому, что нуждаются друг в друге. Государство —
это их совместное поселение и разделение труда между ними, позволяющее им удовлетворять
многообразные потребности друг друга. Аристотель считал человека «политическим животным», т. е.
связывал его особенности с принадлежностью к полису, государству. В Средние века человек существовал в
системе строгого подчинения власти божественной и власти, данной от Бога. Этому соответствовало идущее
от Августина различение идеального «града небесного» и порочного «града земного», а также утверждение
первенства церковной власти над светской.
В XVII-XVIII вв. понятие О. начало постепенно освобождаться от его отождествления с государством.
Этому способствовала принятая тогда многими мыслителями теория общественного договора, согласно
которой государство создается самими людьми на основе соглашения (договора) между ними. Исходным в
этой теории было признание того, что первоначально люди существовали в естественном состоянии и
обладали неотъемлемыми естественными правами (индивидуальной свободой и т. д.). Заключение
общественного договора означало переход из естественного в гражданское состояние и появление
государства. Необходимость такого перехода объяснялась по-разному. У Т. Гоббса (XVII в.) естественным
состоянием является война всех против всех, и государство создавалось, чтобы прекратить взаимное
истребление. Это могло сделать лишь сильное государство, имеющее полную власть над гражданами.
Легитимность власти покоится на том, что индивиды передают ей свои естественные права. Но отказываясь
от них, они взамен получают защиту своей жизни в условиях мира. Ж-Ж. Руссо (XVIII в.), в отличие от Т.
Гоббса,
476
полагал, что в естественном состоянии люди жили мирно, были свободны и счастливы. Заключение
общественного договора было вызвано стремлением сохранить равенство в условиях появления частной
собственности. Сувереном являлся народ. Люди передавали государству часть своих естественных прав.
Таким образом, государство уже не поглощает все О., а соотносится с гражданским О. Резко их различие
выражено и в философии Гегеля, представившего гражданское О. как царство экономических отношений в
отличие от государства, которое является средоточием Мирового Духа, основой исторического процесса.
Выход к понятию «О.» в истории социальной мысли связан с развитием представлений о нем как
внутренне дифференцированной и структурированной социальной системе. Разными способами эту мысль
выразили позитивисты О. Конт и Г. Спенсер, с одной стороны, и К. Маркс — с другой. О. Конт
рассматривал О. как целостную систему (социальная статика), развивающуюся по общим для всей истории
законам (социальная динамика). Г. Спенсер сравнивал общество с организмом, в котором различные
социальные структуры выполняют необходимые для его жизни функции. К. Маркс исходил из того, что
структура О. как органической целостности определяется его материальной основой, а его развитие
подчиняется как общим, так и специфическим закономерностям, присущим отдельным этапам
исторического процесса — способам производства, общественным формациям. В ХХ в. системный подход к
О. развивался в рамках структурно-функционалистской социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон).
В отличие от природы О. включает в себя субъекта. Им является человек с его сознанием, свободой воли,
способностью к целеполаганию. То обстоятельство, что О. — продукт деятельности людей, в истории
социальной мысли служило и служит основанием для вывода об отсутствии в нем объективных
детерминант, закономерностей, о решающей роли сознательного начала в его формировании, изменении и
развитии. Получили распространение концепции, согласно которым отличительным признаком
человеческого бытия является культура с ее идеалами, ценностями, нормами, ибо социальные связи и
отношения существуют и в природе (у стадных животных, в колониях муравьев и т. д.). Сложность и
многообразие жизни О., действительно, дают основание для различных, часто прямо противоположных,
методологических построений, а утверждение научного подхода в сфере социального знания оказывается
необычайно трудной задачей. При всем том в области социальной философии отработаны разнообразные
«ходы мысли», выделены основные мето-
дологические направления, накоплен огромный опыт. Он свидетельствует, что научная методология
познания О. невозможна без признания в нем наличия объективных, от сознания людей независимых начал,
на базе которых существуют и действуют объективные закономерности общественной жизни. Методология
марксизма такими началами признает материальное взаимодействие человека с природой в процессе
общественного производства, материальные общественные отношения, в рамках которых осуществляется
взаимодействие О. с природой, надличностные социальные структуры, сохраняющиеся в смене поколений.
Деятельность вступающих в жизнь поколений осуществляется в условиях, которые даны им объективно, т.
к. созданы предшествующими поколениями. Кроме того, происходящие в О. изменения являются
следствием взаимодействия разнонаправленных сил и различных тенденций, и конечный результат в
большинстве случаев не совпадает с целями, которые люди перед собой ставили. На этой основе становится
возможным понимание и научное объяснение деятельности людей, в том числе роли субъективных
