Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
451-
-451
идейных, духовных, личностных и т. п. факторов в жизни и развитии О. Но если исходят из того, что О., его
история вообще не могут быть предметом научного познания, тогда открывается простор для самых
разнообразных, вплоть до фантастических построений.
О. выделилось из природы и может существовать только в постоянном взаимодействии с природой на
планете Земля. Природа, включая биологическую природу самого человека, — естественная основа О., а
состояние здоровья людей — социальная проблема, значимая для О. Многообразные отношения О. и
природы всегда интересовали философию и общественные науки. Но вплоть до второй половины ХХ в.
акцент делался на изучении влияния природы, «географической среды» на О. Полемика шла по вопросу о
том, определяет ли окружающая среда развитие О. (географический детерминизм) или нет, является ли
биологическая природа человека основной детерминантой его деятельности или нет. Доминировало
утилитарное отношение к природе лишь как к источнику вещества и энергии, необходимых для жизни
людей. Из того, что О. не может существовать и развиваться, не преобразуя природу, не приспосабливая ее к
своим потребностям, делался вывод, что целью ее преобразования является утверждение господства О. над
природой.
Но в последние десятилетия картина качественно изменилась, все прежние установки сменились прямо
противоположными. Растущие объемы производства заставили осознать, что этому росту есть предел, что
ре-
477
сурсы Земли ограничены, и в недалеком будущем, если сохранится прежняя линия развития, многие
жизненно важные минеральные и энергетические ресурсы будут исчерпаны. Обнаружились не частные,
региональные, а глобальные негативные последствия воздействия О. на природу. Загрязнение отходами
производства и человеческой деятельности вообще земли, Мирового океана, атмосферы начинает наносить
природе ущерб, который она сама преодолеть уже не в состоянии. Ухудшение экологии вредно влияет на
здоровье людей. Уменьшается разнообразие видов животных и растений. Антропогенное давление на
природу становится для нее невыносимым. Во взаимоотношении О. и природы обозначился кризис. И если
эта тенденция будет продолжаться, О. разрушит сложную самовоспроизводящуюся систему биосферы
Земли и тем самым полностью подорвет естественные условия своего существования. Экологическая
проблема — одна из главных и самых острых глобальных проблем современности. Над человеческим О.
нависает угроза экологической катастрофы. Она наступит, если процесс растущей деградации природы под
влиянием деятельности человека станет необратимым. На самом деле не в господстве над природой, а в
гармонии с ней — будущее человечества. И (пока время не упущено) установить эту гармонию — задача
живущих и идущих им на смену поколений. Особенность глобальных проблем в том, что они могут быть
решены объединенными усилиями всего человечества, и они обязывают людей действовать совместно.
Происходящий ныне процесс экономической, финансовой, информационной глобализации в принципе
должен способствовать этому объединению.
Библиография
1. Гегель Г. Философия права. М., 1990.
2. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политических прав. М., 1938.
3. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Соч. Т. 13.
4. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. М., 1991.
5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1989.
6. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и взаимоотношения // THESIS Теория и история
экономических и социальных институтов и система. Альманах. Т. 1. Вып. 1. М., 1993.
7. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
8. Каган М. С. Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. М., 1974.
9. Соколов В. В. Европейская философия X-XVII вв. М., 1984. 10. Кон И.С. Позитивизм в
социологии. Л., 1964.
П. Загладин К.К., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности: научный и социальный
аспекты. М., 1981. 12. Моисеев Н.П. Современный рационализм. М., 1995.
13. Келле П.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса.
М., 1981.
14. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS: Теория и история
экономических и социальных институтов и система: Альманах. Т. 1. Вып. I. M., 1993.
Келле В.Ж.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (к позиции 4.3)
Впервые понятие П.к. было употреблено И.Г. Гердером: в кн. XII и XIII опубликованной в 1784 г. работы
«Идеи к философии истории человечества» [5:339, 368] он использовал это понятие применительно к
характеристике степени зрелости культуры и в рамках конструкции «носители политической культуры».
Систематизированное научное изучение феномена П. к. началось в ХХ в.
В числе первых отечественных работ, посвященных этой теме, следует назвать книгу В. Герье «Первая
русская Государственная дума: Политические воззрения ее членов», изданную в Москве в 1906 г., а также
работу советского философа И.К. Луппола «Ленин и философия. К вопросу об отношении философии и

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
452-
-452
революции», вышедшую в свет в 1930 г.
Что касается традиции изучения П. к. в западном обществознании в ХХ в., то современные ученые
выделяют три этапа в истории исследования этого концепта в ХХ в.: первый этап — 1920-1930-е гг., когда
ведущим направлением стало изучение возможностей достижения социальной стабильности (этот период
связан прежде всего с именем Ч. Мериама, осуществившего в 1928-1938 гг. серию сравнительных
исследований П. к. в различных странах); второй — 1950 — 1970-е гг., поставивший в повестку дня
осмысление возможностей реформ политических систем; третий — рубеж 1980-1990-х гг., отмеченный
распадом политической системы государственного социализма в СССР и странах Восточной Европы
[13:91]. При этом именно второй и третий периоды отмечены пиком интереса к феномену П. к.
Следует отметить, что взрыв интереса к феномену П. к. в 50-60-е гг. ХХ в. был неслучаен и явился
результатом осознания ограниченности институционального подхода в социально-политических
исследованиях. Выдвижение этой проблематики в эпицентр исследовательского внимания совпало с
периодом успешных национально-освободительных революций в странах третьего мира и образованием на
карте мира новых независимых государств. Известно, что вновь образовавшиеся независимые государства
избрали различные модели политико-экономического устройства: одни из них пошли по пути
социалистической ориентации, другие избрали в качестве референтных различ-
478
ные модели рыночной экономики. Но обе из перечисленных категорий стран в своем выборе опирались
на опыт государств, ушедших вперед по пути предпочтительной ориентации и выступавших в качестве
референтных моделей. Так, страны социалистической ориентации опирались прежде всего на опыт
социально-экономических и политических преобразований в СССР; государства, избравшие путь рыночной
ориентации — на модели социально-экономического развития и политической организации индустриально
развитых стран — лидеров капиталистического мира. Однако осмысление итогов преобразований в обеих
группах освободившихся государств показало, что, сколь бы ни были тщательными усилия по копированию
моделей развития стран референтной группы, результаты преобразований, выполненных по известным из
заимствованного опыта лекалам, существенно разнились от тех, что были взяты за образец. Так, результаты
преобразований в Анголе и Эфиопии так же мало походили на советский образец, как политические
порядки, например, в Зимбабве на отлаженные политические механизмы в Великобритании — бывшей
метрополии, ставшей после обретения независимости Зимбабве образцом для политического подражания.
Оказалось, что для воспроизводства политической организации принятой за образец модели недостаточно
воспроизводства институциональной структуры референтного общества, а сходные институциональные
структуры по-разному функционируют в различных культурных средах. В справедливости подобных
констатаций мы имели возможность убедиться и на отечественном политическом опыте. В период кризиса
государственного социализма на рубеже 1980-1990 гг. в поисках оптимальных моделей общественного
устройства взгляд и специалистов-обществоведов, и рядовых граждан был обращен в пользу сложившихся в
Западной Европе и США политических механизмов, обеспечивших устойчивый экономический рост и
социально-политическую стабильность. Тогда многим казалось, что осуществления институциональных
преобразований демократического характера (обеспечение разделения властей и независимости судебной
власти; политический и экономический плюрализм; выборные механизмы формирования органов власти;
изменение соотношения политических и экономических факторов в пользу последних и выдвижение
частного интереса в качестве локомотива общественного движения и т. п.) будет достаточно для
радикальной модернизации общества, обеспечения эффективного экономического роста и оздоровления
политических отношений в целом. Однако по истечении десятилетия после начала преобразований
очевидно: институциональные
преобразования представляют собой необходимое, но отнюдь не достаточное условие демократизации
социально-политического устройства. Не менее важны такие характеристики социума, как сложившиеся в
процессе историко-политического развития устойчивые модели мышления и поведения властных сообществ
и массовых групп; ценности, нормы и традиции, регулирующие социально-политические отношения в
обществе и сам характер политического участия. Способом преодоления ограниченности
институционального подхода в социально-политических исследованиях и стало формирование политико-
культурного подхода, исходящего из признания влиятельности политико-культурных характеристик
общества, наиболее важными из которых выступают менталитет; доминирующие взгляды, теории,
концепции как на массовом, так и на индивидуальном и групповом уровнях; нормативно-ценностная
система общества, включающая нормы как официального (писаного), так и неформального («неписаного»)
права; доминирующие на индивидуальном, групповом и массовом уровнях модели и стереотипы поведения.
На процесс разработки концепции П. к. в западной политической культурологии значительное влияние
оказали идеи теории социального действия и концепции культуры Т. Парсонса. В течение последних пяти
десятилетий концептуализация понятия П. к. осуществлялась в рамках ряда ведущих подходов к
определению сущности этого феномена. В качестве таковых выступали следующие направления: а)
психологическое (Г. Алмонд, С. Верба, Б. Пауэлл), в контексте которого культура рассматривалась в
качестве системы ориентаций на политические ценности; б) объективистское (Д. Истон), исходившее из
понимания культуры в качестве функционального ограничителя поведения людей; в) эвристическое (Л.
Пай), трактующее культуру как познавательную конструкцию, имеющую ценность в исследовательских

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
453-
-453
целях; г) «всеобъемлющее», интерпретирующее культуру как синтетическое единство установок и
политического поведения людей.
Несомненно, пионером систематизированного изучения П. к. в ХХ в. стал Г. Алмонд: именно он в статье
«Сравнительные политические системы» [20] предложил формулировку концепции П. к. (что дало
основание для распространенного мнения о том, что именно Алмонд ввел в научный оборот само понятие П.
к. хотя оно встречалось и ранее в американской исследовательской литературе [см., напр., 19], а впервые
было употреблено, как отмечалось выше, Гердером). Важным этапом разработки этой концепции стала
совместная работа Г. Алмонда и С. Вербы «Культура гражданственности» (1963) [21], в которой была
предпринята по-
479
пытка сравнительного исследования П. к. тринадцати стран, а также исследование под редакцией С.
Вербы и Л. Пая и «Политическая культура и политическое развитие» (1965) [22],
В своих исследованиях Алмонд, будучи сторонником системно-функционального направления, исходил
из того, что качественный анализ политической системы требует единства двух уровней анализа —
институционального и ориентационного. При этом институциональный уровень предполагает изучение
системы политических институтов, а ориентационный — специфики формирующихся в ее рамках
политических ориентаций. Совокупность последних и представляет собой, по мнению Алмонда, феномен П.
к., которая есть единство трех ориентаций — познавательных, оценочных и эмоциональных.
В рамках совместного сравнительного исследования П. к. Алмондом и Вербой была предложена ставшая
впоследствии знаменитой триада типов П. к.: патриархальная, подданническая, культура гражданского
участия.
В отечественном обществознании начиная с 1980-х гг. продолжились (а по существу начались) поиски в
сфере изучения П. к. Среди первых работ, посвященных этой теме следует назвать исследования Ф.М.
Бурлацкого, A.A. Галкина, М.М. Мчедлова, Н.М. Кейзерова, Р.Г. Яновского, Е.М. Бабосова. Последнее
десятилетие ушедшего века отмечено взрывом исследовательского интереса к проблеме. Появились работы
A.C. Ахиезера, В.А. Ачкасова, Э.Я. Баталова, И.А. Василенко, К.С. Гаджиева, Ю.В. Ирхина, A.A. Кара-
Мурзы, К. Касьяновой, И.К. Пантина, Ю.С. Пивоварова, А.И. Соловьева, Е.Б. Шестопал и др.
Анализируя особенности изучения отечественной П. к. и констатируя обращение российских
исследователей этого направления к работам зарубежных коллег, несомненно, следует отметить тот факт,
что современное изучение российской П. к. опирается не только на результаты изысканий западных
политологов и культурологов, но прежде всего на богатейшее творческое наследие русской общественно-
политической мысли, посвященное исследованию особенностей русской культуры. Это произведения И.С. и
К.С. Аксаковых, H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.И. Герцена, Н.Я. Данилевского, Ф.М. Достоевского, И.А.
Ильина, К.Д. Кавелина, Б.А. Кистяковского, В.О. Ключевского, К.Н. Леонтьева, Д.С. Мережковского, П.Н.
Милюкова, В.В. Розанова, С.М. Соловьева, И. Солоневича, Л.Н. Толстого, Г.П. Федотова, СЛ. Франка, A.C.
Хомякова, П.Я. Чаадаева, Б.Н. Чичерина, Г.Г. Шпета. И хотя понятие «П. к.» в произведениях
перечисленных авторов не упоминалось, тем не менее наследие отечественной
общественно-политической мысли столь богато глубокими и проницательными идеями и пророчествами
относительно национального характера, отечественной культуры и отечественного менталитета, что и
сегодня оно является важнейшим теоретическим и методологическим источником в исследовании феномена
П. к. и политического сознания российского общества.
В течение последнего столетия изучению наследия русской общественно-политической мысли
посвящены многие тома, поэтому позволим себе пунктиром отметить лишь некоторые из его идей, ставшие
особенно актуальными в контексте современных политико-культурных изысканий. Принципиально важно
отметить, что эвристическая значимость русской общественно-политической мысли в качестве
методологического основания изучения российской П. к. обусловлена тем, что историко-политическая
реальность, разделенная столетием — между началом и финалом ХХ в. — поражает удивительным
сходством моделей политического сознания и поведения социально активных слоев российского общества
— и прежде всего российской интеллигенции.
Так, осуществление либеральных рыночных реформ 90-х гг. ХХ в., сопряженное для большинства
населения с трудностями «встраивания в рынок», дало основания вспомнить размышления отечественных
философов относительно антибуржуазности русского народа. H.A. Бердяев писал: «Только в России нет
давящей власти буржуазных условностей, нет деспотизма мещанской семьи» [12:302]. Ф.М. Достоевский
критиковал «эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество» в противовес духовным исканиям,
полагая, что подлинного внимания заслуживают такие моральные проблемы, как смысл жизни, моральный
выбор, границы дозволенного в области человеческой воли («Тварь я дрожащая или право имею?»);
пророчески предупреждал о великих искушениях, возникающих перед человеком в ситуации снятия
моральных запретов («Коль Бога нет, то все позволено»).
Размышляя над истоками неудач в области массового политического участия в 1990-е гг. и наблюдая
разочарование населения в политике и политиках, нельзя не вспомнить суждение H.A. Бердяева
относительно того, что русский народ — народ неполитический: «Россия — самая безгосударственная,
самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший
устраивать свою землю» [12:298] Можно считать сбывшимся пророчество И.А. Ильина: «Народоправство

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
454-
-454
требует от народной толщи известных знаний и самостоятельного мышления о знаемом. Есть степень
народного невежества, при котором вводить демократию можно толь-
480
ко для того, чтобы надругаться над ней. Народ, не знающий ни истории, ни географии своей страны, не
увидит сам себя; и все его голосования будут бессмысленны. Народ, не понимающий своего хозяйства,
будет обманут первой же шайкой демагогов. Народ, не способный самостоятельно мыслить о своей судьбе и
своем государстве, будет цепляться за подсказываемые ему фальшивые лозунги и побежит за льстивыми
предателями. Мировая конъюнктура есть обстояние сложное — и дипломатически, и стратегически, и
экономически, и национально, и религиозно. К какому народоправству способен народ, не знающий ничего
верного о других народах, о их жизни, интересах, претензиях, планах и намерениях? Ни к какому! Он
политически слеп и дипломатически глух; в финансовых вопросах он подобен ребенку; в делах культуры и
науки он некомпетентен; в делах стратегии и войны он беспомощен. Что же весит его голосование? У
темного человека «право голоса» будет всегда украдено политическим жуликом...» [7: 139].
Это суждение, несомненно, верно, однако тот же Бердяев, констатируя «безгосударственный характер»
русских, вместе с тем отмечал, что одновременно Россия есть и «самая государственная и самая
бюрократическая страна в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал
могущественнейшее в мире государство, величайшую империю» [12:199].
Поразительная антиномия! Но не единственная. Другое противоречие кроется в отношении России и
русского сознания к национальности. Бердяев писал: «Россия — самая не шовинистическая страна в мире»
[12:300]. И одновременно Россия — «самая националистическая страна в мире» [12:301]. Следующая
антиномия, отмеченная Бердяевым: «Россия — страна — безграничной свободы духа». И одновременно
Россия — «страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная прав личности и не
защищающая достоинства личности. Страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни
государством» [12:302]. И еще: отмечая антибуржуазность русских (Россия — «самая не буржуазная страна
в мире; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе»
[12:302]), Бердяев отмечал, что одновременно Россия — «страна купцов, погруженных в тяжелую плоть,
стяжателей, консервативных до неподвижности» [12:304]. Следующая антиномия: «Святая Русь имела
всегда оборотной своей стороной Русь звериную... русский человек устроен святостью и он же упоен
грехом, низостью» [2:26-27]. Перечисленные антиномии не исчерпывают перечень противоречий,
характерных для российской культуры:
«Ту же загадочную антиномичность можно проследить в России во всем». [12:302] Таким образом,
противоречивость как единство противоположностей, как движение от одной крайности к другой, предстает
в качестве сущностного своеобразия отечественной П. к.: «В ней нет дара создания средней культуры»
[12:310].
Размышляя об особенностях российской П. к., нельзя не отметить предельно точно сформулированную
Ф.М. Достоевским в речи о Пушкине идею всемирной отзывчивости, всечеловечности и всепонятности
русского народа, всеобъемлемости русского духа, всеединяющего и всепримиряющего. Крайнее выражение
этих качеств характерно тем, что «русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб
успокоиться: дешевле он не примирится» [12: 137].
Важная характеристика отечественной политической традиции — особенности отношений социальных
«верхов» и «низов» в России. Несомненно, был прав И.Л. Солоневич, когда писал, что моделью отношений
верховной власти и массовых групп населения является «народная монархия» — союз верховной власти и
внеэлитных групп населения против аристократии. Устойчивость этого союза на протяжении значительных
периодов русской истории породила другую характерную черту отечественной П. к. — традицию
подданнического отношения к власти даже тогда, когда власть не оправдывает возложенных на нее надежд.
Казалось бы, новое «тысячелетье на дворе», но и сегодня справедливо суждение К.Н. Леонтьева о
долготерпении и смирении русского народа, которое выражается в «охотном повиновении властям, иногда
несправедливым и жестоким, как всякие земные власти» [12:167]
На исходе ХХ в. новое звучание получил многолетний спор западников и славянофилов. На этот раз
полемический дискурс обрел практическое воплощение: рыночные реформы 1990-х гг. осуществлялись в
русле воззрений крайних течений российского западничества. Однако было бы заблуждением сводить
многообразие идей и течений, свойственное столь сложному и многоплановому явлению, каким является
русское западничество, лишь к одной его версии. Тем более что практические результаты экономической и
социальной политики в 1990-е гг. по ряду параметров во многом скорее отдалили страну от западной
модели политико-экономического устройства, чем приблизили к ней. И потому, как и более века назад,
справедливо суждение Достоевского о том, что «западники ровно столько же послужили русской земле и
стремлениям духа ее», как и славянофилы [12: 133:133], тогда как крайние «прогрессисты» убеждены были,
что в России есть лишь косная масса, тормозящая развитие к «про-
481
грессивному лучшему»: «Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ».
Ибо... народ наш есть только недостойная, варварская масса» [12:135:135].
Подобные политические установки были весьма влиятельны на рубеже XIX-XX вв. в среде русской
интеллигенции, ставшей ведущим политическим субъектом российской политики, главной движущей силой

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
455-
-455
трех русских революций начала ХХ в.: «... революция есть духовное детище интеллигенции, а... ее история
есть исторический суд над этой интеллигенцией» [4: 45], поскольку пафос революции есть ненависть и
разрушение [4]. «Сонмище больных, изолированных в родной стране, — вот что такое русская
интеллигенция», — таков суровый вердикт авторов «Вех» [4:100].
Авторы «Вех» с тревогой всматривались в политический портрет русской интеллигенции начала ХХ в.,
отмечая такие внушающие опасение ее черты, как безрелигиозность, максимализм, нетерпимость и
взаимные распри, высокомерие и самомнение, правовой нигилизм, отчуждение от государства и
враждебность к нему; нигилистический морализм. Именно эти черты легли в основу П. к. активизма (в
противовес подданническому модусу поведения массовых групп населения, преимущественно
крестьянского), свойственной разночинной либерально-демократической и социал-демократической
интеллигенции рубежа XIX-XX вв., и именно эти черты в полной мере проявились в большевистской
революции. Последняя предстает как явление, имеющие глубокие корни в российской политической
традиции и культуре. С предельной точностью это обстоятельство было отмечено уже H.A. Бердяевым. Так,
в работе «Духи русской революции» он писал, что, несмотря на радикализм Октябрьской революции, она
изменила лишь внешние формы общественной жизни, оставив в неприкосновенности несущие конструкции
традиционной общественной организации: «При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел
небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в
России революционной образ старой России... Многое старое, давно знакомое является в новом обличье...
Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые,
знакомые лица [6:55-56]
Идеи философов начала века получили развитие в работах отечественных исследователей A.C.
Панарина, A.A. Ширинянца, Н.Е. Покровского, В.Г. Федотовой, А.И. Уткина. Так, работы A.A. Ширинянца
[14] посвящены анализу П. к. интеллигенции ХIХ-начала ХХ в. П. к. интеллигенции в этих исследованиях
предстает в качестве своеобразного сплава переживаний,
верований, символов, ориентаций, традиций, установок и ценностей, порожденных ее «срединным»
положением между народом и властью. В данном контексте термин «П. к. интеллигенции» определяет
политическую субкультуру русской интеллигенции — маргинальной группы носителей
специализированного сознания, игравшей рационально-активистскую роль в истории страны этого периода,
оппозиционной правящему режиму и политической системе в целом, в политическом сознании которой
сочетались индивидуалистические и коммунитарные, этатистские и антиэтатистские, радикально-
нигилистические и охранительные стремления, космополитизм и самобытность.
Предназначение интеллигенции — в выработке относительно целостной картины общественного
сознания. Предметом специального анализа в работах Ширинянца стало исследование сформировавшегося в
период роста самосознания интеллигенции нового типа мышления, целью которого являлось не примирение
с правящим режимом, а противостояние ему. Ширинянц предложил типологию П. к. русского общества
XIX-начала ХХ в., представляющую сочетание трех системообразующих элементов: «официальной»,
«массовой» и «интеллигентской» субкультур. Можно согласиться с автором, когда он рассматривает теорию
и практику модернизаторского активизма демократической (народнической, либерально-демократической,
социал-демократической) интеллигенции, осознавшей необходимость практического политического
действия (реформами «сверху» или революцией «снизу») в качестве проявления в России второй половины
XIX в. формирующегося гражданского общества.
Устойчивость сложившейся в России на рубеже XIX-XX вв. П. к. проявилась в том, что и на исходе ХХ
в. в период осуществления рыночных реформ нашли проявление такие унаследованные от исторических
предшественников качества российской интеллигенции, как фанатизм, радикализм, стремление опередить
постепенный бег времени, авторитарность, пренебрежение средствами во имя благой цели («Цель
оправдывает средства»). Подобные политические установки радикальной интеллигенции нового поколения
послужили основанием для рождения в 1990-е гг. нового понятия — понятия «рыночного большевизма».
В этом контексте уместно вспомнить зафиксированный A.C. Панариным парадокс: в напряженном
диалоге Востока и Запада западная интеллигенция (от левых и новых левых до последователей дзен-
буддизма) нередко принимала сторону Востока, а интеллигенция восточных стран — сторону Запада. Но
наибольшего раздвоения сознание интеллигенции достигало в Рос-
482
сии. Российская интеллигенция, как правило, исповедовала принцип служения «передовой идее»,
нередко в ущерб собственной национальной традиции и культуре. Вчера слепая верность марксизму, а
сегодня — дарвинистским интерпретациям рынка, питала увлечение крайними версиями социально-
экономических реформ [9].
Следует отметить, что российская П. к — как традиционная, так и современная — привлекала внимание
и зарубежных исследователей, среди которых необходимо назвать работы Ст. Уайта, А. Брауна, Р. Такера, Р.
Пайпса. Одним из важнейших методологических принципов изучения российской политической традиции
стало осознание преемственности ее новых форм по отношению к предшествовавшим. Так, Р. Такер в
работе «Политическая культура и лидерство в СССР от Ленина до Горбачева» писал: сколь бы ни была
революция «новаторской в культурном назначении в смысле создания новых институтов, убеждений,
ритуалов, идеалов и символов, — национальный культурный этос продолжает свое существование многими
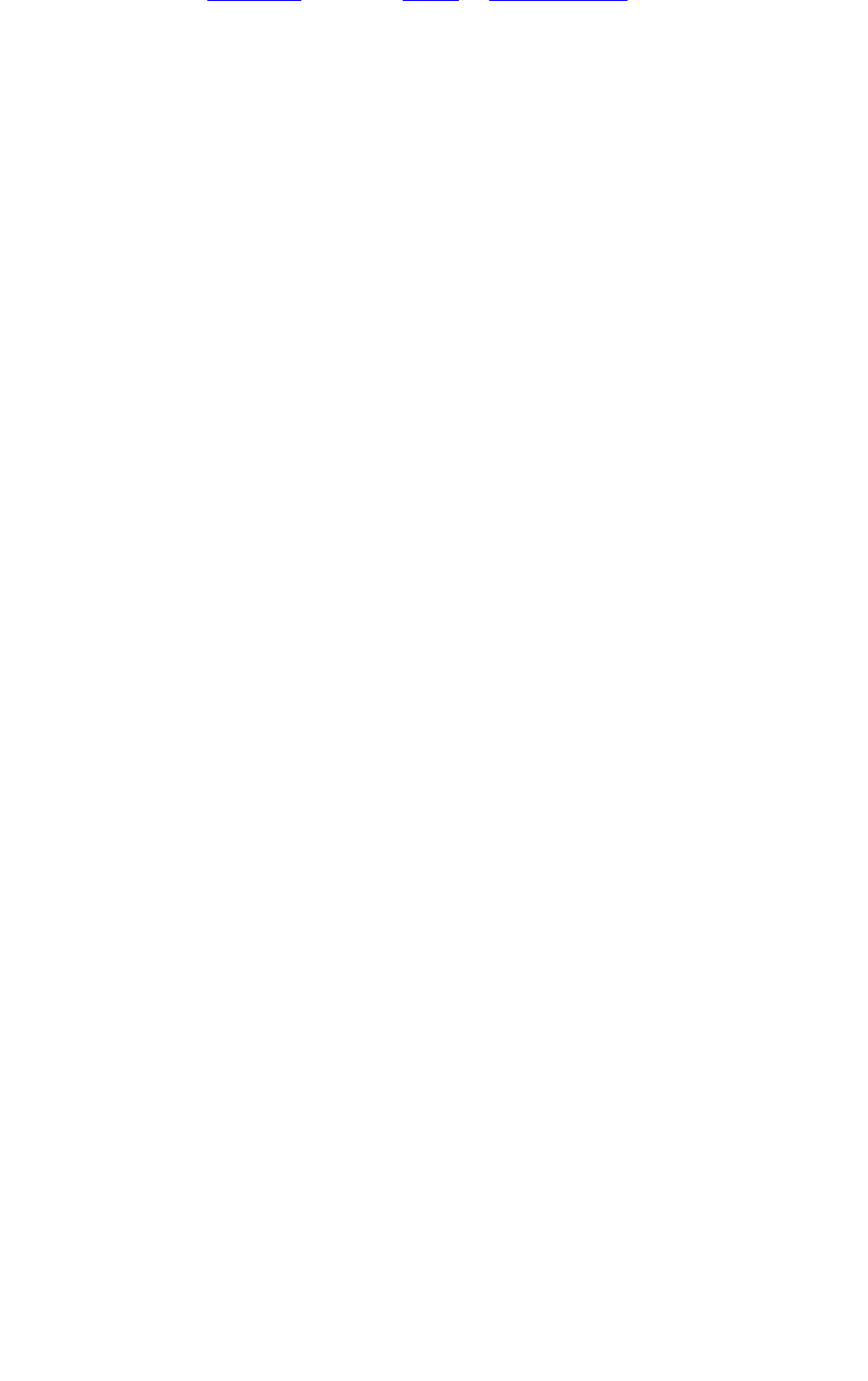
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
456-
-456
путями, причем в одних сферах жизни более устойчиво, чем в других. Со временем происходит процесс
адаптации, посредством которого элементы дореволюционного культурного прошлого нации
ассимилируются в новую революционную культуру, которая таким образом принимает форму амальгамы
старого и нового» [15:VII-VIII].
В этой связи не случаен тот факт, что целый ряд важнейших характеристик советской П. к. предстал в
качестве логического развития свойств дооктябрьской политической традиции. Исследователь советской П.
к. Э.Я. Баталов отмечал такие характеристики П. к., как индифферентное отношение к политике и слабая
политизация общества; ориентация на практические результаты функционирования массовой политической
системы, проявляющиеся в обыденной жизни, невысокий уровень политического участия; поддержка
советской политической системы со стороны массовых групп населения; этатизм и сопутствующая ему
ориентация на вождя; доминирование ценностей эгалитаризма (ориентация на равенство не только условий,
но также возможностей и результатов, и не только в политической, но и в экономической и социальной
областях); коллективизм; конформизм; отсутствие дифференцированной партийно-политической и
идеологической самоидентификации граждан [1].
Всеобъемлющее изучение феномена П. к. предполагает не только сравнительное изучение ее
традиционных и современных форм, но также компаративное исследование П. к., сложившихся в рамках
различных ци-
вилизационных образований. Подобное исследование является необходимым условием гармонизации
взаимодействия культур с тем, чтобы потенциально конфликтное противостояние цивилизаций (С.
Хантингтон) могло трансформироваться в русло конструктивного диалога (см.: Личность, I). В этом
контексте значительный интерес представляет сопоставление важнейших параметров различных П. к. в
книге И. А. Василенко «Диалог цивилизаций» [15].
Исходной гипотезой автора является предположение о том, что политические ценности в рамках каждой
цивилизации имеют социокультурную природу, вследствие которой единство различных политических
форм в культуре поддерживается не тождеством их политической природы и не направленностью
политических интересов, а «скрытой гармонией» социокультурной идентичности. При этом ценностную
природу политических процессов определяют важнейшие социокультурные архетипы и коды [15:29].
Другим важным методологическим основанием сравнительного изучения П. к. в работах И.А. Василенко
является убеждение в том, что ключом к подобному сравнительному исследованию является религия.
Именно религиозной этике принадлежит решающая роль в становлении духовных и хозяйственных основ
всех мировых цивилизаций [15:68]. Современный политический диалог мировых культур определяют пять
мощных духовно-религиозных традиций: греко-православная, западно-христианская, конфуцианско-
буддистская, индо-буддистская и исламская, каждая из которых обладает собственными архетипами и
кодами.
В качестве важнейших характеристик индо-буддистской цивилизации И.А. Василенко рассматривает
внутрирелигиозный плюрализм (свойственный индуизму плюрализм типов поведения и духовных
устремлений); космизм; этикоцентризм; высокую оценку возможностей индивида; коллективизм;
интеллектуализм; эмпиричность; инструментальность. Центральной проблемой мировоззрения индуизма
является проблема долга, а атрибутивным свойством П. к. индобуддистской цивилизации — ее глубоко
контрастный, бинарный, расколотый характер: эта культура сакральна, пластична и многопланова в
интерпретации высших целей общества и одновременно консеративно-сословна в понимании социально-
классовой структуры общества (кастовость, иерархичность, сегментированность) [15:76-88].
Среди важнейших «несущих конструкций» конфуцианско-буддистской политико-культурной традиции
— этикоцентризм и социально-нравственная ангажированность. Важнейшими компонентами
конфуцианской этики выступают этика мирского аскетизма,
483
трудолюбия, бережливости, накопительства, поклонения старшим; патернализм, преданность
государству; внутриэтническая солидарность; опора на древность как основание политической традиции;
этатизм в продуктивном сочетании с рыночной экономикой; преобладающее влияние вертикальных (в
противовес горизонтальным) связям; внутренняя гомогенность; ориентация преимущественно на
компромиссные методы разрешения конфликтов. Важнейшим механизмом конфуцианско-буддистской П. к.
является гибкость как способность к реинтерпретации традиционных ценностей в духе современности, к
перманентному самообновлению, к творческому восприятию и адаптации инокультурных влияний с опорой
на национальную традицию. Доминантными ценностями конфуцианско-буддистской политической
традиции выступают лояльность, спокойствие, гармония, коллективизм. Здесь торжествуют долг,
обязанность, иерархия, подчинение личности интересам группы и, одновременно, право защищать эти
ценности, даже с использованием насилия [15:100-110].
В исследовании И. А. Василенко П. к. исламской цивилизации предстает как универсальная, даже
имперская культура, обладающая мощным потенциалом надэтнического мышления. Эта культура
характеризуется ориентацией на активность человека; убежденностью в необходимости совершенствования
личности каждого мусульманина; универсальностью политического мышления приверженцев этой
традиции, вследствие чего человеческая история предстает в качестве единой, основанной на единстве
религий и культур. П. к. ислама сакральна: религия дает мусульманину наиболее энергичные мотивации в

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
457-
-457
области политики, а принцип религиозной теократии обусловливает единство и нераздельность духовной и
светской власти главы мусульманской общины. Важными принципами политической традиции ислама
являются этатизм; отсутствие аскетизма; демонстрация успеха и могущества; политическая
бескомпромиссность [15:122-126].
По мнению И.А. Василенко, важнейшими ценностно-смысловыми основаниями П. к. западно-
христианской цивилизации являются прагматизм, плюрализм, субъективизм и индивидуализм;
всеобъемлющее влияние идеи политической свободы; ориентация на активистский тип политического
участия. Это светская и прагматическая П. к. конвенционального, риторического типа. Человек
политический в западно-христианской культуре убежден в необходимости организационного и
технического переустройства мира, который в угоду человеку надлежит исправить. При том важнейшим
основанием этой традиции является недоверие к человеческой природе: политические меха-
низмы западной демократии призваны обеспечить благие результаты независимо от моральных и
интеллектуальных качеств людей. Другим важным постулатом западно-христианской традиции является
приоритет рационального начала: критерий рациональности доминирует над иными мотивациями
деятельности. Такая установка является основанием культа инновационной, реформаторской,
модернизационной деятельности [15:137-145].
Что касается важнейших ценностно-смысловых оснований российской П. к., в своем традиционном
измерении во многом основанной на архетипах и кодах православной культуры, то доминантными ее
характеристиками выступают приоритет духовных ценностей над материальными; стремление к равенству и
справедливости; синкретизм правды и истины; ориентация на синергию как на гармонию земного и
небесного начал; этатизм; имперская традиция всемирной власти; целостность политического
мировосприятия, важнейшим компонентом которого является ценностное отношение к миру; политический
радикализм; приверженность к эсхатологизму; мистическое толкование истории; соборность; космизм.
Важной чертой русской П. к. является этикоцентризм: нравственные нормы призваны регулировать не
только собственно этические отношения, но также политические и экономические. При этом для русской П.
к. характерна антиномия идеалов рационального и морального.
Богатый материал относительно взаимопроникновения и взаимовлияния ценностной иерархии
православной цивилизации и сложившихся в ее рамках доминантных характеристик отечественной П. к.
содержит работа A.C. Панарина «Православная цивилизация» [10].
Панарин затрагивает обсуждаемую в рамках настоящего издания проблему цивилизационной
идентичности РОССИИ (см.: Цивилизационная идентичность, I). По его мнению, драма российской
идентичности связана с тем, что эта идентичность с самого начала носила не натуралистический характер, а
являлась по преимуществу ценностно-нормативной, духовной. Само греческое, восточно-христианское
исповедание к тому времени, когда Московская Русь обрела государственную самостоятельность, утратило
географическую и цивилизационную привязку по причине гибели Византии и стало восприниматься как
священное наследие, находящееся в опасности и нуждающееся в защите. Российская идентичность в
качестве защитника Святой Руси и определилась в XV в. в форме народа-защитника православного идеала.
Речь, таким образом, идет об идеократической идентичности, основанной на привязанности к священному
идеалу — тексту и аскезе,
484
необходимой для того, чтобы ему соответствовать и сберечь от посягательств [10:7].
Особенность русской культуры, по мнению Панарина, не в том, что она опосредует восприятие
человеком реальности некоторыми нормативно-аксиологическими текстами (это делает любая культура), а в
том, что она, во-первых, больше других тяготеет к «монотекстуальности» (пронизанности всех практик
единым центральным смыслом), во-вторых, ее процедуры подведения действительности под нормативный
текст требуют значительно большего внутреннего напряжения в силу той изначальной дистанцированности
ортодоксального греко-православного текста от эмпирической реальности, которая связана с ранней
гибелью материнской цивилизации — Византии [10:8].
Доминирующими конфликтными линиями российской истории выступают, по мнению Панарина, две
коллизии. Во-первых, это противостояние ортодоксальной аскетики и быта, который теряет легитимацию со
стороны сакрально-теократического начала по мере того, как становится все более легким и устроенным; во-
вторых, противостояние универсального, всемирного и местного, доморощенного. Противостояние идеи
(текста) натуре пронизывает всю историю нашей цивилизации и образует источник ее напряженно-
драматической динамики. Православный мировой регион характеризуется своеобразным сплавом
цивилизационных и формационных механизмов; он характеризуется перманентной полемикой с местными
особенностями (то есть с самим собой) во имя движения к сакральному и универсальному [10:9-10].
Таким образом, изучение феноменов П. к. в классической и современной литературе в полной мере
подтверждает представление об интегративном характере феномена П. к., синтезирующего ценностно-
нормативные механизмы регуляции мышления и поведения в сфере политики. При этом политическое
сознание рассматривается не только как субъективное отражение системы политических отношений во всем
комплексе многообразных характеристик и параметров этой системы, но также в качестве важнейшего
системно функционирующего целеполагающего и целереализующего механизма, программирующего
политическое поведение.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
458-
-458
Важнейшее методологическое и эвристическое значение исследования П. к. и политического сознания
обусловлено взаимопроникновением различных сфер социальной организации, свойственным
современному этапу социального развития: политика в подобном контексте предстает в качестве
всепроникающего и влиятельного инструмента управления всеми областями социальной организации.
Дополнительным обстоятельством, актуализирующим практику политико-
культурного подхода в современных культурологических исследованиях, является влияние процессов
глобализации, в ходе которой прежде относительно замкнутые и изолированные цивилизационные
политико-культурные образования вступают в отношения взаимопроникновения и взаимозависимости. В
ходе глобализации, являющейся чрезвычайно противоречивым по своим исходным посылкам и результатам
процессом, возникают принципиально новые политико-культурные конфигурации, решительно
изменяющие не только прежние алгоритмы и стандарты взаимодействия политико-экономических и
культурных субъектов, не только радикально изменяющие культурные среды, но проблематизирующие
существовавшие ранее ценностно-смысловые форматы и иерархии (см.: Личность, I). В подобной ситуации
именно политико-культурный подход может послужить эффективным эвристическим инструментом
изучения новой исторической реальности.
Библиография
1. Баталов Э.Я. Политическое — слишком человеческое. М., 2000.
2. Бердяев H.A. Судьба России. М., 1918.
3. В поисках пути. Вехи. Смена вех. М., 1992.
4. Вехи. Интеллигенция в России: Сборники статей 1909-1910. М., 1991.
5. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
6. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.
7. Ильин H.A. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России: Статьи 1948-1954 годов:
В 2 т. Т. 1. М., 1992.
8. О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского
зарубежья. М., 1990.
9. Панарин A.C. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях ХХ века. М., 1998.
10. Панарин А. С. Православная цивилизация. М., 2002.
11. Панарин A.C., Покровский Н.Е., Федотова В.Г., Уткин А. На перепутье (Новые вехи). М.,
1999.
12. Русская идея. М., 1992.
13. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. М., 2000.
14. Ширинянц A.A. Вне власти и народа: Политическая культура интеллигенции России Х1Х-
ХХ веков. М., 2002.
15. Василенко И.А. Диалог цивилизаций. М., 1999.
16. Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX-первой
трети ХХ столетия. М., 1997.
17. Формизано Р.П. Понятие политической культуры // Pro et Contra. Лето 2002.
18. Шатилов А. Постсоветские подходы к изучению политической культуры // Pro et Contra.
Лето 2002.
19. Webb S., Webb В. Soviet Communism: A New Civilization? New York, 1936.
20. Almond G. Comparative Political Systems // Journal of Politics. XVIII. 1956.
485
21. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Countries.
Princeton, 1963.
22. Verba S. Comparative Politics // Political Culture and Political Development/ L W. Pye, S. Verba
(eds.) Princeton, 1965.
23. Pye L. W. Culture and Political Science: Problems in the Evolution of the Concept of Political
Culture // Social Science Quart. LIII. 1972.
24. Taker R. Political Culture and Leadership in Soviet Russia. From Lenin to Gorbachev. N.Y.-
London, 1987.
Гаман-Голутвина О.В.
«РУССКАЯ ИДЕЯ» (к позиции 4.4)
Вопрос о Р. и. — прежде всего академический. Ему принадлежит важное место в истории русской
философской и общественно-политической мысли. Полемика вокруг того, что понимать под Р. и., шла на
протяжении большей части XIX и ХХ вв., приводя к разным результатам. После снятия у нас запрета на
изучение русской философии в ее полном объеме возродился и интерес к этой теме. Первоначально он
выразился в переиздании ранее опубликованных текстов, после чего появился ряд монографий, написанных
современными авторами. Во всяком случае, необходимость обращения к данной теме в историко-
философском плане ни у кого не вызывает сомнения.
Иное дело, когда тот же вопрос ставится применительно к сегодняшней России. В такой формулировке
он вызывает к себе разное отношение, вплоть до резко негативного. Так, академик Д.С. Лихачев писал в
свое время: «Общенациональная идея в качестве панацеи от всех бед — это не просто глупость, это крайне

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
459-
-459
опасная глупость». В том же духе высказываются некоторые другие деятели культуры и политики,
принадлежащие, как правило, к либерально-демократическому лагерю. Р. и. для них — чуть ли не синоним
русского национализма, сталкивающего Россию с другими странами Запада. Но вот иное мнение: «Без
высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация». Оно принадлежит Достоевскому, а вслед за ним
было поддержано многими другими выдающимися русскими мыслителями и писателями, коих никак не
заподозришь в узко понятом национализме. Кто здесь прав?
Р. и. трактуется обычно как национальная идея. Но что, собственно, следует понимать под национальной
идеей? Ее следует, видимо, отличать от национального интереса, играющего важную роль в современной
политической практике, в частности, в области межгосударственных отношений. Каждое государство
обладает своими национальными интересами, защита которых — преобладающий тип политики в
современном мире. Россия здесь не исключение. Никто не станет отрицать наличия у нее своих
национальных интере-
сов — даже самые ярые противники национализма. Что же вызывает у них смущение при слове «идея»?
Различие между идеей и интересом трудно установить в границах существования отдельной нации, но
оно становится очевидным, как только мы ставим вопрос о принадлежности данной нации к более широкой
исторической общности — цивилизации. При всем несходстве своих национальных интересов разные
нации, принадлежа к одной цивилизации, выражают для себя ее суть и смысл в идее. Можно спорить, в чем
состоит эта идея, но она, несомненно, существует в каждом народе, связанном с другими сознанием своей
цивилизационной идентичности. Так, любой европеец независимо от своей национальной принадлежности
знает, что он европеец. Еще Константин Леонтьев удивлялся тому, что чем больше европейские народы
обретают свою национальную независимость, тем больше они становятся похожими друг на друга.
Подобная «схожесть» и позволяет говорить об объединяющей их идее. Европа в этом смысле — не
механический конгломерат стран и народов, разделенных между собой национальными интересами, но
определенная целостность, сложившаяся вокруг общей для себя идеи. Эту идею можно было бы назвать
общеевропейской, но она по-своему осознается и формулируется в каждой европейской нации — ее
философами и художниками. Не только экономический расчет, но и наличие такой идеи способствуют
сегодня общеевропейской интеграции.
О духовном родстве народов Европы писали многие выдающиеся мыслители Запада. По словам,
например, Э. Гуссерля, «как ни были враждебно настроены по отношению друг к другу европейские нации,
у них все равно есть внутреннее родство духа, пропитывающее их всех и преодолевающее национальные
различия. Такое своеобразное братство вселяет в нас сознание, что в кругу европейских народов мы
находимся «у себя дома» [1:302]. Подобное «родство духа» Гуссерль и называл идеей.
Идея, следовательно, — это система ценностей, имеющая более универсальное значение, чем
национальный интерес. Интерес — то, что каждый хочет для себя, идея — то, что он считает важным,
нужным не только для себя, но и для других, в принципе — для всех. Каждый народ, как и человек, имеет
свой интерес, но далеко не каждый имеет идею, которую может предложить людям в качестве общей для
них ценности. Таким народом были, например, греки и римляне. И сегодня идея, рожденная в Античности,
— «римская идея» — является неотъемлемым элементом европейской идеи, идеи Европы.
Уже мировые религии обладали интегрирующей функцией, выводившей народы за рамки племенных
486
культов и поверий. Наряду с государством они заключали в себе отличительный признак всех ранних
цивилизаций, предшествовавших европейской. И сейчас многие историки видят в религии основную
разграничительную черту между разными цивилизациями. Идея, однако, — не религиозная, а сугубо
светская, рациональная форма человеческой интеграции. Свое оформление она получает в составе особого
знания — философии, которая отличает европейскую культуру от всех других. Именно европейцу
свойственно идентифицировать себя не только по вере, но и по идее, т. е. посредством не мифологического
или религиозного, а философского сознания. Тот же Гуссерль понимал под «духовным обликом Европы»
«явленность философской идеи, которая имманентна истории Европы (духовной Европы)» [1:301] и берет
свое начало у греков. В различных опытах своего самоопределения и самосознания Европа представала тем
самым как философская идея, которую можно назвать также идеей западной цивилизации.
Проблема поиска такой идеи встала и перед Россией — с момента, как она стала осознавать себя частью
европейской цивилизации. Пока она, подобно всем цивилизациям древности, не выходила в своем
самосознании за пределы религиозной и государственной символики (православие и самодержавие), вопрос
о Р. и. никого не волновал. Только после победы над Наполеоном, когда Россия оказалась втянутой в самую
гущу европейской политики, мыслящая часть российского общества задумалась о том, что отличает Россию
от Европы и что связывает с ней. Тогда-то и заговорили о Р. и. Вопреки мнению, что она возникает в
результате изоляции России от Европы, ее возникновение было, наоборот, следствием вхождения России в
Европу. Р. и. в этом смысле — та же европейская, но только в ее русском прочтении и понимании.
Вопрос о Р. и. был поставлен и решался в составе также философского знания, появление которого в
России само по себе свидетельствовало о сближении с Европой. О Р. и. писали преимущественно философы,
причем до того, как Россия стала предметом экономического и социологического исследования. Вопрос о
России, по словам H.A. Бердяева, есть историософский вопрос, что как раз и означает приоритет
философской идеи над всеми видами эмпирического, позитивного знания. Подобное направление мысли

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
460-
-460
выходит на первый план там, где реальность находится еще в состоянии брожения, не отлилась в
законченную форму, не застыла в своей цивилизационной определенности и потому не может быть
предметом научной аналитики, апеллирующей к наличному опыту. То, что не имеет предмета в опыте,
может
быть представлено только в идее. В отличие от Европы, в которой философский поиск ее
цивилизационной идентичности давно закончился, обрел материальное воплощение и сменился чисто
научными разработками, в России он затянулся вплоть до настоящего времени и сейчас еще владеет нашими
умами. По известному выражению Л.Н. Толстого, в России еще ничего не сложилось и только начинает
складываться. Россия жила и живет в состоянии постоянного ожидания грядущих перемен, с надеждой или
тревогой всматриваясь в будущее. Она — как бы не в настоящем и даже не в прошлом, а в будущем. Не
отсюда ли тютчевское — «умом Россию не понять», «в Россию можно только верить»? Понять можно то,
что уже есть, верить — в то, что только будет. Желание придать этому будущему более или менее
отчетливую перспективу и рождало потребность в Р. и., разумеется, по-разному трактуемой нашими
радикалами и консерваторами, западниками и почвенниками.
Сама постановка вопроса о Р. и. была продиктована вначале не столько желанием отделить Россию от
Европы, сколько, наоборот, стремлением найти то общее, что связывает ее с нею поверх всех национальных
границ. По словам Владимира Соловьева — первого, кто сформулировал суть Р. и., «смысл существования
наций лежит не в них самих, но в человечестве», которое есть не абстрактное единство, но при всем своем
несовершенстве «реально существует на земле», «движется к совершенству... растет и расширяется вовне и
развивается внутренне» [2:192]. Р. и. и мыслилась Соловьевым как то общее, что является содержанием
жизни любого христианского народа. В таком понимании она не заключала в себе никакого национализма,
не оправдывала превосходство одного народа над другими, не призывала к национальному обособлению
России, к ее замыканию на себя. Наоборот, величие России она связывала с преодолением ею своего
национального эгоизма, даже с ее национальным самоотречением во имя сплочения и спасения всех
христианских народов. В этом смысл данного Соловьевым знаменитого определения «идеи нации»,
согласно которому она «есть не то, что она сама думает о себе во времени, но что Бог думает о ней в
вечности» [2:187]. Р. и., как ее понимает Соловьев, есть стоящая перед Россией как государством
религиозная и нравственная задача жить в соответствии не только со своими национальными интересами, но
и с теми моральными нормами и принципами, которые общи всему христианскому миру, составляют суть
христианства. Она есть сознание ответственности государства перед Богом, его необходимости быть не
только национальным, но и христианским государством. В Р. и. тем самым первоначально был
487
выражен не античный (правовой), а христианский идеал (или проект) государственного устройства.
Разумеется, существовали и иные варианты Р. и., трактовавшие ее в националистическом или
традиционалистском духе, выводившие на первый план несходство славянского культурного типа со всеми
остальными (Н.Я. Данилевский). В. Соловьев справедливо усматривал в такой трактовке Р. и. «вырождение
славянофильства», не отрицавшего при своем возникновении духовной близости России и Европы. Русский
национализм родился под прямым воздействием западного национализма и в противовес ему. По словам
Бердяева, «национализм новейшей формации есть несомненная европеизация России, консервативное
западничество на русской почве» [3:300]. С другой стороны, и тот вариант русской идеи, который был
предложен Соловьевым, страдал излишним мессианизмом, смешением и отождествлением вселенского и
русского, абсолютизацией теократической формы правления, означающей господство церкви над
государством. Друг и биограф Соловьева русский философ E.H. Трубецкой был не менее прав в своей
критике соловьевского проекта вселенской теократии как сути Р. и. «Внимание его, — писал он о
Соловьеве, — было поглощено мечтою об универсальном мессианизме России. Он отождествлял русскую
национальную идею с воплощением самого христианства в жизни человечества, с осуществлением на земле
Царства Божия в образе вселенской теократии. Но именно потому, что Россия была для него только народ
Божий, народ мессианский, он отрицал всякие индивидуальные, особенные черты в русском народном
характере. Индивидуальное, особенное у него потонуло в абсолютном, универсальном» [4:255-256]. Россия
— не христианство в целом, как думал Соловьев, а лишь одна из его обителей, хотя столь же универсальная,
вселенская, как и остальные. Равно и русский народ — не единственно избранный народ, а один из многих,
призванный вместе с другими делать одно общее дело. В такой трактовке Р. и. на первый план выходило то
особенное, индивидуальное, что отличает Россию от остального мира. Последним и, пожалуй, наиболее
влиятельным вариантом Р. и. в ХХ в. стало евразийство. Универсальный и консервативный элементы Р. и.
по-своему дали знать о себе и в русской версии марксизма.
Наличие разных трактовок Р. и. не отрицает их общей укорененности в русской почве. Расходясь и даже
конфликтуя между собой, они утверждали и национальное своеобразие России, ее самобытность, и ее
близость с другими европейскими народами и странами. И только все вместе они могут считаться
выражением действительного смысла Р.и. Как бы ни трактовать его,
Р. и. заключала в себе проект государственного и общественного устройства России (цивилизационный
проект), соответствующий традициям русской культуры, равно близким и далеким традициям культуры
европейской. Меру этой близости и отдаленности и пыталась постичь Р. и. Она потому и русская, что
ставила вопрос о России, и потому идея, что ответ на него искала не в реальной России, а в той, что
