Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. История Германии. Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

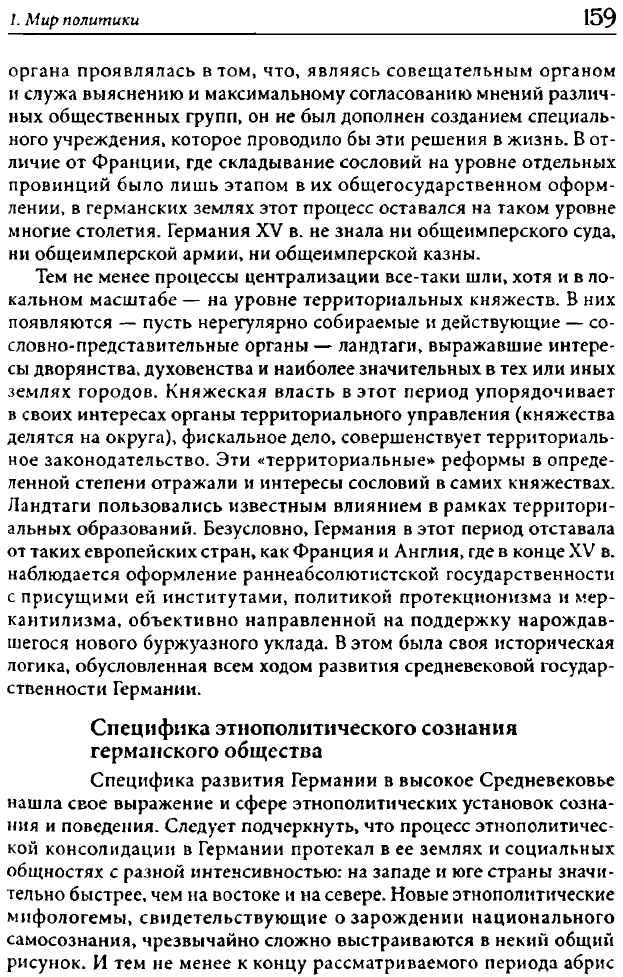
I.
Мир
политики
159
органа проявлялась
в
том,
что,
являясь совещательным органом
и
служа
выяснению
и
максимальному согласованию мнений различ-
ных общественных групп,
он
не был дополнен созданием специаль-
ного учреждения, которое проводило
бы
эти решения
в
жизнь. В
от-
личие
от
Франции,
где
складывание сословий
на
уровне отдельных
провинций
было лишь этапом
в их
общегосударственном оформ-
лении,
в
германских землях этот процесс оставался
на
таком уровне
многие столетия. Германия
XV в, не
знала
ни
общеимперского
суда,
ни
общеимперской армии, ни общеимперской казны.
Тем не менее процессы централизации все-таки шли,
хотя
и в
ло-
кальном масштабе
— на
уровне территориальных княжеств. В них
появляются
—
пусть нерегулярно собираемые и действующие
—
со-
словно-представительные органы
—
ландтаги, выражавшие интере-
сы дворянства,
духовенства
и наиболее значительных
в тех
или иных
землях городов. Княжеская власть
в
этот период упорядочивает
в
своих интересах органы территориального управления (княжества
делятся
на
округа), фискальное дело, совершенствует территориаль-
ное законодательство.
Эти
«территориальные» реформы
в
опреде-
ленной
степени отражали
и
интересы сословий
в
самих княжествах.
Ландтаги пользовались известным влиянием
в
рамках территори-
альных образований. Безусловно, Германия
в
этот период отставала
от таких европейских стран, как Франция и Англия, где в конце
XV в.
наблюдается оформление раннеабсолютистской государственности
с присущими
ей
институтами, политикой протекционизма
и
мер-
кантилизма, объективно направленной
на
поддержку нарождав-
шегося нового
буржуазного
уклада.
В этом была своя историческая
логика, обусловленная всем
ходом
развития средневековой
государ-
ственности Германии.
Специфика этнополитического сознания
германского
общества
Специфика
развития Германии
в
высокое Средневековье
нашла свое выражение
и
сфере этнополитических установок созна-
ния
и
поведения.
Следует
подчеркнуть,
что
процесс этиополитичес-
кой
консолидации
в
Германии протекал
в ее
землях
и
социальных
общностях
с
разной интенсивностью: на западе
и
юге страны значи-
тельно быстрее, чем на востоке и на севере. Новые этнополитические
мифологемы, свидетельствующие
о
зарождении национального
самосознания,
чрезвычайно сложно выстраиваются
в
некий общий
рисунок.
И тем не
менее
к
концу рассматриваемого периода абрис
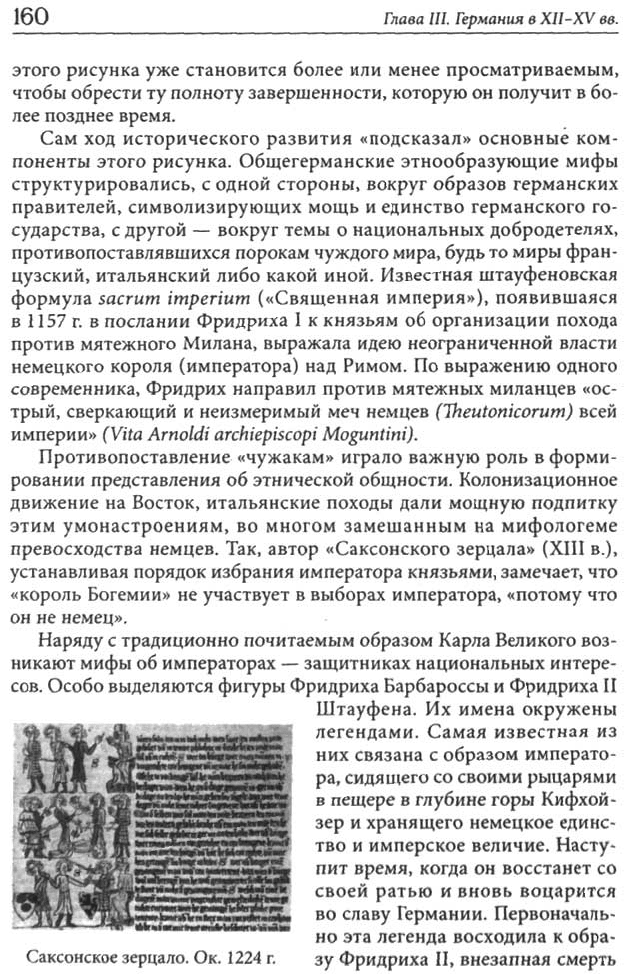
160
Глава
III.
Германия
в
ХП-ХУ
вв.
этого рисунка уже становится более или менее просматриваемым,
чтобы обрести ту полноту завершенности, которую он получит в бо-
лее позднее время.
Сам ход исторического развития
«подсказал»
основные ком-
поненты этого рисунка. Общегерманские этнообразующие мифы
структурировались, с одной стороны, вокруг образов германских
правителей, символизирующих мощь и единство германского го-
сударства,
с
другой
— вокруг темы о национальных
добродетелях,
противопоставлявшихся порокам
чуждого
мира,
будь
то миры фран-
цузский, итальянский либо какой иной. Известная штауфеновская
формула
васгит
1трегшт
(«Священная империя»), появившаяся
в
1157 г. в послании Фридриха I к князьям об организации похода
против мятежного Милана, выражала идею неограниченной власти
немецкого короля (императора) над Римом. По выражению одного
современника, Фридрих направил против мятежных миланцев
«ос-
трый, сверкающий и неизмеримый меч немцев (ТкеШопкогит) всей
империи» (УНа
АтоШ
агсЫер1$сор1
МортИхй).
Противопоставление
«чужакам»
играло важную роль в форми-
ровании
представления об этнической общности. Колонизационное
движение на Восток, итальянские походы дали мощную подпитку
этим умонастроениям, во многом замешанным на мифологеме
превосходства немцев. Так, автор «Саксонского
зерцала»
(XIII в.),
устанавливая порядок избрания императора
князьями,
замечает, что
«король Богемии» не
участвует
в выборах императора,
«потому
что
он
не немец».
Наряду с традиционно почитаемым образом Карла Великого воз-
никают мифы об императорах — защитниках национальных интере-
сов.
Особо выделяются фигуры Фридриха Барбароссы и Фридриха II
Штауфена. Их имена окружены
легендами. Самая известная из
них связана с образом императо-
ра, сидящего со своими рыцарями
в
пещере в глубине горы Кифхой-
зер и хранящего немецкое единс-
тво и имперское величие. Насту-
пит время, когда он восстанет со
своей ратью и вновь воцарится
во
славу
Германии. Первоначаль-
но
эта легенда восходила к обра-
зу Фридриха II, внезапная смерть
Саксонское
зерцало. Ок. 1224 г.
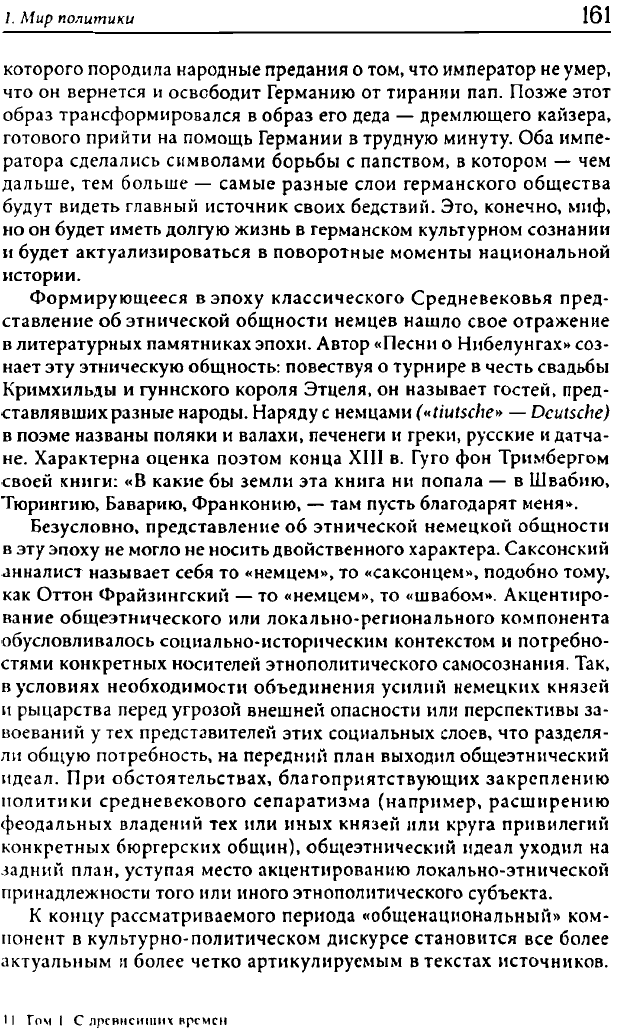
/. Мир
политики
161
которого породила народные предания о том, что император не умер,
что он вернется и освободит Германию от тирании пап. Позже этот
образ трансформировался в образ его
деда
— дремлющего кайзера,
готового прийти на помощь Германии в
трудную
минуту.
Оба импе-
ратора сделались символами борьбы с папством, в котором — чем
дальше, тем больше — самые разные слои германского общества
будут
видеть главный источник своих бедствий. Это, конечно, миф,
но
он
будет
иметь
долгую
жизнь в германском культурном сознании
и
будет
актуализироваться в поворотные моменты национальной
истории.
Формирующееся в эпоху классического Средневековья пред-
ставление об этнической общности немцев нашло свое отражение
в
литературных памятниках эпохи.
Автор
«Песни о
Нибелунгах»
соз-
нает эту этническую общность: повествуя о турнире в честь свадьбы
Кримхильды и гуннского короля Этцеля, он называет гостей, пред-
ставлявших разные народы. Наряду
с
немцами
(«1ш1$сНе»
—ОеМзсНе)
в
поэме названы поляки и валахи, печенеги и греки, русские и
датча-
не.
Характерна оценка поэтом конца XIII в.
Гуго
фон Тримбергом
своей книги: «В какие бы земли эта книга ни попала — в Швабию,
Тюрингию, Баварию, Франконию, — там пусть благодарят меня».
Безусловно, представление об этнической немецкой общности
в
эту эпоху не могло не носить двойственного характера. Саксонский
анналист называет себя то «немцем», то «саксонцем», подобно
тому,
как
Оттон Фрайзингский — то «немцем», то
«швабом».
Акцентиро-
вание общеэтнического или локально-регионального компонента
обусловливалось социально-историческим контекстом и потребно-
стями конкретных носителей этнополитического самосознания. Так,
в
условиях необходимости объединения усилий немецких князей
и
рыцарства перед угрозой внешней опасности или перспективы за-
воеваний у тех представителей этих социальных слоев, что разделя-
ли
общую
потребность, на передний план выходил общеэтнический
идеал. При обстоятельствах, благоприятствующих закреплению
политики
средневекового сепаратизма (например, расширению
феодальных владений тех или иных князей или
круга
привилегий
конкретных бюргерских общин), общеэтнический идеал
уходил
на
задний план,
уступая
место акцентированию локально-этнической
принадлежности того или иного этнополитического
субъекта.
К
концу рассматриваемого периода «общенациональный» ком-
понент в культурно-политическом дискурсе становится все более
актуальным и более четко артикулируемым в текстах источников.
11
Гом I С лрсвисишнч
времен
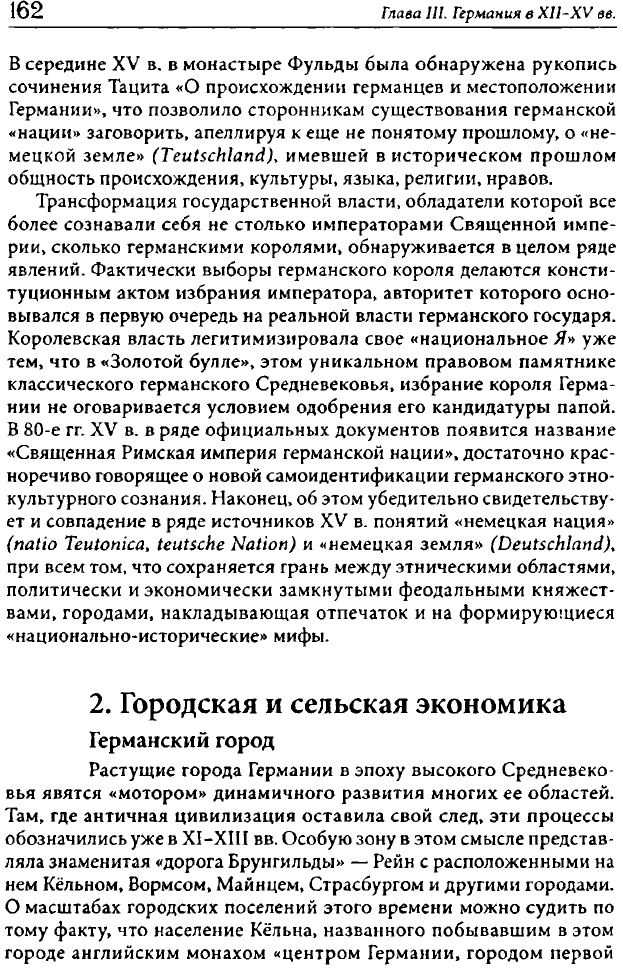
162
Глава
III.
Германия
в
ХП-ХУ
ев.
В середине XV в. в монастыре Фульды была обнаружена рукопись
сочинения
Тацита «О происхождении германцев и местоположении
Германии», что позволило сторонникам существования германской
«нации» заговорить, апеллируя к еще не понятому прошлому, о «не-
мецкой
земле»
(Теи1$ск1апс1)
У
имевшей в историческом прошлом
общность происхождения,
культуры,
языка, религии, нравов.
Трансформация
государственной власти, обладатели которой все
более сознавали себя не столько императорами Священной импе-
рии,
сколько германскими королями, обнаруживается в целом ряде
явлений.
Фактически выборы германского короля делаются консти-
туционным актом избрания императора, авторитет которого осно-
вывался в первую очередь на реальной власти германского государя.
Королевская власть легитимизировала свое «национальное Я» уже
тем, что в «Золотой
булле»,
этом уникальном правовом памятнике
классического германского Средневековья, избрание короля Герма-
нии
не оговаривается условием одобрения его кандидатуры папой.
В 80-е гг. XV в. в ряде официальных документов появится название
«Священная Римская империя германской нации», достаточно крас-
норечиво говорящее о новой самоидентификации германского этно-
культурного
сознания.
Наконец,
об этом убедительно
свидетельству-
ет и совпадение в ряде источников XV в. понятий «немецкая нация»
(паПо
ТеШопгса,
1еШ$ске
МаИоп) и «немецкая
земля»
(ОеШзсЫаги!),
при
всем том, что сохраняется грань
между
этническими областями,
политически и экономически замкнутыми феодальными княжест-
вами, городами, накладывающая отпечаток и на формирующиеся
«национально-исторические» мифы.
2. Городская и сельская экономика
Германский
город
Растущие города Германии в эпоху высокого Средневеко-
вья явятся
«мотором»
динамичного развития многих ее областей.
Там, где античная цивилизация оставила свой след, эти процессы
обозначились уже в Х1-ХШ вв.
Особую
зону в этом смысле представ-
ляла знаменитая
«дорога
Брунгильды» — Рейн с расположенными на
нем Кёльном, Вормсом, Майнцем, Страсбургом и другими городами.
О масштабах городских поселений этого времени можно
судить
по
тому
факту, что население Кёльна, названного побывавшим в этом
городе английским монахом «центром Германии, городом первой
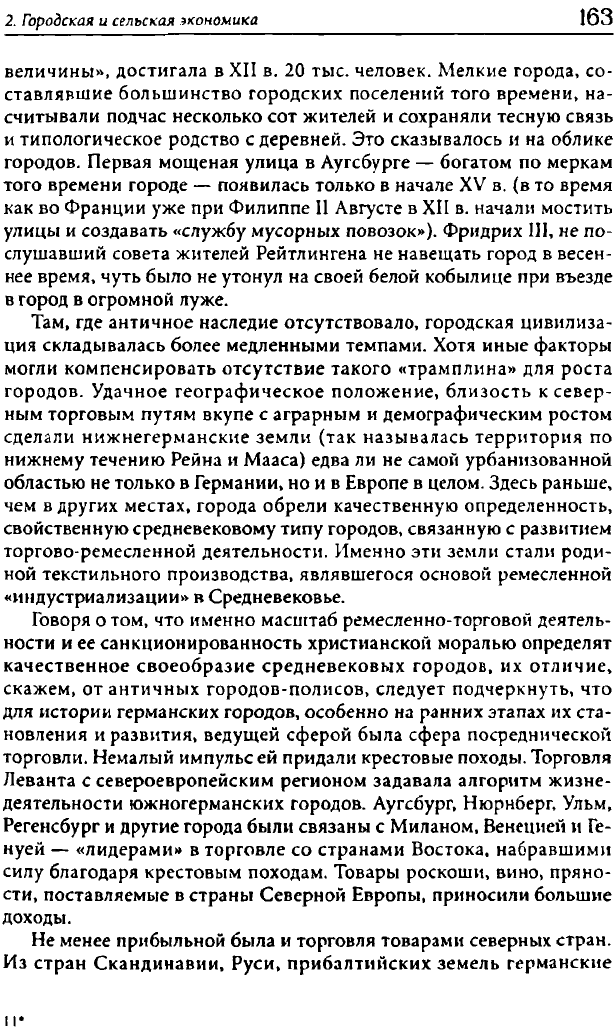
2.
Городская
и
сельская
экономика
163
величины», достигала в XII в. 20 тыс. человек. Мелкие города, со-
ставлявшие большинство городских поселений того времени, на-
считывали подчас несколько сот жителей и сохраняли
тесную
связь
и
типологическое родство с деревней. Это сказывалось и на облике
городов. Первая мощеная улица в
Аугсбурге
— богатом по меркам
того времени городе — появилась только в начале XV в. (в то время
как
во Франции уже при Филиппе II
Августе
в XII в. начали мостить
улицы и создавать
«службу
мусорных повозок»). Фридрих
III,
не по-
слушавший совета жителей Рейтлингена не навещать город в весен-
нее время,
чуть
было не
утонул
на своей белой кобылице при
въезде
в
город в огромной
луже.
Там, где античное наследие отсутствовало, городская цивилиза-
ция
складывалась более медленными темпами. Хотя иные факторы
могли компенсировать
отсутствие
такого «трамплина» для роста
городов.
Удачное
географическое положение, близость к север-
ным
торговым путям вкупе с аграрным и демографическим ростом
сделали нижнегерманские земли (так называлась территория по
нижнему течению Рейна и Мааса)
едва
ли не самой урбанизованной
областью не только в Германии, но и в Европе в целом. Здесь раньше,
чем в
других
местах,
города обрели качественную определенность,
свойственную средневековому типу городов, связанную с развитием
торгово-ремесленной деятельности. Именно эти земли стали роди-
ной
текстильного производства, являвшегося основой ремесленной
«индустриализации» в Средневековье.
Говоря о том, что именно масштаб ремесленно-торговой деятель-
ности и ее санкционированность христианской моралью определят
качественное своеобразие средневековых городов, их отличие,
скажем, от античных городов-полисов,
следует
подчеркнуть, что
для истории германских городов, особенно на ранних этапах их ста-
новления
и развития, ведущей сферой была сфера посреднической
торговли. Немалый импульс ей придали крестовые походы. Торговля
Леванта с североевропейским регионом задавала алгоритм жизне-
деятельности южногерманских городов.
Аугсбург,
Нюрнберг,
Ульм,
Регенсбург и
другие
города были связаны с Миланом, Венецией и Ге-
нуей —
«лидерами»
в торговле со странами Востока, набравшими
силу благодаря крестовым походам. Товары роскоши,
вино,
пряно-
сти, поставляемые в страны Северной Европы, приносили большие
доходы.
Не
менее прибыльной была и торговля товарами северных стран.
Из
стран Скандинавии, Руси, прибалтийских земель германские
и*
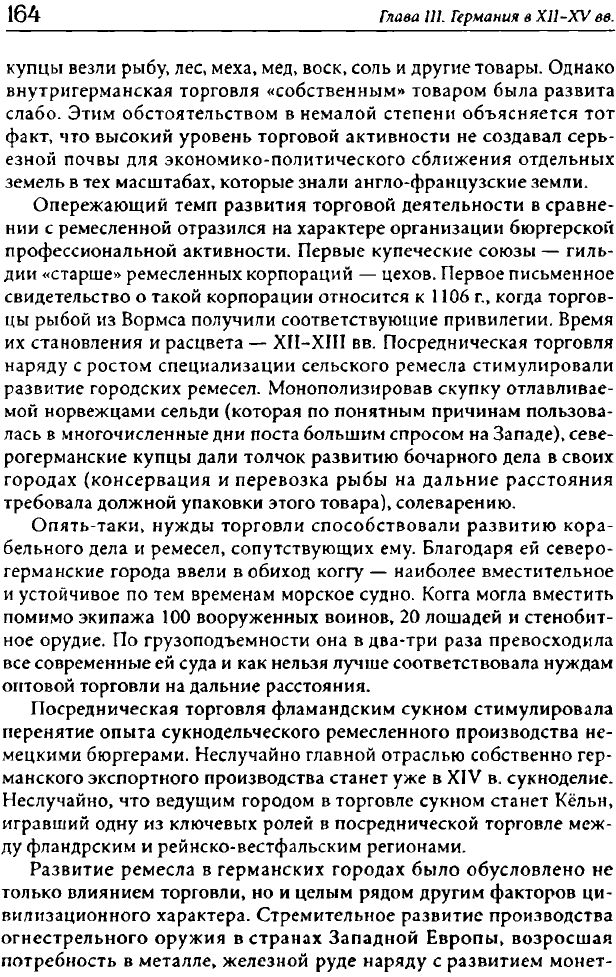
164
Глава
111.
Германия
в
XII-XV
вв.
купцы
везли рыбу, лес,
меха,
мед, воск, соль и
другие
товары. Однако
внутригерманская торговля «собственным» товаром была развита
слабо. Этим обстоятельством в немалой степени объясняется тот
факт,
что высокий уровень торговой активности не создавал серь-
езной
почвы для экономико-политического сближения отдельных
земель в тех масштабах, которые знали англо-французские земли.
Опережающий темп развития торговой деятельности в сравне-
нии
с ремесленной отразился на характере организации бюргерской
профессиональной
активности. Первые купеческие союзы — гиль-
дии
«старше»
ремесленных корпораций — цехов. Первое письменное
свидетельство о такой корпорации относится к 1106 г., когда торгов-
цы
рыбой из Вормса получили соответствующие привилегии. Время
их становления и расцвета — ХН-ХШ вв. Посредническая торговля
наряду сростом специализации сельского ремесла стимулировали
развитие городских ремесел. Монополизировав скупку отлавливае-
мой
норвежцами сельди (которая по понятным причинам пользова-
лась в многочисленные дни поста большим спросом на Западе), севе-
рогерманские купцы дали толчок развитию бочарного дела в своих
городах (консервация и перевозка рыбы на дальние расстояния
требовала должной упаковки этого товара), солеварению.
Опять-таки,
нужды торговли способствовали развитию кора-
бельного дела и ремесел, сопутствующих ему. Благодаря ей северо-
германские города ввели в обиход коггу — наиболее вместительное
и
устойчивое по тем временам морское судно. Когга могла вместить
помимо
экипажа 100 вооруженных воинов, 20 лошадей и стенобит-
ное
орудие. По грузоподъемности она в два-три раза превосходила
все современные ей
суда
и как нельзя лучше соответствовала нуждам
оптовой торговли на дальние расстояния.
Посредническая
торговля фламандским сукном стимулировала
иеренятие
опыта сукнодельческого ремесленного производства не-
мецкими
бюргерами. Неслучайно главной отраслью собственно гер-
манского
экспортного производства станет уже в XIV в. сукноделие.
Неслучайно,
что ведущим городом в торговле сукном станет Кёльн,
игравший
одну из ключевых ролей в посреднической торговле меж-
ду фландрским и рейнско-вестфальским регионами.
Развитие
ремесла в германских городах было обусловлено не
только влиянием торговли, но и целым рядом другим факторов ци-
вилизационного
характера. Стремительное развитие производства
огнестрельного оружия в странах Западной Европы, возросшая
потребность в металле, железной
руде
наряду с развитием монет-
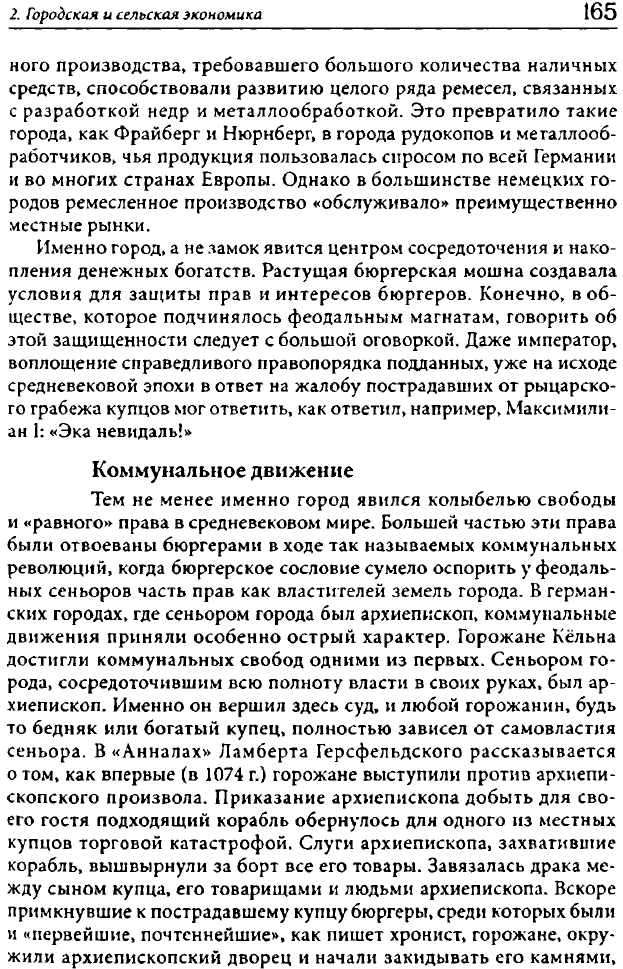
2.
Городская
и
сельская
экономика
165
ного производства, требовавшего большого количества наличных
средств, способствовали развитию целого ряда ремесел, связанных
с
разработкой недр и металлообработкой. Это превратило такие
города, как Фрайберг и Нюрнберг, в города рудокопов и мегаллооб-
работчиков, чья продукция пользовалась спросом по всей Германии
и
во многих странах Европы. Однако в большинстве немецких го-
родов ремесленное производство
«обслуживало»
преимущественно
местные рынки.
Именно
город, а не замок явится центром сосредоточения и
нако-
пления
денежных богатств. Растущая бюргерская мошна создавала
условия для защиты прав и интересов бюргеров. Конечно, в об-
ществе, которое подчинялось феодальным магнатам, говорить об
этой
защищенности
следует
с большой оговоркой.
Даже
император,
воплощение
справедливого правопорядка подданных, уже на
исходе
средневековой эпохи в
ответ
на
жалобу
пострадавших от рыцарско-
го грабежа купцов мог ответить, как ответил,
например,
Максимили-
ан
I: «Эка
невидаль!»
Коммунальное
движение
Тем не менее именно город явился колыбелью свободы
и
«равного»
права в средневековом мире. Большей частью эти права
были отвоеваны бюргерами
входе
так называемых коммунальных
революций,
когда бюргерское сословие сумело оспорить у феодаль-
ных сеньоров часть прав как властителей земель города. В герман-
ских
городах,
где сеньором города был архиепископ, коммунальные
движения
приняли особенно острый характер. Горожане Кёльна
достигли коммунальных свобод одними из первых. Сеньором го-
рода, сосредоточившим всю полноту власти в своих
руках,
был ар-
хиепископ.
Именно он вершил здесь суд, и любой горожанин,
будь
то бедняк или богатый купец, полностью зависел от самовластия
сеньора. В
«Анналах»
Ламберта Герсфельдского рассказывается
о
том, как впервые (в 1074 г.) горожане выступили против архиепи-
скопского
произвола. Приказание архиепископа добыть для сво-
его гостя подходящий корабль обернулось для одного из местных
купцов торговой катастрофой. Слуги архиепископа, захватившие
корабль,
вышвырнули за борт все его товары. Завязалась драка ме-
жду сыном купца, его товарищами и людьми архиепископа. Вскоре
примкнувшие
к пострадавшему купцу бюргеры, среди которых были
и
«первейшие, почтеннейшие», как пишет хронист, горожане, окру-
жили архиепископский дворец и начали закидывать его камнями,
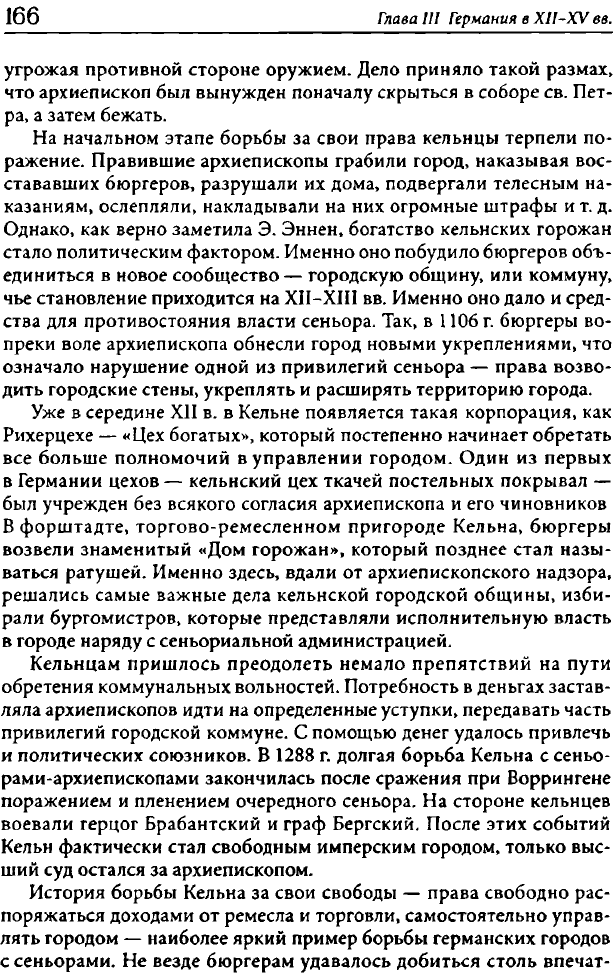
166
Глава
Ш
Германия
в
ХП-ХУ
вв.
угрожая
противной стороне оружием. Дело приняло такой размах,
что архиепископ был вынужден поначалу скрыться в соборе св. Пет-
ра, а затем бежать.
На
начальном этапе борьбы за свои права кельнцы терпели по-
ражение. Правившие архиепископы грабили город, наказывая вос-
стававших бюргеров, разрушали их дома, подвергали телесным на-
казаниям,
ослепляли, накладывали на них огромные штрафы
и
т. д.
Однако, как верно заметила Э.
Эннен,
богатство
кельнских горожан
стало политическим фактором.
Именно
оно побудило бюргеров объ-
единиться в новое сообщество —
городскую
общину, или коммуну,
чье становление приходится на XII-XIII вв. Именно оно
дало
и сред-
ства для противостояния власти сеньора. Так, в 1106
г.
бюргеры во-
преки
воле архиепископа обнесли
город
новыми укреплениями, что
означало нарушение одной из привилегий сеньора — права возво-
дить городские стены, укреплять и расширять территорию города.
Уже в середине XII в. в Кельне появляется такая корпорация, как
Рихерцехе —
«Цех
богатых»,
который постепенно начинает обретать
все больше полномочий в управлении городом. Один из первых
в Германии цехов — кельнский цех ткачей постельных покрывал —
был
учрежден
без всякого согласия архиепископа и его чиновников
Вфорштадте, торгово-ремесленном пригороде Кельна, бюргеры
возвели знаменитый
«Дом
горожан», который позднее стал назы-
ваться ратушей. Именно здесь, вдали от архиепископского надзора,
решались самые важные
дела
кельнской городской общины, изби-
рали бургомистров, которые представляли исполнительную власть
в
городе
наряду
с
сеньориальной администрацией.
Кельнцам пришлось преодолеть немало препятствий на пути
обретения коммунальных вольностей. Потребность
в
деньгах
застав-
ляла архиепископов идти на определенные уступки, передавать часть
привилегий городской коммуне.
С
помощью денег
удалось
привлечь
и
политических союзников. В 1288 г. долгая борьба Кельна с сеньо-
рами-архиепископами закончилась после сражения при Воррингене
поражением и пленением очередного сеньора. На стороне кельнцев
воевали герцог Брабантский и граф Бергский. После этих событий
Кельн
фактически стал свободным имперским городом, только выс-
ший
суд остался за архиепископом.
История
борьбы Кельна за свои свободы — права свободно рас-
поряжаться
доходами
от ремесла и торговли, самостоятельно управ-
лять городом — наиболее яркий пример борьбы германских городов
с сеньорами. Не
везде
бюргерам
удавалось
добиться столь впечат-
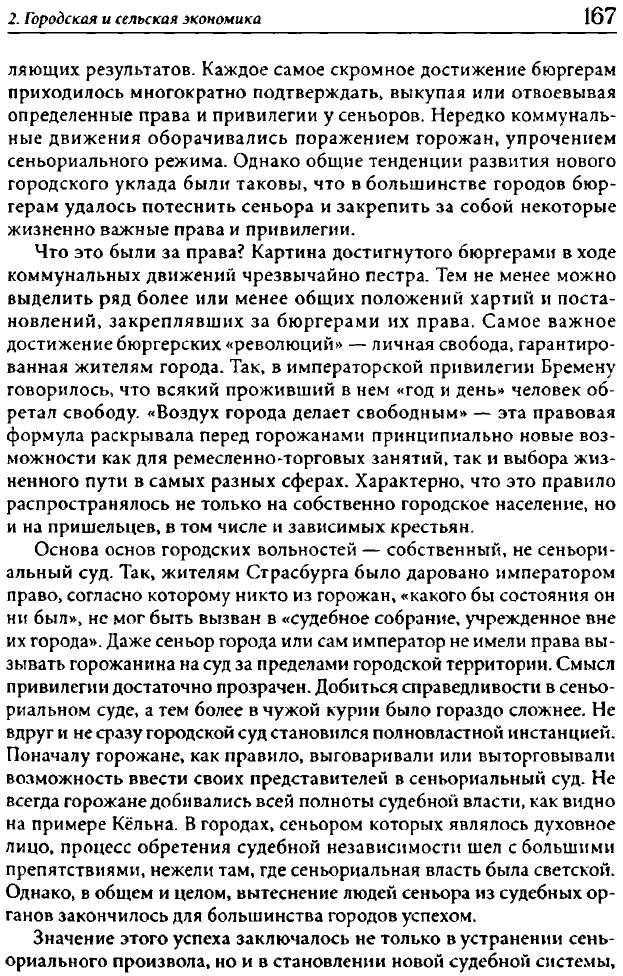
2.
Городская
и
сельская
экономика
167
ляющих результатов. Каждое самое скромное достижение бюргерам
приходилось многократно подтверждать, выкупая или отвоевывая
определенные права и привилегии у сеньоров. Нередко коммуналь-
ные движения оборачивались поражением горожан, упрочением
сеньориального режима. Однако общие тенденции развития нового
городского
уклада
были таковы, что в большинстве городов бюр-
герам
удалось
потеснить сеньора и закрепить за собой некоторые
жизненно
важные права и привилегии.
Что это были за права? Картина достигнутого бюргерами в
ходе
коммунальных движений чрезвычайно пестра. Тем не менее можно
выделить ряд более или менее общих положений хартий и поста-
новлений,
закреплявших за бюргерами их права. Самое важное
достижение бюргерских
«революций»
— личная свобода, гарантиро-
ванная
жителям города. Так, в императорской привилегии Бремену
говорилось, что всякий проживший в нем
«год
и
день»
человек об-
ретал
свободу.
«Воздух
города
делает
свободным» — эта правовая
формула раскрывала перед горожанами принципиально новые воз-
можности как для ремесленно-торговых занятий, так и выбора жиз-
ненного
пути в самых разных сферах. Характерно, что это правило
распространялось не только на собственно городское население, но
и
на пришельцев, в том числе и зависимых крестьян.
Основа основ городских вольностей — собственный, не сеньори-
альный суд. Так, жителям Страсбурга было даровано императором
право,
согласно которому никто из горожан, «какого бы состояния он
ни
был»,
не мог быть вызван в
«судебное
собрание, учрежденное вне
их
города».
Даже
сеньор города или сам император не имели права вы-
зывать горожанина на суд за пределами городской территории. Смысл
привилегии достаточно прозрачен. Добиться справедливости в сеньо-
риальном
суде,
а тем более в чужой курии было гораздо сложнее. Не
вдруг
и
не сразу городской суд становился полновластной инстанцией.
Поначалу горожане, как правило, выговаривали или выторговывали
возможность ввести своих представителей в сеньориальный суд. Не
всегда
горожане добивались всей полноты судебной власти, как видно
на
примере Кёльна. В
городах,
сеньором которых являлось
духовное
лицо,
процесс обретения судебной независимости шел с большими
препятствиями, нежели там, где сеньориальная власть была светской.
Однако,
в общем и целом, вытеснение людей сеньора из
судебных
ор-
ганов закончилось для большинства городов успехом.
Значение
этого
успеха
заключалось не только в устранении сень-
ориального произвола, но и в становлении новой судебной системы,
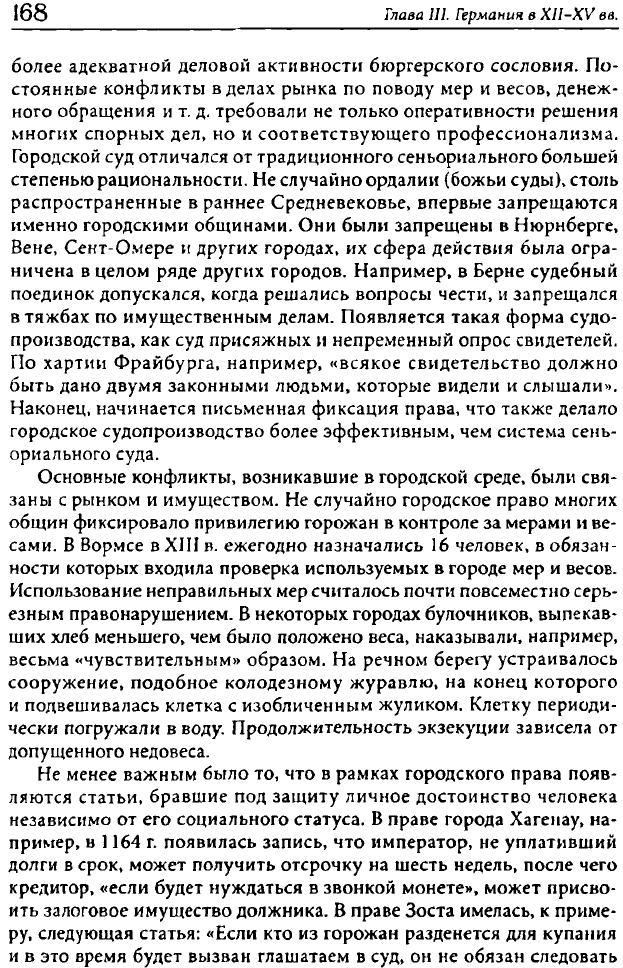
168
Глава
III.
Германия
в
ХИ-ХУ
вв.
более адекватной деловой активности бюргерского сословия. По-
стоянные
конфликты в
делах
рынка по поводу мер и весов, денеж-
ного обращения и т. д. требовали не только оперативности решения
многих спорных дел, но и соответствующего профессионализма.
Городской суд отличался от традиционного сеньориального большей
степенью
рациональности.
Не случайно ордалии (божьи суды), столь
распространенные
в раннее Средневековье, впервые запрещаются
именно
городскими общинами. Они были запрещены в Нюрнберге,
Вене, Сент-Омере и
других
городах,
их сфера действия была огра-
ничена
в целом ряде
других
городов. Например, в Берне судебный
поединок
допускался, когда решались вопросы чести, и запрещался
в
тяжбах по имущественным делам. Появляется такая форма
судо-
производства, как суд присяжных и непременный опрос свидетелей.
По
хартии Фрайбурга, например, «всякое свидетельство должно
быть дано
двумя
законными людьми, которые видели и слышали».
Наконец,
начинается письменная фиксация права, что также делало
городское судопроизводство более
эффективным,
чем система сень-
ориального
суда.
Основные
конфликты, возникавшие в городской среде, были свя-
заны
с рынком и имуществом. Не случайно городское право многих
общин
фиксировало привилегию горожан в контроле за мерами и ве-
сами.
В Вормсе в XIII в. ежегодно назначались 16 человек, в обязан-
ности
которых
входила
проверка используемых в городе мер и весов.
Использование
неправильных мер считалось почти повсеместно серь-
езным
правонарушением. В некоторых
городах
булочников, выпекав-
ших
хлеб
меньшего, чем было положено веса, наказывали, например,
весьма
«чувствительным»
образом. На речном
берегу
устраивалось
сооружение, подобное колодезному журавлю, на конец которого
и
подвешивалась клетка с изобличенным жуликом. Клетку периоди-
чески
погружали в
воду.
Продолжительность экзекуции зависела от
допущенного недовеса.
Не
менее важным было то, что в рамках городского права появ-
ляются статьи, бравшие под защиту личное достоинство человека
независимо
от его социального
статуса.
В праве города
Хагенау,
на-
пример,
в 1164 г. появилась запись, что император, не уплативший
долги в срок, может получить отсрочку на шесть недель, после
чего
кредитор,
«если
будет
нуждаться в звонкой монете», может присво-
ить залоговое имущество должника. В праве Зоста имелась, к приме-
ру, следующая статья: «Если кто из горожан разденется для купания
и
в это время
будет
вызван глашатаем в суд, он не обязан следовать
