Дэвис Н. История Европы
Подождите немного. Документ загружается.


Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
321
Христа и в противостоянии Церкви и Веры Вера, по видимости, проигрывает. Возможно,
таков и был замысел автора, считавшего логику много слабее веры. «Даже если мне
докажут, что Христос вне Истины, — написал он однажды, — я останусь со Христом».
Достоевский без устали критиковал Запад (может быть, по-
этому его так высоко ценят западные интеллектуалы). Но он считал разделение
христианского мира проявлением Зла, которое будет наконец преодолено. Он горячо верил,
что зло будет побеждено. Грех и страдание предшествуют искуплению. Церковные раздоры
— необходимая прелюдия к церковной гармонии. Если следовать этой логике, то испанская
инквизиция предвещала окончательную победу христианства. В глубине души этот
старый реакционер — христианин мира — по духу был искренним европейцем.
Больше всего Достоевский верил в целительную силу веры. Эпиграфом к Братьям
Карамазовым стал евангельский стих «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно,
пав в землю не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12;24).
Эти же слова написаны на могильном камне Достоевского.
ко Церковь может толковать Писание, а также то, что источником истины в вопросах
веры является не только Писание, но и Церковное предание. Собор поддержал
традиционные взгляды на первородный грех, оправдание и заслуги, отверг различные
протестантские толкования в связи с пресуществлением во время Евхаристии.
Постановления Собора по организационным вопросам реформировали церковные ордена,
упорядочили назначение епископов и установили семинарии во всех епархиях.
Постановления Собора о форме Мессы содержали новый Катехизис и пересмотренный
Бревиарий (католический требник), что непосредственно затронуло жизнь простых
католиков. После 1563 г. в большинстве католических церквей по всему миру служилась
единая латинская Тридентская месса.
Критики деяний Собора указывают, что Собор пренебрег практически-этическими
вопросами, не смог вооружить католиков таким моральным кодексом, который бы мог
поспорить с моральным кодексом протестантов. «Он наложил на Церковь печать
нетерпимости, — писал один английский католик, — сохраняя... дух суровой
безнравственности»
18
. Протестантский историк Ранке указывает на некий парадокс Собора,
который намеревался ограничить папство: взамен ввел присягу на верность, детализировал
правила и систему наказаний, то есть подчинил пане всю католическую иерархию.
«Дисциплина была восстановлена, но все каналы осуществления церковной дисциплины
сходились в одном центре — в Риме»
19
. Некоторые католические монархи, включая
Филиппа II Испанского, так испугались тридентских дек-
ретов, что свели на нет публикацию их в своих странах.
Особенная религиозная этика, которую насаждала Контрреформация, подчеркивала
важность дисциплины и коллективной жизни верующих. Она отражала те широкие
полномочия в принуждении к исполнению требований веры, которыми отныне обладал
иерарх, а также внешний конформизм, которому должны были теперь подчиняться
верующие. Она требовала регулярной исповеди как знака подчинения. ПОМИМО участия в
богослужении и регулярной церковной жизни имелись другие способы продемонстрировать
свою лояльность: участие в паломничествах, церемониях и процессиях, а в обрамлявшем
все искусстве, архитектуре, музыке появились черты расчетливой театральности.
Католическая пропаганда этого времени была сильна рациональными аргументами и
способами воздействия на чувства. Барочные церкви этого периода полны алтарей, колонн,
статуй, херувимов, позолоты, икон, дароносиц, подсвечников и канделябров, ладана — так
что не оставалось места для сокровенных мыслей прихожан. В отличие от проповедников-
протестантов, которые взывали к личной совести и честности каждого, католические
священники, кажется, все чаще призывают паству к слепой покорности.
Контрреформация собрала богатый урожай католических святых. Среди них были
испанские мистики: св. Тереза Авильская (1515-1582 гг.) и св. Иоанн Креста (1542-1591 гг.);
множество тех, кто служил больным и бедным: св. Филипп Нерийский (1515-1595 гг.), св.
Камилл из Лелли (1550-1614 гг.), св. Винсент де Поль (1576-1660 гг.),
366 RENATIO
ПРОПАГАНДА
Пропаганда порождена конфликтом убеждений и стремлением людей распространять
исповедуемое ими учение в ущерб учениям всех других людей. Без сомнения, пропаганду
породила религия. По самой своей природе пропаганда пристрастна и наибольших успехов
достигает тогда, когда обращается к ненависти и предрассудкам. Она — полная
противоположность честной информации и просвещению.
Для большей эффективности пропаганде нужна цензура. В ограниченном
информационном пространстве она мобилизует все средства коммуникации — печатное и
устное слово, искусство и наглядность — и использует эти средства максимально в свою
пользу. Этому служила Римская Officium de Propaganda Fidei [Канцелярия продвижения
веры] (откуда и пошел термин пропаганда), которая действовала совместно с инквизицией.
Officium de Propaganda Fidei стала постоянной конгрегацией Ватикана в 1622 г.
Пропаганда столь же часто встречается в протестантских и православных странах, где
церкви подчиняются государственным властям. Всегда существовала и политическая
пропаганда, хотя и не всегда так называлась. Политическая пропаганда осуществлялась

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
322
через книги, а позднее через газеты и плакаты. Она становилась особенно заметной во
времена войн, в особенности во время гражданских или религиозных войн. В 1790-е годы
французские солдаты, засланные в лагерь противника, были вооружены подчас одними
листовками.
В XX веке масштабы пропаганды безмерно разрослись благодаря таким новым
средствам информации, как кино, радио и телевидение, новым методам маркетинга,
воздействия на массы, коммерческой рекламе и PR'y; благодаря возникшим вновь
утопическим идеологиям; а также благодаря абсолютной беспринципности тоталитарных
государств. Тотальная пропаганда и искусство Большой Лжи были впервые пущены в ход
большевиками. Вслед за Плехановым Ленин проводил различие между облеченным властью
пропагандистом, который разрабатывает общую стратегию, и мелким агитатором, ее
осуществляющим на практике. Фашисты быстро переняли методы советского «агитпропа».
Теоретики пропаганды разработали пять главных правил:
1. Правило упрощения: все факты сводить к простому противопоставлению Хорошего и
Плохого, Друга и Врага.
2. Правило искажения: дискредитировать оппонента клеветой и пародией.
3. Правило смешения: манипулировать принятыми ценностями аудитории ради
достижения собственных целей.
4. Правило единодушия: представлять собственные воззрения как общее мнение всех
правильно мыслящих людей; привлекать на свою сторону сомневающихся участием «звезд»,
общественным давлением и «психологическим заражением».
5. Правило инструментовки: повторять без конца одно и то же, но в разных вариациях и
комбинациях.
Так, один из величайших мастеров пропаганды признавал заслуги прошлого:
«Католическая церковь, — заявлял д-р Геббельс,-продолжает жить, потому что уже 2000 лет
повторяет одно и то же. Национал-социалисты должны делать то же самое».
Особенно вероломна пропаганда в условиях, когда объекты пропаганды, да и сами
пропагандисты отрезаны от источников неискаженной информации. Этот жанр так
называемой тайно направляемой пропаганды ставит своей целью создать целую сеть ничего
не подозревающих агентов влияния, которые затем будут передавать желаемое дальше,
как будто спонтанно. Изображая мнимое совпадение мнений с объектами пропаганды,
которых эта последняя стремится сагитировать, потворствуя наклонностям самым важных из
них, пропаганда может потихоньку подкупить элиту, формирующую общественное мнение.
Кажется, именно такими методами действовали мастера сталинской пропаганды, которые
плели свои сети в культурных кругах ведущих стран Запада начиная с 1920-х годов. Всю эту
деятельность направлял безобидный на вид немецкий коммунист, в прошлом сотрудник
Ленина по Швейцарии, а в будущем знакомый д-ра Геббельса по рейхстагу Вилли
Мюнценберг (1889-1940 гг.). Трудясь рядом с советскими шпионами, он достиг вершин в
искусстве делать тайные дела открыто. Он ставил на повестку дня такие кампании, как
антивоенная, антиимпериалистическая, а главное, антифашистская, действуя в восприимчи-
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 367
вой среде в Берлине, Париже и Лондоне. Главные его жертвы, которых скептики
окрестили попутчиками, редко вступали в коммунистическую партию и с негодованием
отвергали предположения, что ими манипулируют. Среди них были писатели, художники,
артисты, издатели, публицисты левого направления и тщательно отобранные знаменитости:
Ромен Роллан, Луи Арагон, Андре Мальро, Генрих Манн, Бертольд Брехт, Энтони Блант,
Гарольд Ласки, Клод Кокбурн, Сидней и Беатрис Вебб и половина блум-
бергского общества [район в Лондоне, где в начале XX в. проживали писатели и деятели
культуры]. Поскольку же у каждого были свои новички послушники, которых назвали клубами
невинных, то воздействие эффективно распространялось дальше, и распропагандированные
плодились как кролики. Исключительно ясно формировалась конечная цель: «добиться,
чтобы у правильно мыслящих некоммунистов Запада сложилось главное политическое
убеждение нашего времени: вера в то, что все те точки зре-
ния, которые содействуют целям Советского Союза, вытекают из основных элементов
человеческой порядочности».
Этот цинизм не имеет ни аналога, ни прецедента. О нем можно судить по тому, какую
судьбу уготовил Великий Вождь своим самым преданным пропагандистам, как Карл Радек
или даже сам Мюнценберг, его нашли повешенным в горах во Франции. Шуточное замечание
Брехта о жертвах Сталина звучит отнюдь не шуткой: «Чем меньше они виновны, тем больше
заслуживают расстрела».
св. Луис де Мариллак (1591-1660 гг.); среди них были святые и мученики иезуиты: св.
Франсис Ксавье (1506-1552 гг.), св. Станислав Костка (1550-1568 гг.), св. Алоизий Гонзага
(1568— 1591 гг.), св. Петр Канизий (1521-1597 гг.), св. Иоанн Берхманс (1599-1621 гг.) и св.
Роберт Беллармин (1542-1621 гг.). Им удалось вернуть Церкви многое из утраченного.
Контрреформация чувствовалась повсюду в Европе. Традиционно Церковь имела
наибольшую поддержку в Италии и Испании, но и там приходилось кое-где выкуривать
нонконформизм. Испанские Нидерланды, зажатые между Францией и Соединенными
провинциями, превратились в настоящий рассадник воинственного католицизма, причем
ведущую роль здесь играли университет Лувена и иезуитский колледж в Дуэ. Реакцией на
это основное движение ревностных католиков стала деятельность Корнелия Янсена (1585-
1638 гг.), епископа Ипра, — решительного критика иезуитов. В своем кратком изложении
трудов бл. Августина под названием Augustinus (1640 г.) Янсен горячо нападает на то, что
ему представлялось богословской казуистикой и излишним морализаторством его времени;
он подчеркивает особое значение для верующего Божественной Благодати и духовного

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
323
обновления. И хотя сам он никогда не поколебался в своей преданности Риму и отвергал
учение протестантов об оправдании верой, но все-таки некоторые его положения по
вопросу о Божественной Благодати сближаются с точкой зрения про-
тестантов; поэтому они были отвергнуты (см. Глава VIII.).
Швейцарию раздирала вражда католических кантонов с протестантскими. Доктрина
Цюриха и Женевы проникла во многие горные деревни прилегающих районов. Вдоль
итальянской границы эти новые взгляды были решительно уничтожены св. Карлом
Барромео, кардиналом-архиепископом Миланским (1538-1584 гг.), в Савойе с ними
сражался (не столь жесткими методами) св. Франциск де Саль (1567-1622 гг.), автор весьма
популярного труда Введение в благочестивую жизнь (1609 г.). [МЕНОККИО]
Во Франции многие католики оставались в стороне от новой воинственности
католичества, отчасти следуя галликанской традиции и конкордату 1516 г., отчасти же в
связи с враждебностью французов к Габсбургам. Но вокруг семьи Гизов крепла проримская
партия ультрамонтанов. Их самым мрачным деянием стала резня в навечерие дня Св.
Варфоломея 23 августа 1572 г., когда 2000 гугенотов были зарезаны в Париже — после чего
папа отслужил благодарственный молебен {Те Deum), а король Испании «засмеялся».
Янсенизм XVII века предлагал средний путь в противовес экстремизму враждующих
истовых католиков и гугенотов.
При попытке нового обращения Англии появилось Сорок католических святых
мучеников во главе с иезуитом св. Эдмундом Кампионом (1540— 1581 гг.) и множество
других пострадавших. Ирландия утвердилась еще больше в католичестве, в
368 RENATIO
МЕНОККИО
B 1599 г. простой мельник из Монтереаль во Фриули Коменико Сканделла был сожжен на
костре инквизиции за ересь, за два года до того, как такая же участь постигла Джордано
Бруно в Риме. Сохранившиеся в Удине документы по его делу раскрыли миру
нетрадиционное учение, которое историки могут понять с трудом. После двух судебных
процессов над ним, продолжительных допросов, заключения в тюрьму и пыток Святая
инквизиция настаивала, что этот еретик отрицал «девство Приснодевы, Божественность
Христа и Божий промысел».
Известный как Mennocchio, мельник из Монтереаль, бывший некогда деревенским голо-
вою, имел одиннадцать детей, был неукротимым сплетником и болтуном, откровенным
анти-
клерикалом и жадным читателем. При аресте в его доме нашли:
Итальянскую Библию на народном языке;
II Fioretto della Bibbia (каталонскую библейскую антологию в переводе);
II Rosario della Madonna Альберто да Кастелло;
Перевод Legenda Aurea («Золотой легенды»);
Historia del Guidicio в стихах XV века;
Кавалер Зуанне де Мандавилла (итальянский перевод знаменитой книги Путешествия
Джона Мандевиля);
// Sogno di Caravia (Венеция, 1541);
// Supplemento delle Cronache (версия хроник Фоэсти);
Lunario al Modo di Italia (альманах);
Декамерон Боккаччо (без сокращений);
и книгу без названия, которую свидетель признал за Коран.
Меноккио имел продолжительные беседы с неким Симоном-евреем, интересовался
лютеранством и не признавал библейской истории Творения. Вторя Данте и некоторым
древним мифам, он настаивал, что ангелы были рождены природой так же, «как сыр
порождает червей».
особенности, после жестокостей елизаветинской экспедиции 1598 года. Впрочем,
религиозное единство Ирландии разрушилось в связи с основанием в Ольстере в 1611 г.
шотландской пресвитерианской колонии, а также склонностью англо-ирландского
дворянства к англиканству.
В австрийских землях Габсбургов Контрреформация оказалась неразрывно связанной с
династическими и политическими проблемами. И в самом деле, это особое течение
католицизма — pietas austriaca, которое возникло на рубеже XVII в., стало главной
составляющей той широкой культурной общности, которая пережила Габсбургов. Некогда
его называли конфессиональным абсолютизмом. Германская коллегия [Collegium
Germanicum] играла в Риме особую роль. Благодаря усилиям датчанина Канизия, иезуиты
безраздельно царили в системе образования в Вене и Праге. Также и Западная Венгрия,
Словакия, Хорватия, Силезия, Богемия и позднее Западная Галиция — все принадлежали к
этой сфере влияния. Некоторые утверждают, что культура барокко была плюшем, который
не только покрыл ветхое сооружение Габсбургов, но и удерживал его от полного
разрушения.
В других частях Германии в 1555 г. посредством Аугсбургского мира установился
ненадежный modus vivendi между католиками и протестантами: решения о вере подданных
принимал каждый князь отдельно; из протестантских деноминаций разрешено было только
лютеранство; в католических странах терпели проживавших там лютеран. Германия в

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
324
религиозном отношении превратилась в лоскутное одеяло, но католические князья и
монархи боялись дальнейшего продвижения протестантства. С 1550-х гг. испанские
священники открывают иезуитские центры в Кельне, Майнце, Ингольдштадте и Мюнхене
— эти центры надолго стали бастионами католицизма на Рейне и в Баварии. Анклавы
кальвинистов в Пфальце, в Саксонии и в других местах подвергались опасностям до второй
половины этого века. В декабре 1607 г. герцог Баварский провокационно захватил
швабский город Донаунвёрт, чтобы остановить протестантов, мешавших католикам
устраивать религиозные процессии. С этого времени десять князей-цротестантов созывают
Евангелический союз для защиты своих интересов, однако наталкиваются на встречную
активность Католической лиги. Вот почему труд-
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 369
но сказать, началась ли Тридцатилетняя война в 1618 г. или раньше.
В этом мире все возраставшей религиозной нетерпимости особое место занимало
королевство Польши и Литвы. На его громадной территории с большим разнообразием
населения можно было обнаружить настоящую мозаику католиков, православных, иудеев и
мусульман еще до того, как лютеранство охватило польскую Пруссию, а кальвинизм —
значительную часть знати. Положение стоявшей у власти шляхты было таково, что каждый
помещик в религиозных делах пользовался такой же свободой, как германский князь. С
1565 г. вердикты церковных судов уже нельзя было проводить в собственных поместьях
дворян. В то самое время, как кардинал Хозий, председатель Тридентского собора и
епископ Вармии, вводил в страну иезуитов, в Польшу хлынули всякого рода еретики и
беженцы по религиозным убеждениям: английские и шотландские католики, Чешские
Братья, голландские анабаптисты или подобные Фаусту Соццини (Социнию) итальянские
унитарии. В 1573 г., когда в Сенате у кальвинистов было подавляющее большинство,
Польский сейм провел решение о вечной и всеобъемлющей веротерпимости, из которого
исключались только социниане. При Сигизмунде III Вазе (правил 1587-1632 гг.), пылком
ученике иезуитов, партия ультрамонтанов (сторонников абсолютного авторитета римского
папы) вновь утверждает первенствующую роль католицизма. Но продвижение по этому
пути было медленным, и употреблялись только ненасильственные методы. В этот период
Польша с полным правом могла заявить, что является одновременно и защитой христиан от
турок и татар, и первейшим европейским прибежищем веротерпимости.
В остальных частях Восточной Европы вовсю полыхала Контрреформация. При
Григории XIII (1572-1585 гг.) Ватикан лелеял надежду уловить в свои сети не только
Швецию и Польшу, но даже Московию. В Швеции эти планы долго не умирали, пока
победа протестантов в гражданской войне 1590-х гг. не покончила с ними навсегда. В
Москве Иван Грозный принял папского нунция Поссевино, который, впрочем, обнаружил,
что интерес царя к католицизму ограничивается устройством папских носилок. Неловкое
давление католиков, возможно, подтолкнуло сына
Ивана, Федора, установить в 1589 г. Московский патриархат, и таким образом
окончательно сложились условия отделения Русской православной церкви.
Московский демарш спровоцировал кризис православия в соседнем Польско-Литовском
королевстве, где православные с тех нор уже относились к патриарху
Константинопольскому. Когда же новый Московский патриархат заявил свои нрава на
православных и за границами Московии, многие из них начали искать защиты Рима. В 1596
г. во время Брестской унии большинство православных епископов решило создать новую
униатскую общину — греко-католическую Церковь славянского обряда. Здесь при
сохранении славянского богослужения и женатого священства признавалось первенство
папы. Большинство православных храмов в Белоруссии и на Украине, включая Софийский
собор в Киеве, перешли в руки униатов. Остатки православных приходов [dyzuniate] на
некоторое время были официально запрещены.
Москва, однако, никогда так и не смирилась с этими переменами, и на протяжении всей
современной истории Русская православная церковь всеми силами стремилась наказать
униатов и насильно вернуть в православие. Нигде не был столь живуч образ трусливого и
подлого иезуита-интригана, как в Русской церкви. Русско-польские войны, когда в 1610-
1612 гг. поляки ненадолго заняли Кремль, еще больше усилили эту ненависть. В
величайшем русском монастыре в Сергиевом Посаде под Москвой до сих пор можно видеть
мемориальную доску, где отразились взгляды русских на Контрреформацию: «Тиф —
татарин — поляк: три чумы».
В Венгрии похожая униатская община возникла в результате Ужгородской унии (1646
г.). В этом случае православные рутены Прикарпатья решили искать унии с Римом
примерно так же, как на соседней Украине. (Это их решение еще и в 1920-е гг. было
причиной трений между рутенами-католиками и рутенами-униатами в США.)
Повсюду в Европе горячая религиозность способствовала развитию искусства, и это при
том, что суровый протестантизм ставил под вопрос самое существование художественного
творчества. Пластические искусства теперь часто обращались к светским темам, поскольку
религиозное искус-
370 RENATIO
ствo становилось подозрительным. В некоторых странах, как в Голландии или

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
325
Шотландии, музыкальное искусство было сведено исключительно к гимнографии и
псалмопению. В Англии же, напротив, Фома Талии (ок. 1505-1585 гг.) и другие положили
начало изумительной традиции англиканской церковной музыки. В католических странах
все виды искусства служили требованию роскошно и театрально представлять славу и
власть Церкви. Это направление известно под именем барокко. В музыке его связывают с
именами Яна Петерзоона Свеелинка (1562-1621 гг.), Генриха Шютца (1585-1672 гг.), но
главное, с именем Джованни Палестрины (1526-1594 гг.), магистра капеллы собора Св.
Петра; его 94 пространные мессы полны исключительного разнообразия и
изобретательности. Клаудио Монтеверди (1567— 1643 гг.), пионер монодии, возникшей в
противопоставление полифонии, вновь открыл диссонансы и создал теорию итальянской
Новой музыки; Монтеверди занял особое место в развитии европейской светской музыки.
Он в основном трудился в Венеции, которая в искусстве всегда была соперником Рима. В
живописи барокко особенно выделялись Микеланджело Караваджо (1573-1610 гг.),
помилованный убийца; фламандец Пауль Рубенс (1577-1640 гг.) и испанец Диего Веласкес
(1599-1660 гг.). В архитектуре барочные церкви часто строились по образцу иезуитской
церкви (1575 г.) в Риме.
Религиозные распри вышли на первый план в войнах XVI-XVII вв. С той же страстью и
ненавистью, с какой христиане некогда боролись с исламом, они теперь спорили с
братьями-христианами. Страх протестантов перед засильем католиков проявился в войнах
Шмалькальденской лиги в Германии 1531-1548 гг., которые закончились Аугсбургским
миром; а также во французских религиозных войнах 1562-1598 гг.; в гражданской войне в
Швеции 1598-1604 гг.; в Тридцатилетней войне 1618-1648 гг. Страх католиков перед
засильем протестантов стоит за другими важными событиями, как паломничество милости
(15З6 г.) в Англии, ирландское сопротивление Маунтджою и Кромвелю, польское
сопротивление шведам в 1655-1660 гг. На Востоке продолжительные войны русских с
поляками — 1561-1565, 1578-1582, 1610-1619, 1632-1634, 1654-1667 гг. - имели все
признаки священной войны между католицизмом
и православием. Целые армии вдохновлялись религиозным фанатизмом. В XVI в.
непобедимым испанцам удалось внушить, что они сражаются за единственно правую веру.
В XVII в. то же внушили и распевавшим псалмы кавалеристам Густава Адольфа, и солдатам
удивительной армии нового образца Кромвеля.
Французские религиозные войны по своей сущности никак не были связаны с
христианством. Преследование гугенотов началось с chambre ardente при Генрихе II. Но две
смерти (неожиданная смерть короля в 1559 г. и герцога Анжуйского) привели к долгим
спорам о престолонаследии. [НОСТРАДАМУС] Снова воспламенились честолюбивые
замыслы католической партии под водительством Гизов и Бурбоно-гугенотской партии под
водительством короля Наваррского. Неудачной попытке религиозного примирения на
конференции в Пасси (1561 г.) предшествовала жестокая провокация протестантов в Амбуа
в 1560 г. — и за ней последовала не менее жестокая провокация католиков в Васси в 1562 г.
С этого времени две враждующие партии вцепляются друг другу в горло с новой силой,
распаляемые к тому же постоянными интригами королевы-матери Екатерины Медичи.
Варфоломеевская ночь была лишь самой крупной в череде кровавых расправ. Возникавшие
ожесточенные схватки напоминали английские войны: собственно позиционных битв было
немного, но обстановка исключительно благоприятствовала дерзким авантюристам, вроде
протестанта барона де Адретс или католика Блеза де Монтелука. Восемь войн за тридцать
лет, полные нарушенных перемирий и подлых убийств. В 1580-е гг. власть Священной лиги
Гизов (которая стремилась не только подавить всякую терпимость, но и обуздать короля-
содомита) была столь велика, что этот последний приказал убить герцога и кардинала де
Гизов (1588 г.). (Их отец Франсуа де Гиз, знаменитый военачальник, был убит при Орлеане
в 1563 г.) В ответ 1 августа 1589 г. сам король был убит в Сен-Клу неким неистовым
монахом Жаком Клеманом. В результате единственным претендентом на престол остался
Генрих Наваррский. Когда католическое духовенство отказалось помазать его как
отступника и еретика, он цинично вновь обратился к католической церкви и был коронован
в Шартре в 1594 г., а затем с триумфом вошел в Париж.
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 371
Знаменитое Paris vaut bien une messe [Париж стоит мессы] — очень точно отражает
моральный климат этого события. Так что и новый Нантский эдикт (1598 г.) был не намного
лучше. Посвятив всю жизнь борьбе за религиозную свободу, Генрих IV теперь
предписывает ввести ограничения в отношении гугенотов: допускается принадлежность к
гугенотам только в аристократических родах, только в двух церквях на провинцию и в 120
точно указанных крепостях. Такие решения не смогли уменьшить ни страхи, ни
подозрительность.
И хотя религиозный плюрализм завоевал твердые позиции в Британии, Франции,
Нидерландах и Польско-Литовском королевстве, но в целом было бы неправильным делить
Европу данного периода просто на «протестантский Север» и «католический Юг». На
севере помимо протестантов были еще ирландцы, бельгийцы и поляки. На юге
католическое единообразие нарушали православные христиане и мусульмане. Деление на
протестантов и католиков было важным для Центральной Европы и в особенности для

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
326
Германии, но оно не могло быть последовательной характеристикой всего континента в
целом. Предпринятые Марксом и Вебером попытки соотнести такое деление с
позднейшими классификациями по социальным или экономическим критериям следует
считать чересчур германоцентричными. Следуя таким рассуждениям, можно было
докатиться до вопроса, почему Бог даровал каменноугольные бассейны только
протестантам.
Одно было ясно: бессмысленное кровопролитие во имя религии неизбежно вызывает
реакцию думающих людей. Религиозные войны оставили по себе плодородную почву для
всхода семян науки и здравого смысла.
Научную революцию принято относить к периоду с середины XVI в. до середины XVII
в., и ее называют «важнейшим событием истории Европы со времени принятия
христианства»
20
. Научная революция стала естественным развитием гуманизма Ренессанса,
во многом способствовала ей и позиция протестантов. Сильной стороной этой революции
была астрономия, а также такие науки, как математика, оптика и физика, необходимые для
сбора и интерпретации данных астрономии. Однако в результате изменились взгляды на
природу человека и его предназначение. Научная революция началась с наблюдений
на башне церкви капитула во Фромборге в Польской Пруссии во второй половине XVI
в., а ее высшей точкой стало собрание Королевского общества в Грешем-колледже в
Лондоне 28 апреля 1686 г.
Трудность с научной революцией — та же, что и со всяким иным фундаментальным
изменением в человеческой мысли: ее манифесты не отражают ни господствовавших в ее
время идей, ни господствовавшей практики. То, что принято называть веком Коперника,
Бэкона и Галилея, на самом деле все еще было веком алхимиков, астрологов и колдунов. Но
не следует теперь смеяться над теми открытиями, которые позднее оказались ошибочными:
правильнее будет сказать, что алхимики не поняли природы материи. Не следует говорить,
что ученые, усматривавшие в алхимии конструктивные аспекты, «были так же безумны, как
и то, что они описывали», — это виговская интерпретация истории науки
21
.
Николай Коперник (1473-1543 гг.), учившийся в Кракове и в Падуе, установил, что
центром Солнечной системы является Солнце, а не Земля. Гелиоцентрические идеи
Коперника напоминали, по видимости, манеру астрологов использовать знак солнца в
качестве знака единства. Но ученый доказал гелиоцентричность экспериментально и путем
вычислений. Сын немецкого купца из Торна (Торуня) и верный слуга короля Польши, за
которого он сражался против тевтонских рыцарей, он тридцать лет жил во Фромборке,
будучи каноником (священником) провинции Вармии. Король призвал его на службу для
проведения денежной реформы, и в трактате Monetae cudendae ratio (1526 г.), о том, что
«плохие деньги вытесняют хорошие», он выдвинул идеи закона Грешема за тридцать лет до
самого Грешема. Впервые он выдвинул идею гелиоцентризма в 1510 г., но полностью
обоснована статистическими данными она была в работе Об обращении небесных сфер
(1543 г.). Работа была опубликована по инициативе коллеги-математика из лютеранского
Виттенберга Г. Дж. фон Лаухена (Ретик). Коперник посвятил этот труд папе Павлу III; но
когда вышедшую в свет книгу принесли автору, он был уже на смертном одре. Одним
ударом новая теория опрокинула господствовавшие на то время представления о
Вселенной, отбросив аристотелевскую идею о расположенной в центре, неподвиж-
372 RENATIO
ной и не являющейся планетой Земле. Впрочем, непосредственное воздействие труда
Коперника было значительно ослаблено тем, что трусливый издатель заменил предисловие
Коперника собственным, вводящим в заблуждение относительно смысла всего труда.
Теория Коперника вызревала еще целое столетие. Датчанин Тихо Браге (1546-1601 гг.)
отверг идею гелиоцентризма, а затем собственные наблюдения за ходом комет привели ero
к опровержению другого ложного (и древнего) представления, будто космос представляет
собой своего рода луковицу, состоящую из хрустальных сфер. Сотрудник Браге но Праге
Иоганн Кеплер (1571-1630 гг.) установил, что орбиты планет имеют эллиптическую форму;
он также сформулировал законы движения, на которых основаны построения Коперника.
Но лишь флорентиец Галилео Галилей (1564-1642 гг.) впервые воспользовался незадолго до
того изобретенным телескопом и познакомил широкую публику с идеями Коперника. К
счастью для потомства, Галилей был не только смел, но и восприимчив к новым идеям.
Обнаружив, что «Луна не является гладкой и однородной, но имеет неровную поверхность
и полна впадин, как Земля», он взорвал господствующие представления о «совершенных
сферах». Больше того, защищая свои идеи, он едко и зло комментировал библейские ссылки
своих оппонентов. «Астрономический язык Библии,
— писал он вдовствующей герцогине Тосканской,
— был придуман для неучей». Вот почему в 1616
г. он был вызван в Рим и получил от папы выговор и предупреждение. Поскольку же
Галилей хвалил Коперника, труд этого ученого поместили в Индекс. Галилей, однако, не
изменил своей позиции и опубликовал Беседы и математические доказательства,
касающиеся двух новых отраслей науки (1632 г.), где доказывал превосходство идей
Коперника над идеями Птолемея. Он подпал под суд инквизиции и был вынужден отречься
от своих взглядов.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
327
Ему приписывают фразу, якобы сказанную на прощание инквизиторам: Eppursi muove
[И все-таки она вертится], — но это апокриф. [ЛЕСБИЯ]
В то время, когда обсуждалась теория Коперника, практическая наука пребывала в
пеленках. Впрочем, некоторые важные утверждения были сделаны бывшим канцлером
Англии Фрэнсисом Бэконом (1561-1626 гг.), который стал отцом научного метода. В своих
работах О преуспевании знания (1605 г.), Новый органон (1620 г.) и Новая Атлантида (1627
г.) Бэкон утверждал, что познание какого бы то ни было предмета должно осуществляться
посредством последовательных и систематических экспериментов, а затем посредством
умозаключений, основанных на данных этих экспериментов. Он, таким образом, смело
выступил против традиционного дедуктивного метода, когда познание осуществлялось
привязкой к некоторым принятым аксиомам, утвержденным Церковью. Замечательно, что
Бэкон считал необходимым сочетать научное исследование с изучением
ЛЕСБИЯ
В 1622 г. на неприметном церковном процессе флорентийская абатисса по имени
Бенедетта Карлини была признана виновной в безнравственных поступках. Она сама
заявляла, что имела видения; что у нее священные стигматы; ее заподозрили в сексуальном
преступлении. В результате процесса ее лишили сана и осудили на 45 лет заключения.
В 1985 г. с гораздо большей оглаской ведущий американский публицист публикует отчет
об этом процессе под заголовком Итальянская монахиня-лесбиянка эпохи Ренессанса. К
сожалению, материалы процесса не совсем соответствуют предположениям, вынесенным в
название публикации. Инквизиторы в свое время сосредоточились на религиозных
воззрениях подсудимой; они прошли мимо отвратительных деталей «стиля жизни»
лесбиянок — им было просто не интересно. Один разочарованный критик заметил, что
раньше (до
нашего столетия) люди вообще не могли понять лесбийскую любовь. Но в то же время
броское название «монахиня-лесбиянка» дразнит любопытство современных читателей... и
гарантирует успешные продажи.
Историк обязан постоянно подчеркивать разницу нравственных стандартов людей
прошлого и настоящего. Некоторые из них выполняют эту обязанность сознательно, другие
— случайно.
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 373
Библии, то есть науку следовало совмещать с христианским богословием. «Ученый —
это священнослужитель Книги Природы Бога». Один из пламенных сторонников Бэкона
Джон Уилкинс (1614-1672 гг.), бывший некогда епископом Чес-терским и одним из
основателей Королевского общества, написал забавную книгу Discovery of а World on the
Moon [Открытие мира на Луне, 1638 г.], где содержалась идея путешествия на Луну:
«Обитатели иных миров искуплены той же ценой, что и мы, — кровью Иисуса Христа»
22
.
Важные открытия были сделаны в это время философами с математическим уклоном, в
особенности двумя блистательными французами Рене Декартом (1596-1650 гг.) и Блезом
Паскалем (1623-1662 гг.), а также их последователем Бенедиктом Спинозой (1632-1677 гг.).
Декарт, воин-авантюрист, бывший очевидцем битвы под Белой горой (см.с. 564), прожил
большую часть своей жизни в изгнании в Голландии. Его обычно связывают с системой
самого бескомпромиссного рационализма, получившего его имя — картезианство; эту
систему взглядов он развил в Рассуждении о методе (1637 г.). Он отвергал все, что нами
получено посредством органов чувств или авторитетом других; из того факта, что мы
способны мыслить, Декарт выводит, что мы, по крайней мере, существуем: из Декартова
Cogito, ergo sum [Я мыслю, следовательно, существую] выросла современная теория
познания (гносеология, эпистемология).
В то же время в философии, которая отделяла материю от духа и вникала во все: от
медицины до морали, — Декарт утверждал уже начинавший приобретать значение
механистический взгляд на мир: животные рассматривались им как сложные машины, так
же рассматривались люди.
Паскаль, рожденный в Клермон-Ферране и обитатель янсенистского Пор-Рояля в
Париже, настолько овладел механистической системой мышления, что смог даже создать
первый «компьютер». В своих трудах иезуиты до сих пор цитируют его Письма к
провинциалу (1656 г.), считая их бокалом с ядом. Впрочем, его Мысли (1670 г.)
представляют собой восхитительную смесь модного рационализма и просто здравого
смысла. Le coeur a ses raisons que la Raison ne connaît point' [У сердца есть свои резоны, о
которых резон знать не может], — писал он. Или: «Люди — это не
ангелы и не звери. Но любой, кто пытается стать ангелом, в случае неудачи может стать
зверем». В многоголосии тех, кто обращал внимание на противоречие религии и науки, он
предлагает доводы в пользу Веры: если Бог христиан существует, то верующие наследуют
вечную жизнь; если же нет — то им будет не хуже, чем неверующим; во всяком случае
следует рискнуть обратиться к вере христиан.
Спиноза, еврей-сефард, шлифовальщик стекол по профессии, был изгнан из еврейской
общины Амстердама за ересь. Он, как и Декарт, придерживался математически точных и
логических воззрений на мироздание и идеи общественного договора Гоббса. Он был
пантеистом и полагал, что Бог и природа нераздельны. Высшей добродетелью он считал

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
328
исходящую из познания самого себя и мира умеренность. Зло проистекает из недостатка
понимания. Слепая вера достойна презрения. Воля Божия — прибежище невежественных.
В Англии сторонники экспериментальной философии начали объединяться в 1640-е
годы. Тесно связанная между собой, группа этих ученых, во главе с д-ром Уилкинсом и д-
ром Робертом Бойлем (1627-1691 гг.), объединилась во время гражданской войны в так
называемый Невидимый колледж в Оксфорде. В 1660 г. они приступили к основанию
Королевского общества за улучшение естественного знания. На первом заседании
Общества к собравшимся обратился архитектор Кристофер Рен. Вначале среди членов
Общества были колдуны, у которых еще в течение 20 лет ученые новой школы (вроде
Исаака Ньютона) не могли отнять их влияния. С приходом Ньютона современная наука
достигла совершеннолетия (см. Глава VIII); пример Королевского общества быстро
распространился по Европе.
Как всегда, старые идеи соединялись с новыми. Ко второй половине XVII в. ведущие
мыслители Европы соглашались в основном в их механистических воззрениях на
Вселенную, действующую по тем же принципам, что и часы. Галилей обожествлял закон
силы — основной элемент механики; а сила, приложенная к чему угодно (от закона Бойля о
газах до Ньютоновых законов движения), может быть вычислена с точностью. Наконец-то,
казалось, Вселенная со всем ее содержимым может быть разъяснена и измере-
374 RENATIO
на. Больше того, естественные законы, открывавшие теперь секреты ученым, можно
было принять за проявление Божьей воли. Бог христиан, которого Фома Аквинский
приравнял когда-то к первопричине Аристотеля, теперь становился «Великим Часовщиком».
Почти на двести лет вперед были исчерпаны разногласия между наукой и религией.
[МАГИЯ] [ОБЕЗЬЯНА]
Заморские владения Европы начались не с Колумба и завоеваний в Карибском море.
Один эксперимент с королевствами крестоносцев в Святой Земле уже давно завершился.
Другой — на Канарских островах — продолжался уже 70 лет. Но как только установился
контакт с далекими островами, европейцы стали отправляться «за море» во все больших
количествах. Они отплывали по торговым делам, за разбойничьей добычей, для захвата
земель и, все чаще, с религиозной целью. Многие в этих путешествиях впервые встретились
с людьми разных рас и племен. Чтобы утвердиться в своих правах на жителей покоренных
земель, испанские монархи должны были сначала признать, что неевропейцы — тоже люди.
Проблему регулировал Акт от 1512 г., который конквистадоры были обязаны читать вслух
всем туземцам: «Господь Наш Бог, Живой и Вечный, создал небо и землю, мужчину и
женщину, от которых и вы и я, и все люди на земле были и есть их потомки....»
23
В
утверждение этого положения пана Павел III издал в 1537 г. декрет, что «все индейцы —
действительно люди, которые не только могут понять истины католической веры, но...
весьма желают их усвоить»
24
. [GONCALVEZ]
Ранее открытые пути в далекие страны теперь удлинялись и множились. Существование
четвертого континента на Западе было постепенно подтверждено путем «проб и ошибок»
где-то через двадцать лет после первого возвращения Колумба на Палос. Разгорелось
соперничество из-за того, кому принадлежит честь первооткрывателя. Сам Колумб
предпринял еще три плавания, так и не зная, где он до того побывал. Другой генуэзец,
Джованни Кабото (John Cabot, 1450-1498 гг.), отплыл из Бристоля на «Св. Матфее» в мае
1497 г. по лицензии от Генриха VII. Он высадился на острове Кейп-Бретон, который он
принял за часть Китая. Флорентиец Америго Веспуччи (1451-1512 гг.),
бывший одно время агентом Медичи в Севилье, совершил три или четыре
трансатлантических плавания между 1497 и 1504 годами. Затем он получил пост piloto
mayor, то есть Главного лоцмана Испании. Именно благодаря этому факту — правильно или
нет — четвертый континент назвали его именем. В 1513 г. тайком прокравшийся на борт
судна Васко Нуньес де Бальбоа (ум. в 1519 г.), пересек Панамский перешеек и вышел к
Тихому океану. В 1519-1522 гг. испанская экспедиция под командованием португальца
Фердинанда Магеллана (ок. 1480-1521 гг.) совершила кругосветное плавание. С
несомненностью было доказано, что Земля круглая, что Тихий и Атлантический океаны —
это два отдельных океана и что Америка лежит между ними. [СИФИЛИС]
Наличие пятого континента в противоположном полушарии заподозрили еще только
через столетие. В 1605 г. испанский корабль из Перу и голландский корабль из Явы
поплыли в залив Карпентария. Основные очертания громадной Zuidland, то есть «Южной
земли» (Австралии и Новой Зеландии) были установлены голландским мореплавателем
Абелем Тасманом (1603-1659 гг.) в 1642-1643 гг.
Однако португальцы первыми воспользовались богатствами новых земель. Они
предъявили права на Бразилию в 1500 г., на Маврикий в 1505 г., Суматру в 1509 г., на
Малакку и острова пряностей [Индонезию] в 1511 г. Для обеспечения безопасной торговли
они создали цепь укрепленных поселений от Гоа в Индии до Макао в Китае. Что касается
испанцев, то они не преминули использовать в тех же целях военную силу. Под властью
своей мечты об Эльдорадо конквистадоры, которые еще только недавно покорили Иберию,
теперь устремились на покорение Америки. Они заселили в 1511 г. Кубу и превратили ее в
базу для дальнейших кампаний. В 1519-1520 гг. Эрнандо Кортес (1485-1547 гг.) захватил

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
329
империю ацтеков в Мексике и потопил сопротивление туземцев в море крови. В 1520-1530-
е годы создаются постоянные поселения в Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале и Новой
Гранаде (Колумбия и Венесуэла). Начиная с 1532 г. Франсиско Писарро (ок.1476-1541 гг.)
постепенно захватывает империю инков в Перу.
Европейская колонизация Северной Америки начинается в 1536 г. основанием
Монреаля в Ка-
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 375
СИФИЛИС
Сотни лет эта болезнь не имела названия: итальянцы, немцы, поляки и англичане
называли ее «французской болезнью»; французы — «неаполитанской»; неаполитанцы —
«испанской»; португальцы — «кастильской», а турки —христианской. Испанский доктор,
первым взявшийся ее лечить, —д-р Рай Диас де Исла — называл ее «ядовитой змеей
Испании».
Полагают, что сифилис появился в Европе в Барселоне в 1493 г. Позднее Диас де Исла
говорил, что лечил капитана Ниньо Венсента Пинзона, и считали, что она пересекла
Атлантику с командой Колумба. Но, привезли ли ее моряки, рабы или и те и другие, — в 1494
г. она добралась до Неаполя, где встречала вторгшуюся армию французов. Когда на
следующий год французский король распустил наемников, те развезли ее почти по всем
странам Европы. В 1495 г. император Максимилиан издал декрет против «Оспы грешников»,
которую считали Божьей карой. В 1496 г. город Женева пытался уничтожить за-
раженные сифилисом бордели. В 1497 г. в далеком Эдинбурге заболевшим
предписывалось выселяться на остров Инхкайт под страхом клеймения. Вольтер позднее
напишет о кампании Карла VIII в Италии: «Франция потеряла не все, что захватила: она
удержала сифилис».
По неизвестным причинам бледная спирохета, вызывающая сифилис, Treponema
pallidum, приобрела особенно вирулентную (заразную) форму, как только попала в Европу.
Она прокладывала себе путь в гениталии благодаря трещинам, которые обычно
образовывались под грязной, редко стиравшейся одеждой, и появлялись исключительно
заразные шанкры. В течение нескольких недель тело покрывалось гнойниками, микроб
поражал центральную нервную систему, разрушались волосы. Уже через несколько месяцев
человек погибал в мучениях. Врачи стали обрабатывать гнойники ртутью, таким образом,
невольно отравляя своих пациентов. Через
60-70 дней спирохета вырабатывала в организме сопротивляемость и утихала. Вот
почему в результате обычно трехэтапного венерического заболевания изуродованные и
стерильные носители болезни могли остаться жить. Среди миллионов жертв этой болезни
были папа Юлий II, кардинал Уолси, Генрих VIII и Иван Грозный. Болезнь удалось победить
только с открытием пенициллина, однако сифилис имел далекоидущие последствия.
Благодаря этой болезни половое пуританство охватило все слои общества, кроме
аристократии; были запрещены до того популярные (и развратные) бани; целование
заменили рукопожатием; из-за сифилиса с 1570-х годов входят в моду парики.
В 1530 г. итальянский поэт Джироламо Фракасторо сочинил поэму о пастухе, пораженном
«французской болезнью». Со временем к ней стали прибегать образованные люди, желая
назвать эту болезнь иносказательно: имя пастуха было Сифилис.
наде бретонским моряком Жаком Картье (1491-1557 гг.) и основанием города Св.
Августин во Флориде в 1565 г. Менендезом. Непосредственно перед тем Менендез
уничтожил близлежащее поселение гугенотов (на территории будущей Южной Каролины),
где он повесил первых религиозных беженцев в Америке «как лютеран». Тремя годами
позже земляк гугенотов Доминик де Гургее прибыл туда и перевешал испанский гарнизон
«как грабителей и убийц». Западная цивилизация распространялась.
Голландцы и англичане занялись колонизацией сравнительно поздно, но в конце XVI в.
и те и другие начали извлекать из колоний выгоду. Основав в 1597 г. на Яве Батавию
(позднее Джакарта), голландцы начали постепенно отнимать
Ост-Индию у португальцев. Английская колония Виргиния, основанная в 1598 г.,
заполучила своих первых постоянных жителей в Джеймстауне в 1607 г. Корабль
Мейфлауэр, везший на борту 120 пуритан (отцов-пилигримов) с семьями, пристал 11 (21)
декабря 1620 г. к берегу будущей колонии в Плимуте. Через десять лет появилась колония в
заливе Массачусетс. Переселенцы, хотя и были беженцами по религиозным мотивам, но
сами никакой религиозной терпимости не проявляли. Колония в Род-Айленде (1636 г.) была
основана теми, кого изгнали из Массачусетса. К тому времени уже по всему миру
распространилась сеть европейских колоний, связанных морскими путями сообщения.
Стремительно развивалась международная морская торговля. На западе
трансатлантический путь
376 RENATIO
давно уже был под контролем Испании. К 1600 г. 200 судов в год приходили в Севилью
из Нового Света. В рекордное десятилетие (1591-1600 гг.) они ввезли 19 млн граммов
золота (19 т) и почти 3 млрд граммов серебра (3000 т). Южный путь вокруг мыса Доброй
надежды был первоначально пройден португальцами, а затем голландцами, которые
осуществляли также коммерческую связь Северного моря co Средиземным. На востоке
голландцы оказались также первыми в торговле зерном по Балтике. На растущую
потребность в продовольствии западноевропейских городов польские производители
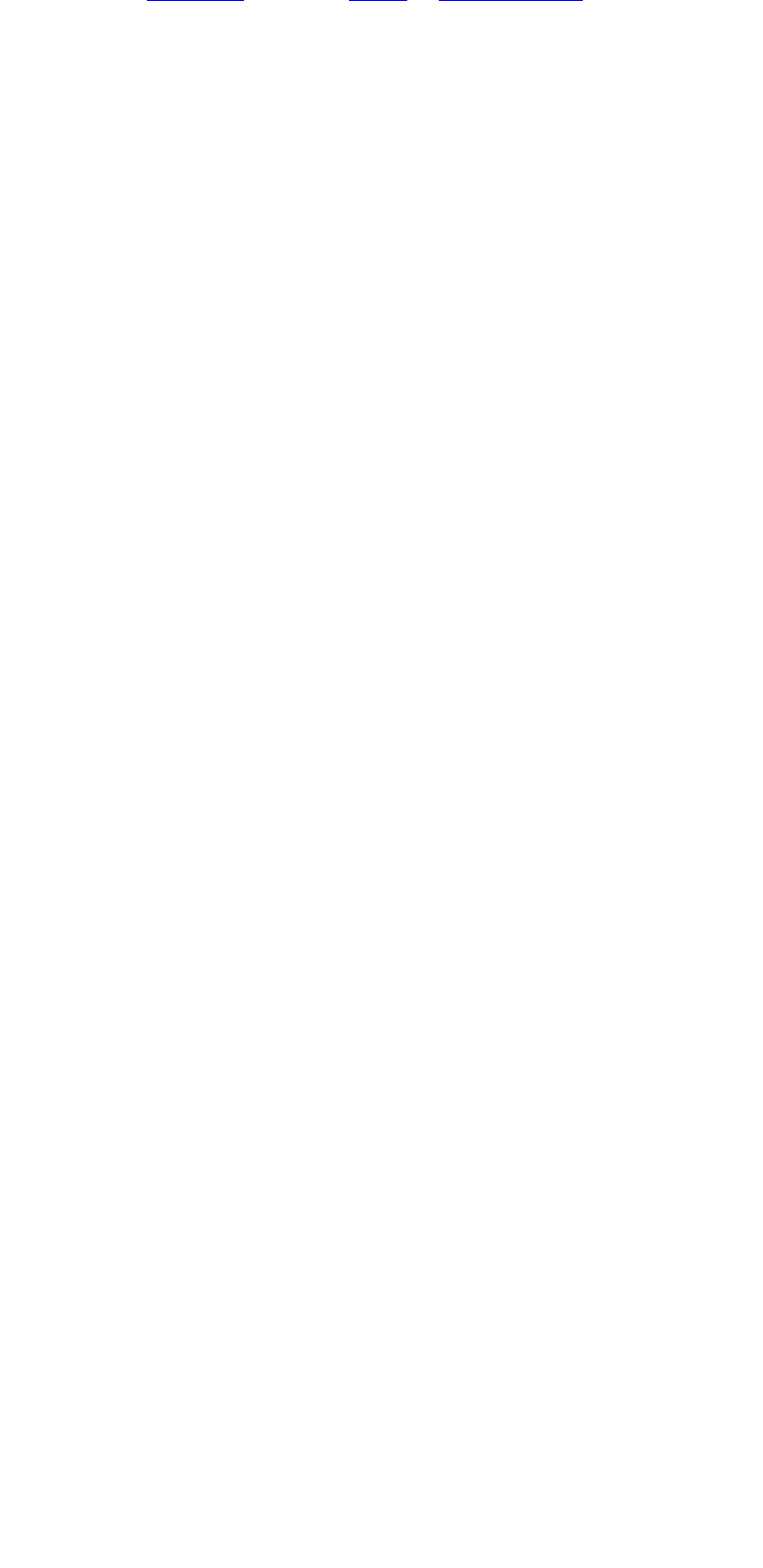
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
330
ответили ростом поставок. Эта торговля зерном по Балтике достигла пика в 1618 г., когда из
Данцига в Амстердам было отправлено 11000 ластов [мор. уст. единица грузоподъёмности
= ок. 2 т]. Английская торговля текстилем с Нидерландами достигла рекордных показателей
несколько раньше — в 1550 г. Английские купцы [занимавшиеся перевозкой по морю
торговых грузов и имевшие фактории в других странах] создали Московскую компанию
(1565), Левантийскую компанию (1581 г.) и Ост-Индскую компанию (1600 г.).
Связующий центр всей этой деятельности находился в Нидерландах. Антверпен,
бывший главным пакгаузом как испанских, так и английских судов, царил здесь
безраздельно до краха 1557-1560 гг.; затем центр переместился в Амстердам. 1602 г., когда
была основана голландская Ост-Индская компания и первая в мире биржа в Амстердаме,
можно считать началом новой эры в истории торговли. [ИНФАНТА]
С развитием международной морской торговли Европа начинает получать все более
широкий набор новых основных продуктов питания, а также экзотические колониальные
продукты, включая перец, кофе, какао, сахар и табак. Навсегда и безвозвратно изменились и
питание в Европе, и кухня, и вкус. Фасоль, которую впервые отмечают во Франции в 1542
г., томаты, распространявшиеся повсюду через Италию в то же время, и красный
(испанский) перец, который стали выращивать повсюду на Балканах, — все это продукты
американского происхождения.
Взаимодействие Европы с Америкой, которая до того времени оставалась большой, но
довольно отъединенной зоной, привело к широкомасштабному обмену людьми, болезнями,
растениями
и животными. Этот «Колумбов обмен» принес решительную пользу Европе.
Европейские колонисты мужественно шли на трудности и лишения в Америке и иногда
сталкивались с враждебными индейцами, однако их потери были ничтожны в сравнении с
тем геноцидом, которые принесли с собой они (и их огнестрельное оружие). Доставленные
ими отдельные преимущества цивилизации шли бок о бок с беспримерным ограблением и
истреблением местного населения. Взамен Европа получила сифилис; впрочем, вызванные
им потери также не могли сравниться с потерями среди аборигенов Америки от
обрушившихся на них оспы, плеврита и тифа. Европейцы наладили в Америке разведение
лошадей; взамен они получили два важнейших продукта питания: картофель и кукурузу, а
также индеек — самый питательный вид домашней птицы. Уже очень рано картофель был
адаптирован в Ирландии и начал оттуда распространяться по северной Европе,
превратившись в главный продукт питания в Германии, Польше и России. Кукуруза,
которую называли также американской пшеницей (зерном), обогащала истощенные почвы и
чрезвычайно способствовала севообороту, а также увеличивала производительность
животноводства. В XVI в. эта культура уже хорошо утвердилась в долине реки По, и, хотя
ей не удавалось перешагнуть через Альпы, пока примерно столетие спустя не улучшились
климатические условия, в долгосрочной перспективе вклад этой культуры был огромен.
Есть все основания считать, что именно американские добавки в питание европейцев стали
одним из важнейших факторов исключительного роста народонаселения в Европе уже в
конце раннего периода Нового времени
23
. [СИФИЛИС]
Совсем недавно подверглись решительному пересмотру описания прибытия европейцев
в Америку: они были «деколумбизованы». То, что раньше называли «открытие», теперь
называют «встреча» или «встреча культур»
26
. Было бы лучше называть это честно:
завоеванием. Так же был «понижен в чине» Колумб: первенство было передано викингам
или ирландцам и даже некоему валлийцу в коракле [рыбачья лодка, сплетённая из ивняка и
обтянутая кожей (в Ирландии и Уэльсе)]. Его высадку в Сан-Сальвадоре
Ренессанс и Реформация, ок. 1450-1670 377
ИНФАНТА
В 1572 г. Мартин де Воос написал семейный портрет для антверпенского магистрата
Антуана Ансельма. Он изобразил супругов сидящими за столом и держащими на руках сына
и дочь. Вверху была сделана надпись, которая гласила, что хозяин дома родился 9 февраля
1536 г., его жена Иоанна Хофтсманс — 16 декабря 1545 г., их сын Эгидий — 21 августа 1565
г. а их дочь Иоанна — 26 сентября 1566 г. Эта картина свидетельствовала, что родилось
современное понятие семьи, состоящей из отдельных индивидуумов: родителей и детей.
В 1579 г. Санчес Коэлло написал портрет инфанты Изабеллы, дочери Филиппа II
Испанского, которой в то время было 13 лет. С портрета на нас смотрит маленькая дама в
великолепном, с драгоценными камнями, головном уборе, с завитыми волосами, высоким
плоёным воротником, в парадном одеянии и с кольцами на пальцах. Эта традиция
сохранялась при испанском дворе до 1650-х годов, когда появилась знаменитая серия
портретов работы Веласкеса другой инфанты — Маргариты Австрийской, дочери Филиппа
IV. Снова необычный объект живописи — семи-восьмилетняя девочка была изображена как
дама в миниатюре, одетая в корсет и кринолин и украшенная сложной прической взрослой
женщины. Дети в то время считались людьми поменьше, еще не выросшими, но по существу
ничем не отличающимися от своих родителей. (См. илл. 51.)
До Возрождения ни малая семья (то есть родители с деть-
ми), ни детский возраст не считались заслуживающими внимания сами по себе. Все
поколения жили вместе большим домашним хозяйством. Дети прямо из пеленок переходили
