Дэвис Н. История Европы
Подождите немного. Документ загружается.


Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
611
тридцатыми годами. В яме было 80000 скелетов. Пулевые отверстия в черепах поведали
правду о судьбе здесь погребенных. Эти жертвы не были замучены до смерти работой в
Гулаге. «Людей просто забирали из дома, — рассказал местный фотограф, — и
расстреливали там вместе с детьми».
Невольно задаешься вопросом: сколько еще таких мест в необъятной России?
вистский лидер — Троцкий, которому удавалось оставаться невредимым в своем
укрепленном мексиканском убежище до 1940 г. Но впереди была свирепая, ничего не
разбиравшая «ежовщина» — террор, руководимый Н.И. Ежовым, главным палачом
Сталина.
Адская машина работала на таких высоких оборотах, что в начале 1939 г. только Сталин
и Молотов ежедневно подписывали списки по несколько тысяч жертв, при том что каждое
региональное отделение органов сгребало во все больших количествах взятых наугад
невинных граждан. Террор шел безостановочно до XVIII съезда в марте 1939 года, когда
Сталин спокойно объявил Ежова дегенератом. Но террор так и не прекращался полностью
до тех пор, пока не испустил дух сам вождь.
Много десятилетий общественное мнение в мире не могло осознать этих фактов. До
появления документального произведения Александра Солженицына в 1960-е гг. и
публикаций скрупулезных исследований некоторых мужественных ученых, большинство
людей на Западе думали, что рассказы о Терроре очень преувеличены. Большинство
советологов старались террор свести к минимуму. Советские власти не признавались до
конца 1980-х гг. Деяния Сталина (в отличие от деяний Гитлера) так и не были вполне
преданы гласности. Общее количество жертв сталинского террора никогда нельзя было
точно подсчитать, но вряд ли оно было меньше 50 млн . человек
38
.
Без сомнения, сталинизм есть порождение ленинизма, но, с другой стороны, сталинизм
приобрел множество специфических черт, которые
Затмение в Европе, 1914-1945 715
ЖАТВА
«Четверть деревенского населения — мужчины, женщины, дети — лежат мертвыми или
умирают на громадной территории с населением примерно в 40 млн. жителей... как один
громадный Белзен (концлагерь Берген-Белзен)... Остальные в разных стадиях истощения не
имеют сил, чтобы похоронить семьи или соседей... (Как в Белзене), отряды сытых солдат и
партийные начальники наблюдают за жертвами».
В 1932-1933 гг. в рамках советской коллективизации сталинский режим организовал
искусственный голод-террор на Украине и на соседних казачьих землях. Все запасы
продовольствия были насильственно реквизированы; военные кордоны не пропускали
подвоза продовольствия извне, а людей оставили умирать. Преследова-
лась цель покончить с украинским самосознанием, а также и с классовым врагом.
Количество умерших достигало 7 млн. Мир знал много случаев страшного голода, часто
голод усугублялся гражданской войной. Но голод как акт геноцида в рамках государственной
политики следует признать уникальным.
Писатель Василий Гроссман позднее так описывал детей: «Вы видели когда-нибудь
газетные снимки детей в немецких концлагерях? Вот они были такими; головы как тяжелые
мячи на худых маленьких шеях, как у аистов... и весь скелет покрыт кожей, как желтая
марля... И к весне у них вообще не было лиц. Вместо этого у них были птичьи головки с
клювом — или лягушачьи — тонкие белые губы — а некоторые напоминали рыб
с открытым ртом... Это были советские дети и убивали их советские люди».
А мир ничего не знал. В США дали Пулицеровскую премию корреспонденту Нью-Йорк
Таймс, который рассказал в частной беседе о миллионах смертей, но ничего не было
опубликовано. В Англии Джордж Орвелл скорбел, что голод-террор «избежал внимания
большинства английских русофилов».
Историк, который, наконец, собрал неопровержимые доказательства этого события,
силился передать ero невероятные размеры. Он написал книгу в 412 страниц, по 500 слов на
страницу, а потом заявил в Предисловии: «погибло около 20 человек не на каждое слово
этой книги, но на каждую букву».
не были важны при жизни Ленина. Троцкий считал сталинизм «термидорианской
реакцией», и это очень осложняет всякие споры о советской и коммунистической истории.
Следует, в первую очередь, помнить, что советский коммунизм стабилизировался именно в
рамках сталинизма, обеспечив те основания жизни в СССР, которые позволили ему
просуществовать до 1991 г. Вот почему, когда мы хотим оценить коммунистическую
систему в целом, мы должны рассматривать сталинскую версию коммунизма, а не
ленинскую.
Так случилось, что 1929 г. был не только годом сталинской революции в СССР, но
также и годом кризиса в капиталистическом мире. Историки задаются вопросом, не были
ли связаны эти два события ритмом послевоенных экономических преобразований. Как бы
то ни было, но 24 октября 1929 г., в «Черный четверг», цена акций на нью-йоркской бирже
неожиданно резко упала. Началась паника, банки отзывали свои займы и, прежде, чем кто-
то смог что-нибудь предпринять, Великая депрессия уже разлилась по всем стра-
нам, с которыми США вели дела. Это было негативное свидетельство масштабов
американского влияния на мировую экономику. В США неожиданное прекращение легких
кредитов «безумных двадцатых» вызвало мощную волну банкротств, которые в свою

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
612
очередь вызвали небывалый рост безработицы. В период наибольшего «экономического
спада» в 1933 г. третья часть рабочей силы в Америке не имела работы;
металлообрабатывающая промышленность работала на 10 % своих возможностей;
уничтожались запасы продовольствия, потому что голодные рабочие не имели возможности
его покупать; «свирепая бедность охватила множество людей».
Не прошло и года, как последствия экономического спада стали ощутимы в Европе,
которая напрягала свои силы для уплаты военных долгов, часто из сокращавшихся золотых
запасов. В мае 1931 г. объявил о неплатежеспособности ведущий банк Австрии
«Kreditanstalt»; в июне США вынуждены были согласиться на мораторий по всем долгам
европейских правительств, а в сентябре британский Bank of England вынужден был отме-
716 TENEBRAE
нить золотой стандарт для фунта стерлингов. Было подорвано «доверие», этот
краеугольный камень капитализма. В течение нескольких лет бизнес потерял ориентиры, а
30 млн. рабочих потеряли работу. К 1934 г. в США появился новый энергичный президент
Франклин Д. Рузвельт с его «новым курсом» — программой финансируемых
правительством работ, что должно было вернуть Америке процветание. «Единственное,
чего нам следует бояться, — говорил Рузвельт, — это самого страха». Но в Европе не было
ни Рузвельта, ни «нового курса». Здесь возрождение было столь же медленным, сколь
быстрым был экономический обвал.
Депрессия имела не только экономические, но и психологические и политические
последствия. Растерялись все: от банкира до коридорного. Великая война в свое время
принесла смерть и разрушение, но она также давала цель жизни и обеспечивала полную
занятость. Мир же, казалось, не принес ни того, ни другого. Были люди, которые
утверждали, что лучше жить среди опасностей в обстановке «оконного братства», чем жить
на пособие по безработице. Другие говорили, что обоснованными оказались печальные
предвидения Шпенглера о возврате Европы в "темные века". Тревога выливалась в насилие
на улицах: во многих европейских городах боевые отряды леваков набрасывались на банды
правых. Это было время шарлатанов, искателей приключений и экстремистов. [СМЕРТЬ]
Подъем Гитлера и его нацистской партии в Германии были, безусловно, связаны с
Великой депрессией. Впрочем, эта связь не была прямолинейной. Нацисты не маршировали
во главе армии безработных, шедших на Берлин; они не «захватывали власть». Гитлеру не
пришлось ни свергать ослабевшее правительство, как это сделали большевики, ни угрожать
главе государства, подобно Муссолини. Он пришел к власти, участвуя в демократическом
процессе в Германии и по приглашению законной власти. И здесь не важно, что уж чем-
чем, а демократами и конституционалистами он и его головорезы не были.
Германская политика оказалась особенно уязвимой для экономического спада,
последствия которого переполнили и без того уже до краев полную чашу нестабильности,
уязвимости, неуверенности. Еще не была изжита затаенная горечь поражения. Не
прекращаясь шли уличные сражения между
левыми и правыми экстремистами. На демократических лидеров оказывали
безжалостное давление, с одной стороны, победители (союзники), с другой, — страхи
избирателей. Экономика Германии уже десятилетие жестоко страдала сначала от военных
репараций, а потом — от гиперинфляции. К концу 1920-х годов она зависела
исключительно от американских займов. Когда в октябре 1929 г. всего за несколько дней до
Великого кризиса умер Штреземан, не нужно было оказаться гением, чтобы предсказать
большие потрясения впереди. Однако последовавшие затем потрясения 1930— 1933 гг.
сопровождались некоторыми необычными и непредвиденными обстоятельствами.
В эти годы нацисты впервые принимают участие в пяти подряд парламентских выборах.
Трижды увеличивались и количество поданных за них голосов, и СПИСОК избранных от них
депутатов. В четвертый раз, в ноябре 1932 г., поддержка уменьшилась. Кроме того, они
никогда не получали абсолютного большинства. Но очень быстро нацисты утвердились как
самая большая самостоятельная партия в Рейхстаге. Больше того, подъем уличного
насилия, чему весьма способствовали банды нацистов, происходил в сильно изменившейся
международной обстановке. В начале 1920-х гг. беспокойство в связи с руководимыми
коммунистами забастовками и демонстрациями приглушила, по видимости, безграничная
власть Антанты. Немецкие промышленники и немецкие демократы точно знали, кого
позвать, если коммунисты попытаются захватить власть. Но в начале 1930-х гг. Англия,
Франция и США сами находились не в лучшем положении, чем Германия, а Советский
Союз, как все видели, очень энергично модернизировался. В ситуации, когда коммунисты
получили почти столько же голосов, сколько нацисты, у консервативных лидеров Германии
оставалось мало средств, чтобы сдерживать «красную опасность».
Где-то в политической культуре Германии пряталось ощущение, что всеобщие выборы
можно дополнить национальным плебисцитом по конкретным сложным вопросам. Получив
такой шанс, Гитлер его не упустил. В хаосе падающих правительств один из проходных
министров поднял вопрос о полномочиях президента в чрезвычайном положении. В
сентябре 1930 г. — в интересах демократии — один из канцлеров меньшинства
Затмение в Европе, 1914-1945 717

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
613
СМЕРТЬ
В 1927 г. в Бухаресте Корнелиу Кодряну сформировал Легион архангела Михаила.
Вместе со своим полувоенным крылом Железная гвардия Легион вырос в одно из самых
могучих фашистских движений Европы. В 1937 г. он получил значительную часть голосов
отнюдь не малочисленных праворадикальных избирателей и в 1940-1941 годах в союзе с
армией генерала Антонеску ненадолго возглавил Национальное государство легионеров
Румынию. Однако в феврале 1941 г. Легион взбунтовался против своих военных союзников,
и его деятельность был прекращена.
Идеология Легиона представляла собой странную вариацию на тему «Кровь и Почва» и
придавала особое значение «костям предков». Возрождая Румынию, идеологи Легиона
заявляли, что создали новое национальное сообщество живых и мертвых, а партийные
ритуалы строились на культе мертвых. Собрания начинались перекличкой павших
товарищей, причем когда назывались их имена, то собравшиеся отвечали криком «Здесь».
Земля с могил святых смешивалась с «пропитанной кровью почвой» с полей битв, на
которых сражались члены партии. Грандиозными торжествами становились эксгумация,
очищение и пере-
захоронение праха партийных мучеников. Эксгумация Капитанула (так именовался глава
Ордена Кодряну), убитого в 1938 г., стала самым большим из таких торжеств за все время,
пока Легион был у власти. Над головами проносились самолеты нацистов. Смерть Кодряну
была одним из сотен подобных политических убийств конца 1930-х гг., когда эскадроны
смерти Легиона вели борьбу с политической полицией короля. Кодряну был задушен, затем
ему прострелили голову и обезобразили кислотой, прежде чем тайно похоронить под семью
тоннами бетона.
В Румынии, Сербии и Греции православные верят, что душа почившего не может
расстаться с телом, пока не разложилась окончательно плоть. По этой причине семья
обычно собирается через 3-7 лет после первого погребения и эксгумирует скелет, который с
любовью очищают и омывают в вине, а затем предают вечному упокоению. Здесь также
верят, что некоторые трупы не могут разложиться. В православной службе отлучения есть
такая фраза: «пусть твое тело никогда не истлеет». Когда же покойник убит или покончил
жизнь самоубийством, то душа мучается, навсегда заключенная в могиле. Для
умиротворения такой души в районе Марамур
совершается ритуал обручения со смертью.
В некоторых регионах Румынии, согласно народной традиции, такая томящаяся душа
может летать «от захода до пенья петухов». Особенно в день памяти апостола Андрея (30
ноября по ст. ст.) и в навечерие Михайлова дня (8 ноября по ст. ст.) обретшее вновь душу
тело тогда бродит по земле, проскальзывает в замочные скважины, совокупляясь со
спящими или питаясь их кровью. Чтобы оберечь себя от таких посещений, крестьяне
приводят на кладбище черного жеребца. Если же он испугается, наступив на какую-нибудь
могилу, то они протыкают громадным колом подозрительный труп, чтобы он не мог
сдвинуться. Уже из самых ранних этнографических исследований был известно, что Румыния
— страна вампиров.
Политологи пришли к выводу, что румынский фашизм был всего лишь омерзительным
вариантом этого верования со склонностью к антисемитизму и некрофилии. Антрополог бы
сказал, что фашизм воспользовался глубинными религиозными и народными верованиями.
В декабре 1991 г., как только пала коммунистическая диктатура, появилось новое Движение
за Румынию, а Кодряну стал героем этого движения.
убедил президента Гинденбурга ввести в действие ст. 48 Веймарской конституции.
Отныне немецкий президент мог «применять вооруженные силы для восстановления
порядка и безопасности» и приостанавливать на время осуществление «основных прав
граждан». Это был тот инструмент, которым другие могли воспользоваться для свержения
демократии.
Здесь очень важна последовательность событий. Буря бушевала три года: углубление
рецессии, рост безработицы, сражения на улицах коммунистов с антикоммунистами,
выборы, никому не приносившие окончательного перевеса, и бесконечные
правительственные кризисы. В июне 1932 г. другой канцлер меньшинства, Франц фон
Папен, получил поддержку Рейхстага благодаря
718 TENEBRAE
сотрудничеству с депутатами-нацистами. Шесть месяцев спустя он приготовил новую
комбинацию: решил сделать Гитлера канцлером, а себя вице-канцлером, включить в
правительство из 12 человек троих нацистов. Президент Гинденбург и германские правые
вообще посчитали эту идею прекрасной: они думали, что используют Гитлера против
коммунистов. На самом деле, когда Гитлер принимал приглашение (одетый, как и подобало
случаю, в цилиндр и фрак), это именно он, Гитлер использовал их.
Не прошло и месяца после этого, как за неделю до следующих выборов загадочный
пожар разрушил здание Рейхстага. Нацисты заявили, что это Красный заговор, арестовали
коммунистических лидеров, завоевали 44% голосов в накаленной атмосфере
антикоммунизма, а потом спокойно провели законодательный акт о предоставлении
канцлеру чрезвычайных полномочий на четыре года. В октябре Гитлер организовал
плебисцит по вопросу выхода Германии из Лиги Наций и из Конференции по разоружению.
Он получил поддержку в 96.3%. В августе 1934 г., после смерти президента, он созывает
новый плебисцит по вопросу одобрения его выдвижения на новый партийно-
государственный пост «фюрера и рейхсканцлера Рейха» со всей полнотой власти и

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
614
чрезвычайными полномочиями. На этот раз он получает поддержку в 90%. Теперь Гитлер
контролирует ситуацию. В своем последнем походе на вершину власти он ни разу не
преступил Конституцию. Но легко указать, кто лично отвечал за успех Гитлера. Четыре
года спустя Гитлер принимает своего бывшего партнера фон Палена в Берхтесгадене и
говорит: «Сделав меня канцлером, герр фон Папен, вы сделали возможной национал-
социалистическую революцию в Германии, Я никогда этого не забуду». Фон Папен
отвечает: «Конечно, мой фюрер»
39
.
Демократический триумф Гитлера выявил природу демократии. У демократии мало
собственных достоинств: она настолько хороша или настолько плоха, насколько хороши
или плохи принципы людей, которые ее пользуются. В руках либеральных и терпимых
людей она производит либеральное и терпимое правительство; в руках людоедов —
правительство людоедов. В Германии в 1933-1934 гг. она произвела нацистское пра-
вительство, потому что культура немецких избирателей на тот момент не придавала
первостепенного значения тому, чтобы не допустить к власти бандитов.
Адольф Гитлер (1889-1945) был австрийцем и стал хозяином всей Германии как ни один
немец до него. Он родился в Браунау на баварской границе и был сыном таможенного
чиновника; он вырос, постоянно сознавая позор того, что ero отец был внебрачным
ребенком (вот почему те, кто хотел его обидеть, называли его иногда прежней фамилией
«Шикельгрубер»). Его жизнь была тяжела в ее начале и ничего не сулила в будущем. У него
были некоторые художественные способности, но он не смог получить необходимого
образования и слонялся по сомнительным ночлежкам Вены, перебиваясь иногда работой
декоратора и художника почтовых открыток. Сосредоточенный на себе, обидчивый и
одинокий, он был хорошо знаком с патологическими настроениями антиславянского и
антисемитского полусвета немецкой Вены. Он бежит из Вены в Мюнхен, где радостно
приветствует Первую мировую войну как благословенное избавление от своей личной
неустроенности. Служил он храбро и был дважды награжден Железным Крестом (второго
класса и первого класса), выжил, когда его товарищи погибали, был отравлен газами. Войну
он закончил в госпитале глубоко озлобленным человеком. [ЛАНГЕМАРК]
Послевоенная карьера Гитлера возместила ему неудачи молодости. Его партия НСДАП
приняла в качестве программы варево из обывательского расизма, германского
национализма и вульгарного социализма, что оказалось привлекательным, во-первых, для
бродяг вроде него, а потом и для миллионов избирателей. На перевернутых ящиках на
перекрестках улиц поверженной Германии он обрел искусство оратора (или демагога),
которое вознесло его на самую вершину власти. Он научился управлять ГОЛОСОМ И менять
темп речи, жестикулировать, натягивать на лицо победную улыбку и неукротимую ярость,
и при этом так захватывал слушателей, что существо его слов было уже почти не важно.
Это ero искусство, преумноженное вскоре прожекторами, громкоговорителями и
музыкальными хорами, можно сравнить только с искусством призывающих к религиозному
возрождению проповедников или с более по-
Затмение в Европе, 1914-1945 719
ЗЛОЙ ДУХ
Вскоре после того, как германская армия оккупировала Австрию в марте 1938 г., Адольф
Гитлер, говорят, приказал командиру XVII военного округа разрушить деревушку
Доллерсхейм «учебной стрельбой». Обитатели были эвакуированы, и все сооружения
деревни, включая кладбище, были затем превращены в пыль артиллерийским огнем. Вся эта
жестокая операция, как кажется, была вызвана тем, что отец Гитлера и его бабушка со
стороны отца Мария Анна Шикельгрубер были похоронены в Доллерсхейме, а Гитлер
незадолго перед тем узнал некоторые факты о молодости своего отца. По донесению
Гестапо, юная фрейлин Шикельгрубер зачала отца Гитлера, когда незамужней девушкой
работала служанкой в богатой еврейской семье. Из этого можно было сделать, думал
Гитлер, нежелательные выводы.
Множество подобных фактов наводят на мысль, что Гитлер страдал сильным чувством
подавленной вины, стыда и ненависти к своему происхождению, родственникам, телу и
самой своей личности. Впрочем, нет необходимости верить дословно этим противоречивым
свидетельствам, чтобы заставить нас считать Гитлера важнейшим субъектом
«психиатрической истории».
Особенно следует отметить свирепую ипохондрию фюрера, которая, возможно, имела
решающее значение для состояния его ума во время войны. С 1936 по 1945 годы он
полностью доверился сомнительному врачу д-ру Тео Мореллю, который постоянно лечил его
громадными дозами
глюкозы, витаминов, стимуляторов, средствами для возбуждения аппетита,
слабительным, транквилизаторами и седативами, которые он вводил обычно внутривенно.
Поскольку у Гитлера была склонность к вздутию живота, то ему давали огромные дозы
лекарств от этого недуга ежедневно. Эти лекарства изготовлялись на основе атропина и
стрихнина. Конкуренты Морелля безуспешно докладывали в Гестапо, что Морелль тайком
травит фюрера.
У солдат бывает тонкая интуиция. Как-то уже во время Второй мировой войны, маршируя
под изумительный ритм Colonel Bogey ("Полковник Злой Дух"), кто-то из англичан сочинил
бессмертный припев:
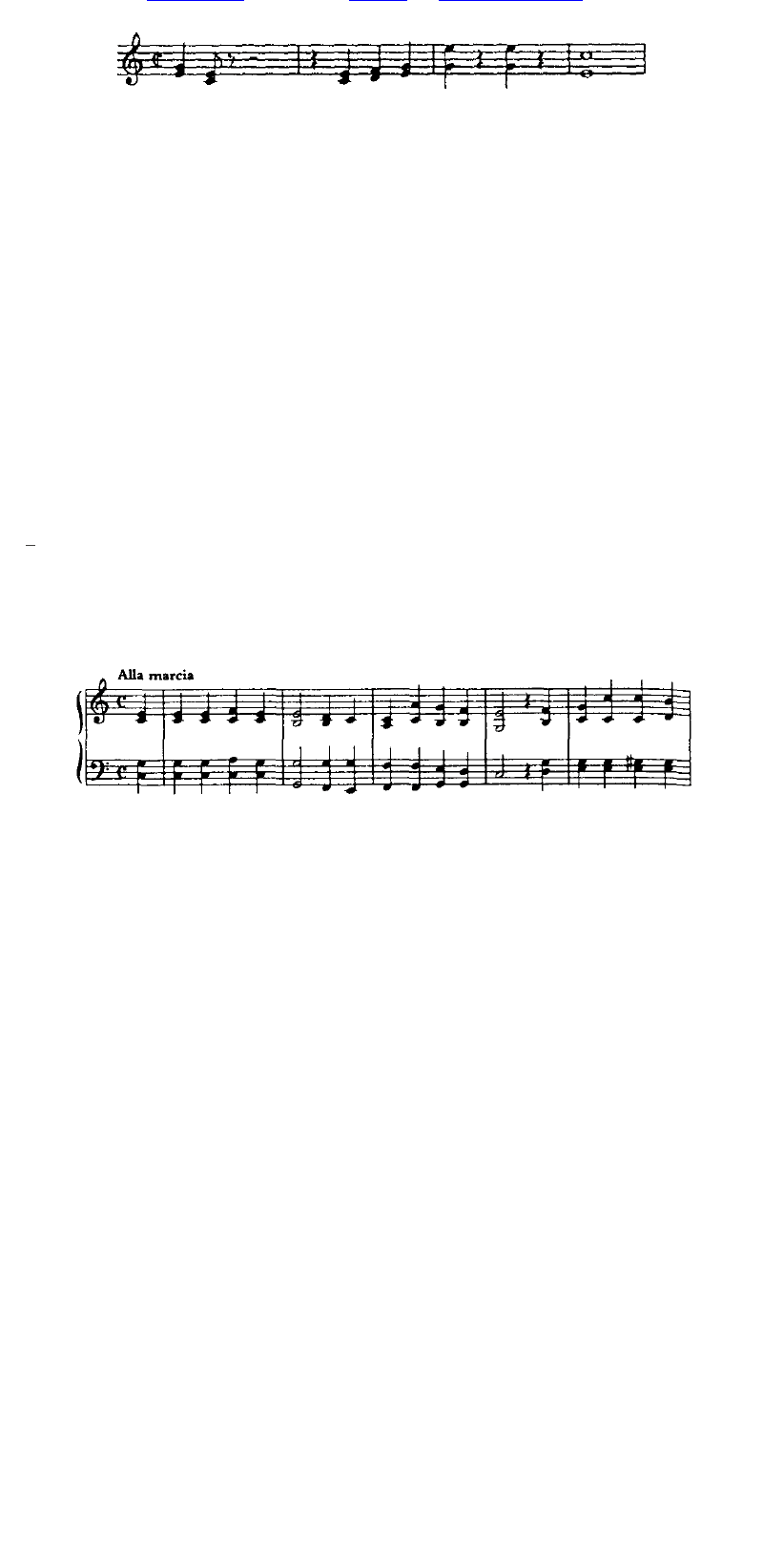
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
615
У Гитлера только одно яичко.
У Геринга — два, но уж очень маленькие,
У Гимлера, видимо, то же самое,
А у Геббельса их нет вовсе.
Дело в том, что когда 20 лет спустя советские власти разрешили опубликовать якобы
доклад о вскрытии тела бывшего фюрера, там сообщалось, что «левое яичко отсутствует».
Доклад, впрочем, кажется фальшивкой КГБ и не подтверждается другими свидетелями. Но
некоторые историки отнеслись к нему серьезно. Поскольку же врождённый monorchidism
встречается редко, они пришли к выводу, что должно быть, Гитлер сам себя изувечил,
оскопив. Даже открытие архивов КГБ в 1990-е годы не прояснило этой тайны.
Однако здесь нельзя ограничиться только физическими свидетельствами. Множество
аспектов поведения Гитлера заставляют думать, что за его притворно-скромным видом
скрывалось что-то отвратительное и отталкивающее. Он не допускал в своем присутствии ни
малейшего намека на вопросы секса. Он страшно боялся инцеста. Он проявлял отвращение
к «грязи» во всех ее видах. Хотя эти свидетельства могут быть истолкованы двояко: его
сексуальная жизнь или была совершенно сублимирована, или омерзительно извращена.
На всех стадиях блестящие начинания Гитлера парализовались всепроникающим
ощущением неудачи. И он все вре-
мя заигрывал с самоубийством. В своей любви к политическим представлениям он
доходил до псевдо-религиозных пародий на католицизм. Но главное, ему все время хотелось
сказать, что история, германская нация, Бог или что-то еще — обнаружили, что он wurdig
(стоящий). Можно сделать вывод, что котел ненависти к себе, который в нем постоянно
кипел, выплескивался наружу, и эту ненависть он направлял на евреев, славян,
коммунистов, гомосексуалистов, цыган и, наконец, на самою Германию.
Излишне говорить, что насмешка над собой лечит лучше, чем самовосхваление. В
Первую мировую войну англичане маршировали под другой изумительный припев, который
720 TENEBRAE
распевали на мотив траурной мелодии гимна Ледяные горы Гренландии:
Мы — армия Фреда Карно,
1
разболтанная пехота.
Мы не можем воевать, мы не можем стрелять;
Никакой, к черту, от нас пользы.
И когда мы придем в Берлин, кайзер скажет:
Hoch! Hoch! Mein Gott!
Что, черт побери, за кошмарная толпа эта
Английская пехота!
1
Фред Карно был владельцем популярного цирка того времени.
здним искусством поп-звезд, чьи псевдогипнотические выступления возбуждают
массовую истерию. Эмоциональная насыщенность его речей как-то утоляла горькие чувства
униженной нации. Он играл на страхах людей, разглагольствовал об угрозе «еврейско-
большевистского заговора» и «ударе в спину», который нанесли союзники. Его
единственная попытка захватить власть потерпела полное фиаско. «Пивной путч» в ноябре
1923 г. научил его придерживаться «легальных методов» — то есть массовых митингов,
выборных процедур и политического шантажа. Благодаря судебному процессу над ним, где
он выразительно поносил судей, он превратился в национальную фигуру; два года в тюрьме
Ландсберг дали ему возможность написать довольно хаотичные мемуары «Майн Кампф»
(1925-1926), ставшие бестселлером. «Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer» («Народ, Империя,
Вождь», или — другой возможный перевод — «Единый народ, единая империя, один
вождь») — именно это хотели услышать немцы. Он обещал снова сделать Германию
великой и построить Третий рейх, который простоит тысячу лет. Если быть точным, он
поддерживал в Третьем рейхе жизнь 12 лет и 3 месяца. «В большой лжи, — писал он, —
всегда есть некая сила достоверности».
В личной жизни Гитлер оставался замкнутым человеком и не женился буквально до
последних часов своей жизни. Он любил животных и детей и держал дома простую,
непритязательную любовницу. В противоположность своим соратникам, многие из которых
были чванливыми мужланами, он был хорошо воспитан и вежлив. Никогда он лично не
участвовал в насилии, хотя именно он отдавал недокументированные приказы проводить
геноцид. Но сердце его было полно
ненависти. Он, бывало, цитировал Фридриха II, чей портрет до конца оставался в его
кабинете: «Теперь, когда я узнал людей, я предпочитаю собак»
40
. Его страстью была
архитектура. В 1920-е гг. он строит себе изумительное горное шале Бергхоф, высившееся на
одной из вершин у Берхтесгадена. Позднее он занимал себя грандиозными планами

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
616
воссоздать из руин Берлин или превратить его родной город Линц в культурный центр
Европы. Западные комментаторы сделали из Гитлера «злого гения»: «зло» сомнений не
вызывает, но трудно считать его «гением». [ЗЛОЙ ДУХ]
Как только Гитлер пришел к власти, он начал расправляться с соперниками и
оппонентами. Ради собственного успеха ему пришлось разгромить социалистическое крыло
НСДАП, имевшее большую поддержку у населения и призывавшее ко «второй,
социалистической революции». В ночь на 30 июня 1934 г., известной в истории как «ночь
длинных ножей», он созвал новую элиту партии — гвардию СС, «чернорубашечников»,
чтобы расправиться с прежними партийными штурмовыми отрядами —
«коричневорубашечниками» CA. Одним ударом были убиты все непосредственные
соперники фюрера — Эрнст Рём, лидер CA, Грегор Штрассер, ведущий социалист партии,
генерал фон Шлейхер, главный союзник нацистов в парламенте. В 1933 г. он запрещает
Коммунистическую партию Германии, а потом распускает все другие партии. Заняв место
Гинденбурга в качестве главнокомандующего, он завоевывает на свою сторону армию и
продолжает дальше освобождаться от ненадежных элементов.
У Гитлера не было какого-нибудь грандиозного плана в экономике. В конце концов,
Германия не нуждалась, как Россия, в модернизации. Но
Затмение в Европе, 1914-1945 721
вскоре у него развивается склонность к коллективистской экономике, и д-р Ялмар Шахт,
президент Рейхсбанка, предлагает ему готовый план. Поддерживавшие ero с самого начала
промышленники требовали действий, и он понял, что действия приведут к росту доверия и
занятости. План Шахта соединял финансовый менеджмент по Кейнсу с государственным
управлением промышленностью и сельским хозяйством; профсоюзы были заменены
нацистским Трудовым фронтом, забастовки запрещены законом. Этот «новый курс», как и
его американский собрат, был направлен на обеспечение полной занятости и полного
производства посредством финансируемой государством созидательной программы.
Крупнейшие проекты включали постройку системы скоростных автомагистралей (1933-
1934 гг.), запуск в производство «народного автомобиля» фольксваген (1938 г.), но, главное,
перевооружение.
Отношения между нацизмом и немецкой промышленностью — это самый спорный
вопрос. Обычно принято считать установленным (и это особенно нравится
коммунистическим ученым) «примат экономики». Если следовать этому взгляду, то
интересы большого бизнеса предопределяли не только краткосрочную политику,
направленную на уничтожение немецких левых, но и долгосрочную политику. Экспансия
Германии на восток тогда интерпретируется в свете требований немецкой
промышленности: сырье, нефть и дешевая рабочая сила. Противоположная точка зрения
исходит из «примата политики». Согласно ей, Гитлер вскоре отбросил покровительство
промышленников и стал развивать государственный сектор в противовес частному. И
введение (с 1936 г.) четырехлетнего плана, смещение главного советника по экономике
Шахта и экспансия государственной сталелитейной корпорации «Райхверк Герман Геринг»,
— все указывает на движение в этом направлении. Компромиссная интерпретация состоит в
утверждении, что развивается «множественный центр власти», СОСТОЯЩИЙ из НСДАП,
армии и промышленности
41
. Перевооружение было важно также психологически и
политически. Немецкий сектор вооружения, который сдерживался искусственно, смог
восстановиться очень быстро; с 1933 г. начали непомерно расти предприятия Круппа.
Причем перевооружение также лечило уязвленную немец-
кую гордость и завоевывало на свою сторону армию, которая в 1935-1936 гг. сумела
вновь ввести призыв на военную службу. У Гитлера не было определенных планов как
использовать свои перевооруженные силы. Но было удобно демонстрировать всем, что
пистолет под его плащом заряжен.
Сельское хозяйство нацистов не интересовало. В начале они вышли с планом
организации кооперативов. Но главные усилия были направлены на то, чтобы
гарантировать стабильность цен и таким образом защитить фермеров.
Идеология нацистов, мягко говоря, была не очень-то изобретательной. В отличие от
Сталина, у Гитлера не было партийного наследства, которое он мог бы подгонять под свои
цели. Его первая и единственная работа «Майн Кампф» (1925 г.), которая со временем
появилась практически в каждой немецкой семье, содержала всего лишь две-три
последовательные идеи, да и те не оригинальные. Гораздо важнее проследить цепь
аргументов, которые привели от предположения о наличии «Herrenvolk», то есть «расы
господ», к заявлению о правах немцев на Lebensraüm, то есть на «жизненное пространство»
на Востоке.
Гитлер принимал за доказанное иерархию наций. Он делил народы на «основателей
культуры», «носителей культуры» и «разрушителей культуры». «Носителями культурного
развития человечества» на тогдашний день для него были «арийцы». «Главный противник
арийца — еврей». Евреи рассматривались как Todfeind, то есть «смертельный враг». Он не
позаботился дать определение «арийца» или установить иерархию наций внутри самой
арийской расы. Глава, посвященная этому вопросу в его книге, начинается с замечания, что
некоторые вещи так очевидны, что не нуждаются в объяснении
42
. Гитлер также верил в

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
617
железную логику «расовой чистоты». «В каждом случае, когда арийская кровь смешивается
с кровью более низких людей, — замечает он, — в результате исчезает великий культурный
народ». «Все великие культуры прошлого исчезли... из-за смешения кровей»
43
. Гитлер
считал, что здоровье нации зависит от качества его национальной территории. «Только
достаточно большое пространство на земле обеспечивает свободу существования нации».
«Внешняя политика народного государства должна... создать здоровое соот-
722 TENEBRAE
ношение между населением нации и количеством и качеством его территории»
44
.
Поскольку у соседей Германии территории было уже в избытке — или в колониях, или,
как у России, через завоевание степей — Германия могла рассчитывать только на захват
прилегающих к ней с востока территорий. «Мы остановим движение Германии на юг и на
запад и обратим наши взгляды на восточные земли»
45
. Германская экспансия в Польшу и на
Украину дала бы ей силу не только сражаться с Россией, но и сдерживать Францию —
другого смертельного врага Германии. Гитлер верил, что Германия в самом невыгодном
положении вела борьбу за свое существование. «Германия — не мировая держава, —
жалобно стонал он. — Германия или станет мировой державой, или Германии не будет»
46
.
Откровенный расизм выступал в сочетании с некоторым коллективистским убеждением,
которое часто туманно обозначали как «стадный инстинкт», но у которого отчетливо
заметны марксистские обертоны. О своем долге перед марксизмом довоенной СДП, Гитлер
однажды сказал:
«Мне пришлось просто логически развить то, в чем социал-демократия потерпела
поражение... Национал-социализм — вот чем мог бы стать марксизм, если бы разорвал свои
абсурдные связи с демократическим порядком... Зачем нам социализировать банки и
фабрики? Мы социализируем людей»
47
.
Недавние исследования показали, что в молодости Гитлер читал марксистские работы и
на него оказали большое воздействия массовые политические шествия австрийских социал-
демократов, размахивавших флагами
48
. Возможно, он впитал больше, чем осознавал:
нацисты не были сильны в интеллектуальной области, но их умолчания не означают, что
примитивный социализм был за рамками их горизонта. Именно нацисты ввели Первое мая
как национальный праздник немецких рабочих.
Политика нацистов была претворением в жизнь этих немногих и сомнительных идей.
Расизм и национализм Гитлера немедленно породили антисемитские действия. Евреи были
изгнаны с государственных должностей и лишены германского гражданства, еврейских
торговцев и коммерсантов официально бойкотировали, брак и любовные связи между
евреями и неевреями были запрещены.
Все эти меры были откровенно оформлены в Нюрнбергских законах 1935 года. С самого
начала нацисты выступали за эвтаназию (убийство) душевнобольных и людей с
генетическими пороками, одновременно поощрялась многодетность героических немецких
матерей. В социальном плане нацисты презирали все существующие иерархии:
аристократию, офицерский корпус, организации свободных профессий. Ряды нацистской
партии государства были открыты для всякого, кто был готов служить без страха и
сомнений. Должности заполнялись выдвинувшимися в каждом немецком городе и деревне
самыми вульгарными, неквалифицированными и наглыми элементами. Их идолом был
неудавшийся фермер Генрих Гиммлер, стоявший во главе СС, а также бывший пилот
толстый рейхсмаршал Герман Геринг, который больше не умещался в кабину пилота
49
. И в
этом фашистская Германия сильно напоминала преуспевавшую сталинскую бюрократию в
СССР.
У нацизма, как и у сталинизма, было в действии множество фикций. Нацистская
пропаганда часто оперировала странными понятиями: Гитлер был новым Фридрихом или
новым Бисмарком; сами нацисты были наследниками германских богов или тевтонских
рыцарей; Третий рейх был прямым наследником Священной Римской империи или
Гогенцоллернов. Немецкий народ, свободный и единый, бесконечно любил свою родину,
бесконечно желал учиться и предаваться искусствам, безмерно гордился раскрепощением
женщин, как не знал границ и в своем гневе на предателей и врагов... Все это было очень
знакомо. Культ личности Гитлера был беспредельным: фюрер был воплощением всего
прекрасного, мудрого и доброго.
Нацисты были в основном неверующими (сам Гитлер был в прошлом католиком). Их
ритуалы, скорее, пародируют древнегерманское язычество, чем имеют какое-нибудь
отношение хоть к одной современной религии. В связи с этим перед ними стояла трудная
задача, поскольку германская нация все еще оставалась по преимуществу христианской.
Очень часто они игнорировали теоретические вопросы. Но для того, чтобы умиротворить
католиков, Гитлер подписал в июле 1933 г. Конкордат с Ватиканом, подтвердив автономию
немецкой Церкви в обмен на отказ иерархов вмешиваться в политику. Этот компромисс
побудил
Затмение в Европе, 1914-1945 723
некоторых католических прелатов вроде австрийского кардинала Иннитцера высказать
свою симпатию целям нацистов. Тем не менее он не помешал Ватикану издать

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
618
распоряжение о чтении по всем немецким церквам энциклики папы Пия XI Mit brennender
Sorge ("С искренней заботой", 1937 г.), где отвергалась и разоблачалась идеология нацизма.
Чтобы справиться с протестантами, Гитлер объявил о создании в 1935 г. Союза
Протестантских церквей под контролем государства. Делалась также попытка основать для
«немецких христиан» под руководством Рейхсепископа доктора Мюллера новое движение,
в котором свастика обнимала крест. В ноябре 1 933 г. этот псведо-христианский нацистский
суррогат устроил в Берлине демонстрацию в честь «Христа-героя». В конце концов,
религии и неверию пришлось сосуществовать, как уж они могли.
В деле принуждения и террора нацисты были прилежными учениками. Их
коричневорубашечники и чернорубашечники хорошо владели искусством обмана, шантажа
и бандитизма. С другой стороны, в качестве лидеров немецкого Rechtsstaat (правового
государства), они не имели за собой традиции 500 лет опричнины, как жители Московского
царства. Структуры общественного контроля не были такими совершенными, как в СССР.
Здесь не было также государственной монополии на трудовую занятость, не было
коллективизированного сельского хозяйства, до 1944 г. не было партийных ячеек и
комиссаров в Вермахте. Все это до некоторой степени объясняет особый нацистский стиль,
где намеренная звериная жестокость должна была восполнять структурные недостатки.
Широко разрекламированная жестокость требовалась просто потому, что часто не было
иного, более хитрого инструмента контроля.
Органы безопасности Рейха никогда не принимали таких чудовищных размеров, как
советские. И партийная гвардия {Schutz staffein), и гестапо (тайная государственная
полиция) использовались партией в дополнение к существующим войскам и полиции. Но из
них никто не был наделен такого размаха полномочиями, как НКВД. Один концлагерь был
открыт в Дахау около Мюнхена в 1934 г., но количество заключенных уменьшилось в конце
1930-х годов. Управляемые нацистами Народные суды и народные судьи постепенно брали
на себя работу традиционного судопроизводства. Но все-
общий террор не был нормой. В самой Германии насилие нацистов оставалось в рамках
предсказуемого. Немцы, которые смогли приспособиться, могли надеяться выжить. Около
500 ООО немецких евреев подверглись преследованиям и были высланы. Kristallnacht
(«Хрустальная ночь») 1938 года, когда были разрушены синагоги и еврейские магазины,
резко изменила ощущения и породила самые мрачные предчувствия. Но тогда вовсе не
казалось, что впереди было еще «окончательное решение». До начала войны у Рейха не
было условий и современной технологии умерщвления, которые они применяли в
последующем. Остается открытым вопрос, насколько нацисты копировали советскую
машину террора, которая была и старше, и мощнее, чем у них.
Политологи очень беспокоятся по поводу теоретической классификации нацизма.
Некоторые, вслед за Ханной Арендт считают, что нацизм был из семьи тоталитарных
режимов; другие, такие, как Нольте, считают его одним из «трех лиц фашизма». Наконец,
есть такие, кто предпочитает считать его движением sui generis (единственным в своем
роде)
50
. Он был или одним из указанных, или не одним из них, или всеми сразу — в
зависимости от исходных понятий исследователя. Прошло уже почти 50 лет после
«грехопадения» последнего нациста, но многие еще находятся под сильным влиянием
личной вражды, политических предубеждений или синдрома победителя. Достаточно
сказать (если позволительны личные мнения), что нацизм был самым отталкивающим
движением новейшего времени. Идеалы его утопии были столь же безобразны, как и реалии
его Рейха.
Европа, подорванная кризисом, была не готова ответить на вызов Сталина или Гитлера.
Западные державы были заняты собственными делами. США не участвовали в делах
Европы. Государства Восточной и Центральной Европы были слабы и разделены. И именно
в то время, когда начали обсуждать идею коллективной безопасности, внимание Европы
было отвлечено гражданской войной в Испании.
Великобритания по окончании Великой войны занялась заботами своего острова и своей
империи. Кризисов хватало: в Ирландии, в Индии, в Палестине. Несмотря на то что было
сформировано подряд два лейбористских правительства, про-
724 TENEBRAE
блемы с рабочими в стране только умножались. Всеобщая забастовка в мае 1926 г.,
начало выпуска коммунистической «Daily Worker» ("Дейли Уокер") (1930 г.), исключение
лейбористской партией своего собственного лидера Рэмсея Мак-Дональда за формирование
Национального [коалиционного] правительства (19З1 г.) и создание сэром Освальдом
Мосли Британского союза фашистов (1932 г.) — все эти события происходили на фоне
роста безработицы до 3 млн. В 1935 г было избрано консервативное правительство во главе
сначала со Стэнли Болдуином, а затем Невилом Чемберленом, поскольку консерваторы
обещали стабильность и эффективное управление. И вплоть до Мюнхенского кризиса
головной болью правительства была любовная связь молодого короля с разведенной
американкой и последующее отречение. Тем временем происходили значительные
изменения в обществе, совершались технические прорывы: было основано ВВС (1922 г.),
положено начало планированию семьи (1922 г.), женщинам предоставляется избирательное
право без ограничений (1928 г.), появляются книги в бумажной обложке (1935 г.);

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
619
изобретают телевидение (1926 г.), пенициллин (1928 г.), и реактивный двигатель (1937 г.).
Поколение англичан, достигших зрелости после Великой войны, считали, что они уже
пережили достаточно; последнее, о чем им хотелось беспокоиться, были тучи на
континенте.
Континентальная Франция не могла спрятаться на острове. В 1920-е гг. приоритетом
французской политики становится обеспечение безопасности, отчасти проведением твердой
линии во взаимоотношениях с Германией, отчасти созданием «Малой Антанты» на Востоке
(см. ниже). Но затем приоритеты меняются. 1930-е гг. были периодом расцвета
французского Алжира и Французского Сайгона, и это в то время, когда в самой Франции
кризис превращает занятость в главный вопрос. Эдуард Даладье (1884-1970), радикальный
социалист, дважды был премьером во время, когда менявшиеся правительственные
коалиции и нашумевшее дело еврейского афериста Ставиского (1934 г.) породили всеобщее
разочарование. Политические взгляды поляризовались, и Коммунистическая партия
Франции была столь же громкоголосой, как и фашистское Французское действие (Action
Française). Привычный стереотип якобы
неизменности взглядов французов в полной мере подходит к личности Андре Мажино,
военного министра в 1929-1932 гг., создателя громадной линии укреплений вдоль
восточной границы Франции. Но это представление не вполне справедливо. Неправда, что
французская армия не хотела сражаться, как позднее заявляли англичане, но в отсутствие
сколько-нибудь значительных британских сил Франции просто не очень нравилась идея
сражаться с немцами в одиночку; кроме того, она была связана организационными схемами,
мешавшими быстрым наступательным действиям.
Скандинавским странам в 1930-е годы повезло: она находилась вне сферы
стратегической напряженности. Рецессия нанесла тяжелый удар шведской торговле
железом, но при социал-демократах она отреагировала на это созданием самой большой в
мире системы социального обеспечения. [SOCIALIS]
Напротив, Восточно-Центральная Европа находилась в самом центре надвигавшейся
грозы. Имея с одной стороны Гитлера, с другой — Сталина, лидеры расположенных здесь
государств, конечно, не могли быть спокойны. В системе безопасности, созданной
Францией в 1920-е годы, было несколько серьезных просчетов. Принцип «санитарного
кордона», то есть пояса государств, сдерживавших Советскую Россию, не проводился
сколько-нибудь последовательно. Малая Антанта, объединившая Чехословакию, Румынию
и Югославию для сдерживания поднимавшейся Венгрии, не включила Польшу — самую
большую страну этого региона; в 1934 г. ее дополняет независимый пакт балканских стран:
Румынии, Югославии, Греции и Турции.
У западных стран была плохая репутация: они не умели принимать решения. Когда в
1920 г. Красная армия наступала на Варшаву, они отправляют целый рой военных миссий,
но никаких военных подкреплений. В 1934 г., когда маршал Пилсудский зондировал почву
в Париже на предмет превентивной войны против нацистской Германии, он не добился
никакого ответа. Западные государства так никогда и не смогли решить, основывать ли
свою политику в Восточной Европе на реалиях новых государств вроде Польши или на
казавшиеся им более привлекательной постбольшевистской России (которая так никогда и
не появилась). С 1935 г., когда страх перед Гитлером
Затмение в Европе, 1914-1945 725
пересилил неприязнь к Сталину, они обратились к гиене, чтобы укротить волка.
В Восточно-Центральной Европе международный кризис 1930-х гг. отразился, конечно,
и на внутреннем положении. Коммунистические партии в основном, нелегальные, не имели
большой поддержки, кроме как в Чехословакии, но были существенным раздражителем,
провоцируя националистические элементы. Гитлер, когда он не подстрекал
непосредственно немецкие меньшинства в Польше, Чехословакии и Румынии, побуждал
другие националистические элементы подражать ему. В результате диктаторские режимы
укреплялись, военные бюджеты непомерно росли, политическая роль военной верхушки
увеличивалась. Процветал национализм и усугублялись всякого рода этнические
конфликты.
В Польше, например, близость Сталина и Гитлера ощущалась повсюду. Маршал
Пилсудский, подписавший пакт о ненападении с СССР в 1932 г. и с Германией в 1934 г.,
стремился занять взвешенную позицию, как это отразилось в его «доктрине двух врагов».
Польская коммунистическая партия, выступавшая против независимости Польши в 1918-
1920 гг., приобрела интернационалистский и троцкистский уклон. Находящаяся в изгнании
верхушка этой партии (главным образом, евреи) была ликвидирована en masse (полностью)
во время сталинских чисток. На противоположном конце политического спектра от
национально-демократического движения отпочковалась фашистская поросль, Фаланга,
которая также была запрещена. Военизированные националистические организации
возникали в каждом национальном меньшинстве. Организация украинских националистов
(ОУН) — радикальное ответвление бывшего УВО (Украинская военная организация) —
занялась обычным терроризмом и провоцировала жестокие подавления крестьян. В
еврейской среде быстро развивался сионизм. Там из рядов сионистско-ревизионистских
группировок вроде Бетар выходили непреклонные борцы, такие, как Менахем Бегин или

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.
620
Ицхак Шамир, которым еще предстояло просиять в другом месте. Среди немецкого
меньшинства была организована нацистская пятая колонна. Деятельность всех этих групп
подливала масла в пожар взаимной ненависти и вражды. После смерти Пилсудского в 1935
г. так называемое правительство полков-
ников постаралось взять под контроль центробежные силы, создав Лагерь
национального единства (OZON). Однако основные партии оппозиции объединились
против них. Генерал Сикорский присоединился к проживавшему в Швейцарии И.
Падеревскому, создавая антиправительственный «Фронт Морже». Приоритет отдавался
запоздалой военной реформе, а в области государственной экономики — перевооружению.
Министр иностранных дел полковник Йозеф Бек пошел взвешенным курсом, чем очень
разгневал западные государства, хотевшие, чтобы он сотрудничал со Сталиным. В
отношении своих меньших соседей, он выступал, однако, как националист. Он положил
глаз на район Заолжья (силой захваченный чехами в 1919 г.), а в начале 1939 г. посылает
резкий ультиматум Литве, требуя прекратить необъявленную войну. Собственно случаи
насилия были пока немногочисленны, но угроза насилия разлилась повсюду.
Община польских евреев — все еще самая большая в Европе — доживала последнее
лето. В конце 1930-х гг. уже появились тяжелые предчувствия, особенно по мере того, как
прибывали волнами бежавшие и изгнанные из Германии евреи. Множились различные
мелкие притеснения: в образовании, в муниципальном законодательстве и приеме на
работу, но ничего подобного неистовой ярости нацистов, не было и в помине. Всякий, кто
видел фотографии и документы того времени, мог составить себе представление об
энергичной и разнообразной жизни общины. Еврейские кагалы пользовались полной
автономией. Свободно действовали еврейские партии самых разных оттенков. Были евреи-
звезды кино, боксеры-профессионалы, еврейки-члены парламента, евреи-миллионеры.
Можно сказать (как это часто и делают), что польское еврейство было «на краю гибели»; но
говорить так — значит рассматривать исторические события в обратной перспективе
51
.
Мнение о Чехословакии как о демократической стране было сильнее за границей, чем
среди собственных немецкого, словацкого, венгерского, польского и рутенского
меньшинств. Но этот регион, в отличие от многих других, был высоко
индустриализованным, здесь существовало реальное коммунистическое движение и здесь
моральную поддержку искали у России. Во время долгого президентства великого Томаша
Масарика, кото-
726 TENEBRAE
рый ушел на покой в 1935 г., Чехословакия оставалась сплоченной.
«Королевство сербов, хорватов и словенцев» стало называться в 1929 г. королевством
Югославия и не имело ни общей истории, ни общего языка, ни общей религии. Оно
появилось по инициативе словенцев и хорватов из Австро-Венгрии. Словенцы и хорваты
побуждали сербский истеблишмент принять их, а потом сами стали возмущаться засильем
сербов. Сербская монархия и армия играли в стране центральную роль, особенно после
установления единоличной королевской диктатуры в 1929 г. В католической Хорватии
национальная партия Стефана Радича определенно брала верх в местных делах, что было
невозможно при венгерском правлении, но ее голос был заблокирован в Белграде. Словения
тихо процветала под руководством священника, отца Корошца, основателя Югославского
Национального совета. Македония бурлила. Общий климат насилия еще больше усилился в
связи с убийством Радича (1929 г.), а потом — короля Александра (1934 г.).
Демократическая сербская оппозиция начала действовать сообща с хорватами. Но время
поджимало: «Югославия — это необходимость, — писал один наблюдатель, — а не
обдуманное гармоническое образование»
52
.
На Средиземном море шторм надвигался главным образом со стороны фашистской
Италии. Муссолини, который любил говорить в древнеримском стиле о «Маre Nostro»
(«нашем море»), всерьез намеревался заполучить власть над регионом. Устранив активную
оппозицию, которая вышла из парламента после убийства депутата-социалиста, он развязал
себе руки. Его планам способствовал уступчивый король и управляемые «по эшелонам»
органы хорошо налаженной машины «корпоративного государства». В 1930-е гг. он
устремляется дальше: итальянские войска были посланы в Абиссинию, Испанию, а в марте
1939 г. — в Албанию. Лига Наций рекомендовала санкции, британцы и французы угрожали
ответными мерами, но на деле ничего не было предпринято, чтобы ero остановить.
Муссолини с успехом искушал Австрию Южным Тиролем. До «Стального пакта» (22 мая
1939 г.) и последовавшей оси Рим-Берлин ему нравилось хвастать своей независимостью от
Германии.
В Испании гнойник гражданской войны вызревал по крайней мере 20 лет. Испанцам
особенно не повезло в том, что они развязали гражданскую войну именно тогда, когда
коммунистическо-фашистское соперничество подошло по всей Европе к своей высшей
точке. В результате военный мятеж 1936 года привлек внимание и Гитлера, и Сталина.
Испания превратилась в лабораторию для испытания самых отвратительных политических
приемов Европы. Три года агонии завершились решительным поражением демократии.
Корни этого конфликта лежали глубоко в бурной истории Испании, в поляризации ее
общества и в трудноразрешимой земельной проблеме. Больше половины земли в Испании
