Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


(публицистики?), «важные недостатки нашей гражданственности, несознание Росси-
ею своего славянского призвания».
Далее В. Ламанский мечтает о принятии русского языка общим письменным языком
всех славян — и тогда славяне будут уравнены с немцами и итальянцами! — и о
создании общего литературного «органа» (журнала?)
18
.
Следующим этапом в развитии идей ученого и публициста можно считать его
докторскую диссертацию «Об историческом изучении греко-славянского мира в Евро-
пе» (1870), создававшуюся параллельно с книгой Н. Данилевского «Россия и Европа»
(начала печататься в журнале «Заря» в 1869 году), — оба эти труда явились введением
в панславизм 70-х годов. Характерно, что И. Аксаков, избежавший панславистского
уклона, который начинал увлекать русских участников славянских съездов 1867 и
1868 годов, в 1870 году приветствовал книгу Н. Данилевского
19
. Так замкнулся круг.
Дославянофильский Хомяков начал было выражать идеи панславизма руси-
фикаторского толка, дальнейшее относительно критическое отношение славянофилов
к правительству почти полностью выветрило эти принципы, а с 60-х годов про-
должатели старших славянофилов постепенно стали возвращаться к панславизму и
русификации, чтобы в 70-х годах окончательно быть ими поглощенными.
18
Отечественные записки. 1864, № 12. С. 601, 602.
19
См.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. С. 230—231.
Б. Ф. Егоров РУССКИЕ КРУЖКИ
Еще Аристотель сказал: «Человек — общественное животное». Издревле людям
свойственно объединяться: семья, род, племя, нация, государство... Но в связи с со-
циальной и личной дифференциацией в последующие времена (классы и сословия,
пространственные, идеологические, конфессиональные, профессиональные группы)
создавались более дробные общества. Этот двойственный процесс соединения и
распада чуть ли не с самого начала был направленным в обе стороны: раздробленные
части могли снова сливаться и т. д. Но чем сильнее расщеплялись человеческие
объединения на узкие группы, тем они более четко отграничивали себя от остальных
социумов.
Христианский мир еще в средневековье создал четыре типа таких братств: в
религиозном плане — монастыри, в светском — профессиональные ремесленные
цехи, купеческие гильдии, университеты. С развитием военной сферы возникают и там
относительно замкнутые группы (гвардейский или армейский полк).
Прорисовываются и закрепляются пространственные границы (особенно четко это
проявлялось в монастырях), вырабатываются писаные и неписаные законы и обычаи;
на шкале ценностей особенно высоко ставятся спаянность, верность коллективу и его
идеалам. С соседними обществами могли расти конфликты, даже вражда-ревность: ср.
старое соперничество Оксфордского и Кембриджского университетов в Англии.
Чем более усложнялась жизнь Нового времени, тем больше появлялось относительно
явно отграничивающих себя от остального мира обществ: колледжи и лицеи, все виды
высших учебных заведений, сословные и профессиональные клубы, театральные
коллективы. Конечно, здесь была разная степень замкнутости, в некоторых объ-
единениях, например в профессиональных, особенно — спортивных клубах,
«текучесть» кадров оказывалась достаточно большой.
505
Достаточно большой сменяемость участников была и в салонах, сложных по
разнообразию интересов — от политики до философии и искусства, — группах,
объединившихся вокруг хозяйки дома: зародыши салонного быта можно найти у
античных гетер, наибольшую известность приобрели парижские салоны XVI—XVIII
веков, а в России они распространились в XIX веке: салоны великой княгини Елены
Павловны, кн. 3. А. Волконской, А. П. Елагиной, А. О. Смирновой (Россет), гр. Е. П.

Ростопчиной; в мужском варианте хозяев более принято было называть салоны
«вечерами»: у кн. В. Ф. Одоевского, В. А. Жуковского, С. Т. Аксакова, П. Я. Чаадаева и
др. Во второй половине XIX века дворянские салоны и вечера почти не функционировали,
их сменили «разночинские» профессиональные объединения: собрания у редакторов
видных журналов и газет (например, у Н. А. Некрасова, М. Н. Каткова), вечера у ведущих
деятелей театральных трупп (например, у В. И. Качалова).
Естественно, даже при относительном постоянстве членов и посетителей выше
перечирленных обществ большое число участников лишало их возможности находиться в
теплых, дружественных отношениях каждого с каждым. Более спаянными выглядели
идеологические группы, особенно когда их скрепляла тайна: масонские организации и
тайные политические объединения. Но и у тех, и у других одной из главных целей было
расширение своего состава, привлечение новых сотрудников, а это, разумеется, тоже
способствовало ослаблению личных отношений: декабристские кружки настолько
расширились и распространились по стране, что многие участники понятия не имели о
своих соратниках, тем более когда над кружками висел пресс секретности.
В любом крупном объединении людей происходит раздробление на мелкие группы еще и
по психологическим (и лишь частично по мировоззренческим) признакам, и тогда между
членами группы возникают дружественные связи. В психолингвистике фигурирует так
называемое число Миллера — семь, на котором обрывается ряд элементов различных
систем (слова, синтаксические связи, операции замен и т. д.), способных без
информационных
506
утрат комплексно и прочно восприниматься нашим мозгом. Возможно, что число
Миллера стоит применить к психологии человеческих отношений: дружеские связи вряд
ли возможны для компаний в десять человек и более, а самые тесные контакты создаются
у двух-трех, максимум пяти-шести человек. Фантастически грандиозные свадьбы и
поминки в патриархальных обществах, собирающие сотни людей, или современные
американские «парти», когда на вечер приглашаются 30—40—50 человек, конечно, не
могут представлять не только индивидуальную дружбу, но и вообще сходство интересов.
Патриархальная Россия при появлении великого сословия интеллигентов главный груз
межличностных связей перенесла из крупных обществ в малые объединения, которые
получили название кружки. Кружки — не специфически русское явление, они сущест-
вовали и в других странах, существуют и поныне (например, группа блестящих
французских математиков, объединившихся под псевдонимом «Бурбаки»). Но нигде они
не приобрели такого массового, количественно громадного характера, как в России.
Тому было несколько причин. Во-первых, в XIX веке как бы встретились элементы
патриархальной соборности, общинности, тяги к другим с достаточно уже развившимся
индивидуальным менталитетом интеллигента (поэтому общение хорошо, но оно должно
быть весьма суженным; сильное развитие личностного сознания у гениев лишало их
вообще «кружкового» чувства в зрелых годах: невозможно представить Гоголя,
Лермонтова, Толстого, Менделеева, Чайковского членами какого-то кружка; В. Набоков
уже шестнадцати-семнадцатилетним удивлялся, как это его соклассники ходят в
литературный кружок, и, несмотря на неоднократные приглашения руководителя,
замечательного педагога Владимира Васильевича Гиппиуса, так и не соблазнился
посетить собрание).
Во-вторых, в русском национальном характере, возможно, тоже в связи со старой
патриархальностью, господствует открытость чувств и мыслей, общительность, испо-
ведальность, но в то же время очень сильно чувство стыдливости, неуютности от обилия
собеседников — это тоже создает склонность к кружку, но очень небольшому по ко-
личеству членов.
507
В-третьих, в русском национальном характере много «женственности», покладистости,
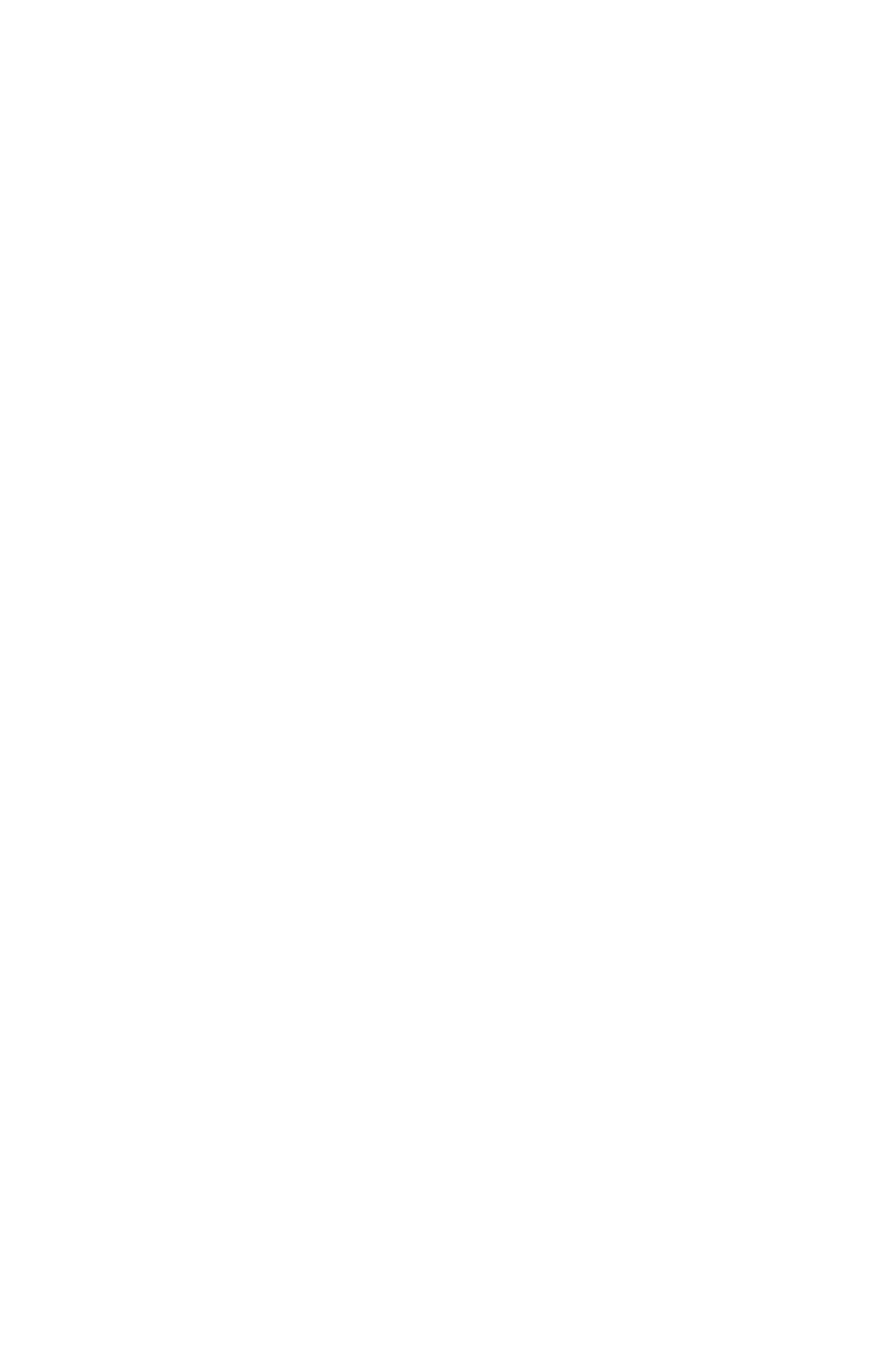
желания быть руководимым, быть «нумером вторым», говоря тургеневским термином
(рассуждения Берсенева в «Дворянском гнезде»). Конечно, были и генетически
врожденные лидеры (Бакунин, Добролюбов, Нечаев, Ленин), которые и создавали кружки,
иногда расширявшиеся до политической партии.
В-четвертых, у русского интеллигента в среднем было меньше прагматики и корысти, чем
у западного специалиста, и больше романтического желания обсуждать все мировые
проблемы, явления мировой культуры, способы преобразования родной страны и т. д.
Поэтому так обильно количество разнообразнейших кружков, рассыпавшихся в XIX веке
по всей России. Некоторые из них были относительно специализированы, участники
интересовались, главным образом, определенным кругом проблем: например, в кружке
московских студентов 1830-х годов, под руководством Н. Станкевича изучали немецкую
философию, а в герценовском кружке — социально-политические учения, но все-таки
большинство русских кружков были универсальными, в них обсуждалось все и вся,
потому они имели весьма отдаленное отношение к практике жизни. Тургенев в «Рудине»
(гл. VI) устами Лежнева рассказывает о типичном кружке московских студентов 1830-х
гг.: «Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит,
чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все
наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и
сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — го-
ворим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!..».
Конечно, подобные всеядность и непрактичность в трезвое пореформенное время второй
половины века вызывали уже негативное отношение. Ядовитый Щедрин так пародировал
содержание произведений о радикальной молодежи в рецензии на роман Д. Мордовцева
«Новые русские люди» (1870):
«Глава 1: «новый человек» сидит в кругу товарищей: бедная обстановка; на столе колбаса,
филипповский калач,
508
стаканы с чаем. «Работать! — вот назначение мыслящего человека на земле!» — говорит
«новый человек», и сам ни с места. «Работать — вот назначение мыслящего человека на
земле!» — отвечают все товарищи, каждый поодиночке, и сами ни с места. Глава II:
бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; «новый че-
ловек» сидит в кругу товарищей. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» —
возглашает «новый человек», и сам опять-таки ни с места. «За труд! за честный и
самостоятельный труд!» — отвечают поодиночке товарищи, и тоже ни с места. И так
далее...» (Салтыков-Щедрин, VIII, 399).
Ясно, что «универсальный» и бесцельно «болтологический» кружок в шестидесятых годах
был романтическим анахронизмом. Уже в сороковых годах заметна сильная
дифференциация по интересам (сочетаемая с психологическим, дружественным
сближением членов), продолжившая разбиение, начавшееся в тридцатых годах: создались
московские кружки славянофилов (А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, К. С.
Аксаков, Ю. Ф. Самарин) и западников (Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, А. И. Герцен,
близкий к ним П. Я. Чаадаев, юный К. Д. Кавелин), западнический кружок В. Г.
Белинского в Петербурге при «Отечественных записках», затем при «Современнике»
(кроме главы — В. П. Боткин, П. В. Анненков, И. С. Тургенев, И. И. Панаев, Н. А.
Некрасов). Было несколько музыкально-литературных кружков, например, у будущего
петрашевца Н. А. Момбелли, собиравшего к себе, главным образом, офицеров
Московского полка и Генерального штаба. Существовали и объединения с относительно
широким диапазоном интересов, например, кружок педагога и переводчика И. И.
Введенского, куда входили педагоги А. П. Милюков и А. А. Чумиков, студенты, будущие
радикальные деятели Г. Е. Благосветлов и Н. Г. Чернышевский и др.
Кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, пропагандиста социально-утопических идей
Ш. Фурье, постепенно расширился до 15—20 человек и приобрел — без всякого желания

законспирироваться — настолько явный общественно-политический оттенок, что нужно
было оставаться утопистом, чтобы надеяться на снисхождение царского
509
правительства, усиливавшего репрессии после европейских революций 1848 года: все
петрашевцы были арестованы и осуждены (кого отправили на каторгу, кого — в
ссылку, кого — в солдаты).
Конечно, непреклонность Петрашевского, продолженная в сибирской ссылке в виде
безумных, донкихотских тяжб с административным начальством, может истолковы-
ваться, подобно всякому донкихотству, как мужество.
Даже отпочковавшийся от петрашевцев кружок С. Ф. Дурова и А. И. Пальма, имевший
вначале музыкально-художественно-литературный характер (в него входили, кроме
организаторов, братья Ф. М. и М. М. Достоевские, А. П. Милюков, А. Н. Плещеев,
братья Е. И. и П. И. Ла-манские), по инициативе петрашевцев П. Н. Филиппова и Н. А.
Спешнева тоже приобрел политическое направление, и все участники также подпали
под следствие над петрашевцами и понесли суровые наказания.
Некоторые социально-политические кружки, как Киевское Кирилло-Мефодиевское
братство (Н. И. Костомаров, Н. И. Гулак, В. М. Белозерский, Т. Г. Шевченко), с самого
начала бывшее подпольным, тоже оказались разгромленными из-за предательства и
доносов.
И лишь отдельные политические кружки сороковых годов (яркий пример — улика на
следствии по делу петрашевцев: в дневнике студента П. Н. Филиппова (1844 г.)
содержались сведения о кружке в Петербургском университете; но Филиппов, назвав
участников, подчеркивал, что речь идет лишь о плане организовать кружок) оказались
не раскрытыми полицией и III отделением; ничего о них не знают и исследователи-
историки. Тайной остаются и все масонские кружки тридцатых-сороковых годов. По-
сле их запрещения Александром I они ушли в глубокое подполье, и мы судим о их
существовании в последующих десятилетиях лишь по художественным произведе-
ниям (роман А. Ф. Писемского «Масоны», 1880) да по отдельным намекам из
биографических материалов: например, Ал. Григорьев, видимо, входил в какую-то
масонскую ложу 1840-х годов; есть сведения, что масонами были русские музыканты
гр. М. Ю. Вьельгорский, кн. В. Ф. Одоевский, А. Г. Рубинштейн.
510
В шестидесятых годах продолжилась дифференциация кружков, причем, как правило,
ведущее место в культурной жизни занимали творческие кружки новаторов,
первооткрывателей в соответствующей области науки, образования, искусства. В
Петербурге получил широкую известность химический кружок будущего народника
профессора А. Н. Энгельгардта, стремившегося внедрить практические занятия в
преподавание химии. Живописцы объединились в «Артель свободных художников»
(И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, А. И. Корзухин, Ф. С. Журавлев), позднее, в 1870
году, расширившуюся в «Товарищество передвижных художественных выставок»;
композиторы (М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А.
Римский-Корсаков) — в группу, получившую от ее идеолога В. В. Стасова название
«Могучая кучка».
Однако больше всего было в шестидесятых годах политических кружков. Это и
понятно: чем более напряженными становились в стране сословные отношения, чем
больше намечалось и осуществлялось государственных реформ, тем более активно и
широко включалась интеллигентная молодежь в работу по социально-политическим
преобразованиям. Но так как преобразования шли чрезвычайно медленно, власти то и
дело откатывали страну в область консервативных контрреформ, и так как легально
нельзя было надеяться массово приступить к осуществлению благородных идеалов
свободы, равенства и братства, идеалов, которыми жила радикальная молодежь, то она

создавала нелегальные кружки, которых больше всего было, естественно, в столице, в
Петербурге, но фактически такие кружки существовали во всех университетских
городах России: в Москве, Казани, Харькове, Киеве, даже в полузаграничном Дерите.
Центральным революционным кружком стало общество «Земля и воля» (во главе —
Н. Н. Обручев, братья Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов, Н. И. Утин), с
центром в Петербурге и с филиальными кружками в Москве, Казани, Саратове; вожди
общества были связаны с Чернышевским и с Герценом—Огаревым. Кроме того,
образовалось немало других революционных объединений, например, московские
кружки П. Г. Заичневского—П. Э. Арги-ропуло и Н. А. Ишутина (член последнего
кружка — Д. В. Каракозов, стрелявший в Александра II).
511
Легальными центрами радикальной идеологии были редакционные кружки Н. Г.
Чернышевского — Н. А. Добролюбова (журнал «Современник») и Д. И. Писарева— В.
А. Зайцева (журнал «Русское слово»).
Революционные идеалы кружковцев, разумеется, требовали решительных действий:
радикалы не хотели ждать, пока естественным путем совершаются нужные преобразо-
вания, и жаждали ускорить ход событий, они торопили историю. Трезвый Герцен в
1869 году начинает свои письма к Бакунину — цикл «К старому товарищу» — с по-
пытки охладить бунтаря: нельзя торопиться; хватит нам прыгать из первого месяца
беременности сразу в девятый, ломая все по дороге; акушер — помощник, но в извест-
ных пределах...
Конечно, это было гласом вопиющего в пустыне. Все равно торопились и
поторапливали историю. И если на заре шестидесятых годов, в студенческом кружке
Н. А. Добролюбова еще обсуждались будущие проблемы (Добролюбов даже написал
проспект социально-политической программы для устройства будущего общества),
если Чернышевский в романе «Что делать?» постоянно обращался к разным
«футурологическим» аспектам, то в практических революционных кружках все
больше и больше забывалось будущее строительство, а подчеркивалось лишь
разрушение старого мира (это, видимо, не было русским своеобразием: текст гимна
«Интернационал» красноречиво говорит об этой разрушительной тенденции; но рус-
ской спецификой оказалась массовость таких идей).
Весьма недвусмысленно отмеченные тенденции просматривались у анархического
Бакунина еще в сороковых годах. Свою знаменитую статью «Реакция в Германии»
(дрезденский журнал «Deutsche Jahrbucher», 1842, N244—251) Бакунин заканчивает
следующим абзацем:
«Дайте нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и
уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно творящий источник всякой жизни.
Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть»
1
.
1
Цит. в переводе с немецкого по кн.: Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин, его жизнь и
деятельность (1814—1876). Ч. 1. М., 1920. С. 96.
512
Но наиболее законченно эти идеи были сформулированы организатором революционных
кружков на переходе к семидесятым годам С. Г. Нечаевым. В первом номере журнала
«Народная расправа» (Женева, 1869; текст создан явно при участии Бакунина) Нечаев
декларирует: «Всенародное восстание замученного Русского люда неминуемо и близко!..
(...) Нам некогда! (...) Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий
(...). А потому мы берем на себя, исключительно, разрушение существующего
общественного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих»
2
.
Нечаев впервые в истории русских кружков сознательно уничтожал дружеские, сердечные
отношения между членами кружка: тоже своего рода разрушение прежних устоев! В
«Катехизисе революционера» он прямо выставляет пользу как единственное мерило во

взаимоотношениях с товарищами. Он считал полезным увеличивать Число пострадавших,
озлобленных, сидевших в тюрьме: с ненавистниками скорее можно совершить рево-
люцию! — и поэтому провокационно рассылал своим знакомым из Женевы в Россию
письма с антиправительственными прокламациями; он не мог не знать о перлюстрациях и
об арестах и допросах адресатов. А убийство И. И. Иванова, соратника по кружку
«Народной расправы», превратило общество в бандитский клан, где господствовали
нравы уголовного мира. К сожалению, дальнейшая судьба русских революционных
кружков, особенно при их расширении и перерастании в политические партии, знает
немало примеров уголовщины, начиная с «экспроприации», насильственных захватов
ценностей, и кончая запланированными убийствами «чужих» и «своих». Одна такая
партия сумела захватить в 1917 году власть в стране и 70 лет терзала ее народ. Фактически
на Нечаеве кончилась нормальная история русских революционных кружков, далее на-
чались болезни и извращения.
Нормальные же кружки сохранялись в мире науки и искусства. Во все более
политизирующемся обществе они даже принципиально отстранялись от политики. Таковы
2
Цит. по кн.: Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. Документальное повествование о С. Г. Нечаеве.
СПб., 1994. С. 99—100.
513
были в начале XX века кружки символистов, акмеистов, «Мира искусств», «Религиозно-
философского общества» и др. Но это — широко, можно даже сказать всемирно из-
вестные объединения, а сколько по Руси было разбросано неведомых кружков! Д. С.
Лихачев начинает свои «Соловецкие записки» с обобщения: «В дореволюционные
времена, а частично еще и до середины 20-х годов, во всех учебных заведениях
существовало множество литературных, философских, философско-религиозных,
краеведческих и прочих кружков, собиравшихся в помещениях школ, институтов,
университета или, если позволяли квартирные условия, то и у преподавателей»
3
.
Тем более важна роль кружков в советское время: это были островки, в которых можно
было сохранить свою духовную самостоятельность, творчески развиваемую в общении с
близкими людьми. Петербургско-одес-ский литератор М. О. Лопатто еще в
предреволюционные годы, .опасаясь будущих гроз, предлагал Мандельштаму, Гумилеву,
Кузмину «уехать и -где-нибудь на счастливом острове создать монастырь поэтов нового
Возрождения»
4
-Многие деятели культуры добровольно или вынужденно уехали из
Советской России, но, увы, им не удалось там найти подобного счастливого острова.
Оставшиеся, если хотели отстраниться и объединиться в кружок единомышленников,
сами создавали такой монастырь на родине. Это были своего рода катакомбы: уходили
туда не только верующие люди.
В двадцатых годах несоветские кружки могли существовать еще относительно легально:
«Серапионовы братья», имажинисты, формалисты, обэриуты... Но начиналось уже
раздражение официальных инстанций. Любопытно, что в «Малой советской
энциклопедии» двадцатых годов нет слова «Кружок», но есть «Кружковщина»:
«склонность к образованию тесных и замкнутых групп внутри большого коллектива или
организации, ведущая к расколу, дезорганизации и к отрыву от масс» (4, 1929, стлб. 387).
Сколько нена-
3
Лихачев Д. Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 15.
4
Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С.
228. Письмо М. О. Лопатто к В. П. Эджертону от 30 января 1972 г.
514
висти заложено в этой формулировке! Разумеется, в первую очередь здесь
подразумеваются разные левые и правые уклоны, с которыми велась политическая борьба,
но в принципе для унитарно-тоталитарного государства любое отъединение «замкнутых
групп» от «большого коллектива» опасно, невыносимо. И начались гонения на кружки и
группы.
Характерно, что даже относительно «советские» объединения: футуристы (ЛЕФ),

конструктивисты, «Перевал» — осыпались бранью за «ошибки» и «уклоны», что уж гово-
рить о несоветских! Члены раннего бахтинского кружка в Невеле (кроме М. М. Бахтина —
философ М. И. Каган, философ и литературовед Л. В. Пумпянский, поэт Б. М. Зуба-кин,
пианистка М. В. Юдина) еще в 1919—1920-х гг. подвергались резкой критике в местной
печати за идеализм и несоветскость.
А уж позднее стало еще страшнее. Д. С. Лихачев рассказывает, как на его глазах
свернулась деятельность интересного кружка:
«На Церковной улице (теперь улица Блохина) в мансарде, на пятом этаже, собирался
кружок Ивана Михайловича Андреевского, носивший полусерьезное название
«Хельфернак», то есть «Художественно-литературно-философско-религиозно-научная
академия». Туда приходили и школьники, и студенты, и профессора университета. Когда я
кончил школу (это был 1923 год), Хельфернак перестал собираться, большая книга, в
которую заносились темы докладов, фамилии докладчиков и всех присутствующих, была
завернута в клеенку и закопана на Крестовском острове Колей Гурьевым. Потом делались
попытки возродить кружок (уж слишком русская интеллигенция любила собираться,
рассуждать и спорить). Два или три собрания прошли под названием «Братство Серафима
Саровского», но на этом дело и кончилось»
5
.
Даже шуточные кружки стали подвергаться репрессиям во второй половине двадцатых
годов: ОГПУ все более яростно расправлялось с «кружковщиной». Д. С. Лихачев, который
теперь может открыто рассказывать о своей
6
Лихачев Д. Статьи ранних лет. Тверь, 1993. С. 16.
515
молодости, оказался на Соловках именно из-за участия в таком кружке:
«Несколько студентов Института гражданских инженеров (В. Т. Раков — мой школьный
друг, Н. Е. Сперанский, А. В. Селиванов, А. С. Тереховко — хороший поэт) и
университета (А. Миханьков, Д. П. Калистов, П. П. Машков, Э. К. Розенберг, мы звали его
Федя, — вольнослушатель), а с осени 1927 года и я стали собираться то в комнате у Э. К.
Розенберга на Зверинской улице, то в квартире у П. П. Машкова на Лицейской улице
(теперь улица Рентгена) и дали себе в шутку название «Космическая Академия наук».
Собрания устраивались раз в неделю. Слушались различные шуточные и экстравагантные
доклады. Каждый из докладчиков старался перещеголять других в остроте выступлений и
точек зрения. Подготовил и я доклад, в котором доказывал (полушуткой, полусерьезно)
преимущества старой орфографии. Следует принять во внимание, что 1927 год и начало
1928 года, когда написан доклад, были временем особенно беспощадного наступления на
Церковь, чем и вызваны некоторые из мЬих заявлений в докладе. Доклад был написан за
несколько дней до нашего ареста (арестовали нас 8 февраля 1928 года).
Печатающиеся тезисы доклада были изъяты у меня при обыске в день ареста и послужили
одним из мотивов осуждения на пять лет заключения в концентрационном лагере на
Соловках»
6
.
«Печатающиеся» потому, что в 1991 г. Дмитрию Сергеевичу выдали в ленинградском КГБ
текст его доклада (прошло 63 года!...), и он включен в цитируемую книгу
7
.
Если бы бахтинский кружок просуществовал до 1927—1928-х годов, то все его члены
отправились бы на Соловки или в другие не столь отдаленные места. Впрочем, почти все
его члены в большей или меньшей степени пострадали потом индивидуально, уже без
«кружковщины». В т^идцатые-сороковые годы, при усилении сталинских репрессий,
легальные, но не санкционированные официально кружки фактически прекратились.
6
Там же. С. 6—7.
7
Там же. С. 8—14.
516
Зато снова возродилось подполье. Мы очень мало знаем о нелегальном религиозном
движении разных конфессий, еще меньше — о политическом подполье. Хорошо, что
замечательный поэт А. В. Жигулин рассказал в документальной повести «Черные
камни» (впервые: «Знамя», 1988, №№ 7, 8) о воронежской послевоенной организации

«Коммунистическая партия молодежи», реально-то — об антикоммунистической
партии... А сколько еще таится нерассказанного! Мой коллега, профессор Самарского
пединститута (ныне он называется педагогический университет) И. В. Попов все
собирается написать о своем предвоенном кружке школьников-старшеклассников в
селе Черевково Архангельской области (их судьба спасла в лице какого-то странного,
видно, из когорты старых большевиков, руководителя местного НКВД, в чьи руки
попал протокольный дневник одного из товарищей И. В. Попова: начальник взял с
ребят слово, что они не будут заниматься антисоветскими утопиями и сжег при них
тетрадь в печке). Ждет очереди и мой рассказ о кружке — тоже товарищей-
старшеклассников — в предвоенном г.. Старом Осколе, тогда Курской области;
занимались мы антисоветской агитацией, разбрасывая и расклеивая листовки (нас
судьба тоже миловала: вообще не попались; конечно, это можно рассматривать как
чудо).
Из общений с коллегами, из разговоров со случайными собеседниками узнаются
отрывки интересных сведений. Таков рассказ случайного попутчика, учителя: в их
школе старшеклассники, изучая «Молодую гвардию» Фадеева, загорелись желанием
создать свою организацию, но, конечно, антисоветскую, а не антифашистскую; так как
их «накрыли» на самом раннем этапе, да еще во время хрущевской оттепели, то дети и
их родители отделались испугом, без оргвыводов. Кстати сказать, по-настоящему, а не
по-фадеевски, следовало бы изучить и деятельность реальной «Молодой гвардии», как
и вообще самостоятельных молодежных антифашистских организаций в зонах
оккупации.
Главное же — когда будут окончательно раскрыты архивы ОГПУ—НКВД—КГБ,
появятся наконец документальные основы для исторических исследований всего
517
комплекса несоветских и антисоветских кружков периода СССР. Нельзя преувеличивать:
в количественном отношении их было, наверное, не так много, но тем важнее оставить
будущим поколениям данные о людях, жаждавших свободы, свободного творчества,
свободной духовности в совсем не свободное время. Все они рисковали жизнью, многие
из них и поплатились жизнью, другие теряли здоровье — но России не привыкать
отдавать своих детей на муки, и — к сожалению? к счастью? — дети часто не уклонялись
от жертвенности.
Б. Ф. Егоров ТРУД И ОТДЫХ В РУССКОМ БЫТУ
Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» разделил человеческую деятельность на
три сферы: труд, наслаждение, отдых (IV глава, письмо Лопухова к Вере Павловне). В
данной главе для нас целесообразно объединить наслаждение и отдых единым
понятием отдыха, понимаемого как времяпрепровождение вне труда, как анти-труд
или минус-труд, в зависимости от сущности и функциональности. Чернышевский
справедливо противопоставил отдых труду (впрочем, и наслаждению) как наиболее
индивидуальную сферу; нужно, однако, учесть, что при возможности свободно
выбирать конкретную область труда и труд оказывается достаточно
индивидуализированным. Весьма разнообразны бывают и виды наслаждения.
В феодальной России наибольшей свободой пользовался дворянин, который мог
выбирать сам основную сущность своей жизни: идти на государственную службу или
оставаться частным лицом, главным образом — помещиком (об этом см. в трудах Ю.
М. Лотмана). Правда, общественная иерархия ценностей делала некоторые виды
службы «неприличными» для дворянина (например, преподавание в учебных
заведениях, государственная служба художников и актеров и т. д.), но все-таки спектр
признанных профессий и должностей был для дворянина чрезвычайно обширен.
Значительно меньшими возможностями обладали представители других сословий;
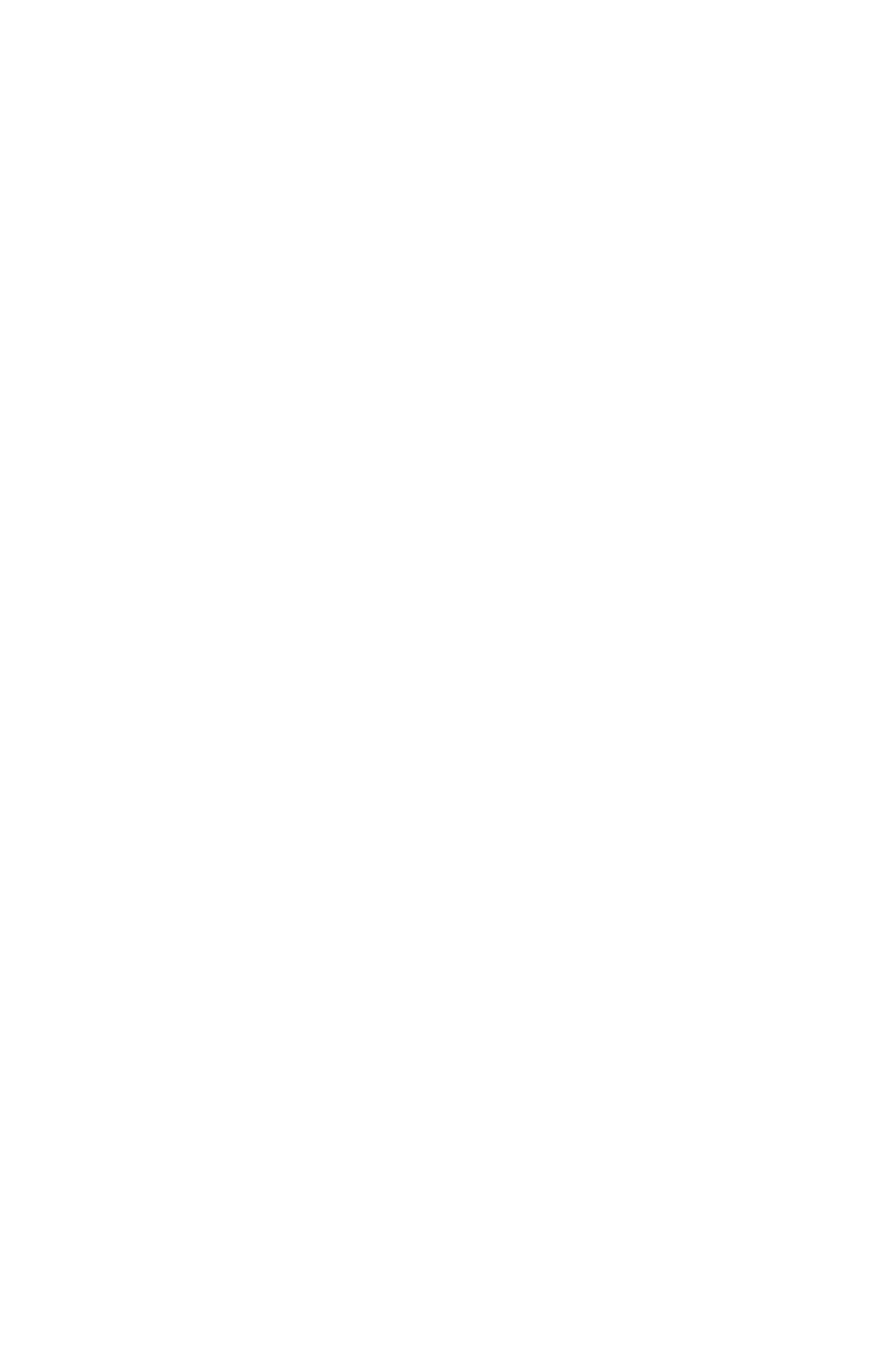
главный путь, в котором можно было рассчитывать на относительную свободу выбора,
пролегал для разночинца через высшее учебное заведение, с надеждой в последующем
дослужиться до дворянства (см. об этом в статье Н. А. Вердеревской).
Характерно, что до 1861 года служба почти исключительно была государственной
(если не считать торговли и промышленности); лишь в 1830—1840-е годы начали
появляться люди свободных профессий, причем только в
519
сфере искусства и печати: писатели, журналисты, критики, художники (напомню страх
А. В. Кольцова перед неясностью такой «свободной» жизни и отказ покинуть Воронеж
и торговые занятия, несмотря на настойчивые уговоры столичных друзей).
Для человека, свободно избравшего сферу деятельности, труд, как правило,
становился удовольствием и наслаждением (особенно при сознании и возможности в
любой момент заменить данный вид другим), и тогда отдых как особая сфера,
противостоящая основному труду, сокращался до физических передышек, до минус-
труда. И наоборот, несвободный труд, естественно, приводил человека к поискам
перемены деятельности, не к минус-труду, а к анти-труду.
Наименьшие возможности были, конечно, у крепостных крестьян. Они не имели
возможности ради отдыха перемещаться в другие места, он осуществлялся лишь в
родной деревне и в ее ближайшей округе.
Духовенство также было привязано к своему приходу; редкие отпуска использовались
обычно для каких-то практических нужд, а не для отдыха. Отдых в виде посещения
театров и концертов был мало принят в среде духовенства: начальство не поощряло
участия в светских развлечениях. Поэтому, как и у крестьян, главные отдушины
отдыха приходились на праздники — разумеется, прежде всего церковные праздники,
но к ним могли присоединиться и личные, семейные.
В замечательной книге о роде Зерновых подробно рассказывается о двух самых
торжественных праздниках в семье протоиерея С. И. Зернова (1817—1886): «При
жизни Степана Ивановича у них торжественно праздновались два дня в году: первый
день Пасхи и 27-ое декабря, день Ангела Степана Ивановича. Эти празднования
продолжались и после его смерти, такова была его воля, он только прибавил к ним еще
третий день, в который он хотел, чтобы вся его семья собиралась для его
поминовения; под этим он разумел день своей кончины. Пасхальное торжество,
соединенное с ночными разговеньями, проходило в тесном, скорее семейном, кругу —
приглашался только весь церковный причт, да самые близкие друзья и родст-
520
венники. Пасхальная ночь в Москве была светлая, вдохновенная. Ровно в 12 часов
ночи ударяли в Кремле в большой колокол на Ивановской колокольне. Эта был
сигнал, которого ждали все сорок сороков московских церквей. Гудение и звон
неслись и разливались по всему городу, вспыхивали фейерверки и бенгальские огни,
стоявшие наготове крестные ходы начинали обходить свои церкви. Тут была вся
Москва, с хоругвями, с крестами, с иконами, с зажженными свечами, и белыми, и
красными, и перевитыми золотом, вся Москва, одетая в праздничные одежды,
радостная, ликующая. Зрелище незабываемое и больше не повторимое. Конечно, в
семье Зерновых этот «праздникам праздник» соблюдался особенно торжественно, все
полностью отдавали ему свое сердце.
Приготовлялось все с вечера, накрывались столы, на них все ставилось, кроме куличей
и пасхи, которые с красными яркими яйцами посылались в церковь для освящения. Их
приносили после заутрени на огромном подносе, завязанном белоснежной скатертью.
Разговлялись после обедни, все приходили не сразу, так как службы в разных церквах
кончались в различное время. Степан Ив. приходил со всем причтом, начиная с
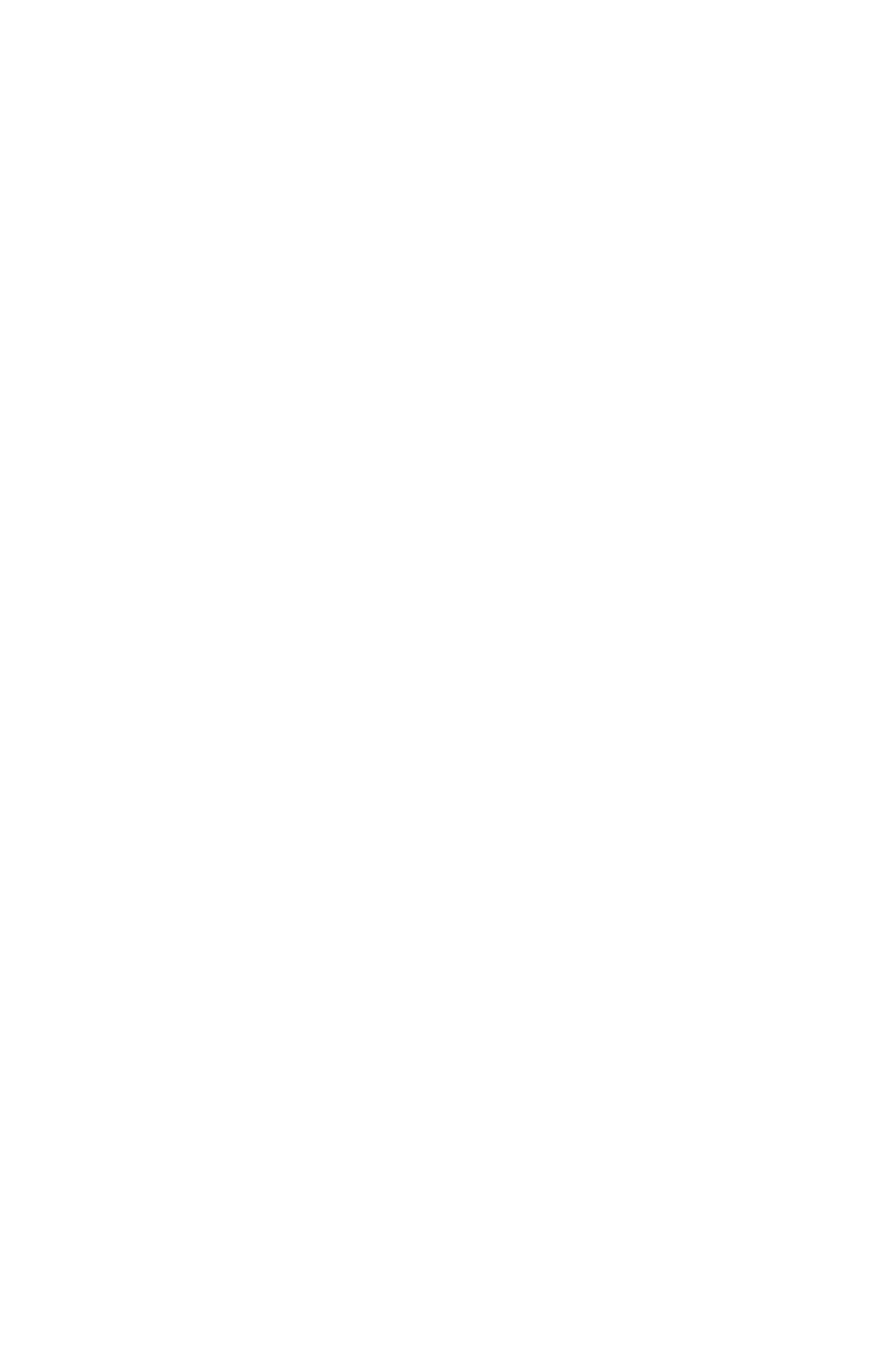
«раннего» священника, дьякона и кончая церковным сторожем, служил краткий
пасхальный молебен, причем пели все присутствующие, благословлял трапезу, все
христосовались, обменивались яйцами и садились разговляться после долгого
семинедельного поста. Во время разговенья два или три раза опять вставали и
молились при общем пении. За столом еще переживались впечатления этой чудесной
пасхальной ночи. (...) Расходились, когда дневной свет уже пробивался через оконные
занавески и тушились свечи на высоких праздничных канделябрах.
(...) К этому дню <день Ангела 27 дек.> (...) торжественно готовились. Все блестело,
полы натирались до особенного лоска, на окна вешались кружевные занавески,
которые потом снимались и прятались до Пасхи в сундуки. Столы расставлялись в
двух комнатах. Приглашался повар, который начинал свою работу с вечера под
бдительным присмотром двух верных прислуг (...). Заготовлялись пироги и кушанья
на весь день с утра до вечера. (...) К их
521
<семьи> приходу из церкви все было готово, но без всякой суеты (...) Матушка была в
нарядном шелковом платье, с черной кружевной косынкой на голове, что очень шло к ее
белокурым волосам, всегда хорошо причесанным, и белому цвету лица с голубыми
глазами. Все поздравляли Степана Ив. и друг друга с именинником и садились пить чай.
Обыкновенно к этому утреннему чаю приходил и весь причт, приносили заздравные
просфоры имениннику. Такие же просфоры присылались в этот день и от митрополита, и
от архиереев, и от многих московских священников, и из Покровского монастыря, и даже
из Троице-Сер-гиевой лавры. С одиннадцати часов начинали раздаваться звонки за
звонками, приезжали поздравители. Всех просили к столу, к пирогу. (...) Пироги с
разнообразными начинками сменялись один за другим; прекрасные заливные, разные
жаркие, закуски, особенно зернистая и паюсная икра не снималась со стола на
затянувшемся чуть ли не до четырех часов дня завтраке»
1
.
В изобилии еды-питья, гостей, конечно, было нечто патриархальное, древнее. На Кавказе
до сих пор во многих местах на свадебном пиру участвуют сотни человек. В
дореволюционных украинских и белорусских местечках при еврейских праздниках
считалось высшим достижением, если гостей было так много, что не хватало посуды: из
одной тарелки ели двое! Аналогичные грандиозные масштабы до крестьянской реформы
1861 года имели место и в русских барских усадьбах (см., например, празднование именин
Татьяны в «Евгении Онегине»), но постепенно аристократические и вообще барские дома
все больше и больше сокращали число званых гостей, поэтому в середине XIX века образ
жизни графа Г. А. Куше-лева-Безбородко, в петербургском загородном дворце которого
иногда летом гащивало до 200 человек сразу, вызывал уже удивление («загородном» —
тогда; это — знаменитый дворец со львами вдоль ограды, расположенный на берегу Певы
напротив Смольного). Любопытно, что патриархальный размах сохранился в богемной
среде разно-
1
На переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зерновых. 1812—1921. Под
ред. Н. М. Зернова. Париж. YMCA-Press, 1970. С. 17—18.
522
чинной интеллигенции. Вот — уже на заре XX века — описание вечеров в доме великого
МХАТовского артиста В. И. Качалова: «Кроме этих еженощных сидений раза три-четыре
в сезон устраивались большие вечера уже с приглашениями и с подготовкой. Бывало по
двадцать пять-тридцать человек. Мать тщательно занавешивала окна и останавливала
часы, чтобы рассвет и стрелки часов не разгоняли гостей... Ели и пили, конечно, много.
Вечера матери славились вкусностью, обилием еды и питья. Бще накануне мать делала
свой знаменитый «соус провансаль», который подавался и к заливной белуге, и к раковым
шейкам, вареным в вине, и этим же соусом заправлялся грандиозный салат. Пили водку и
заготовленный в двух ведрах крюшон из белого вина, фруктовых отваров и шампанского.
К концу ужина пили кофе с коньяком, утром — чай и опять водку под яичницу с черным
