Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.

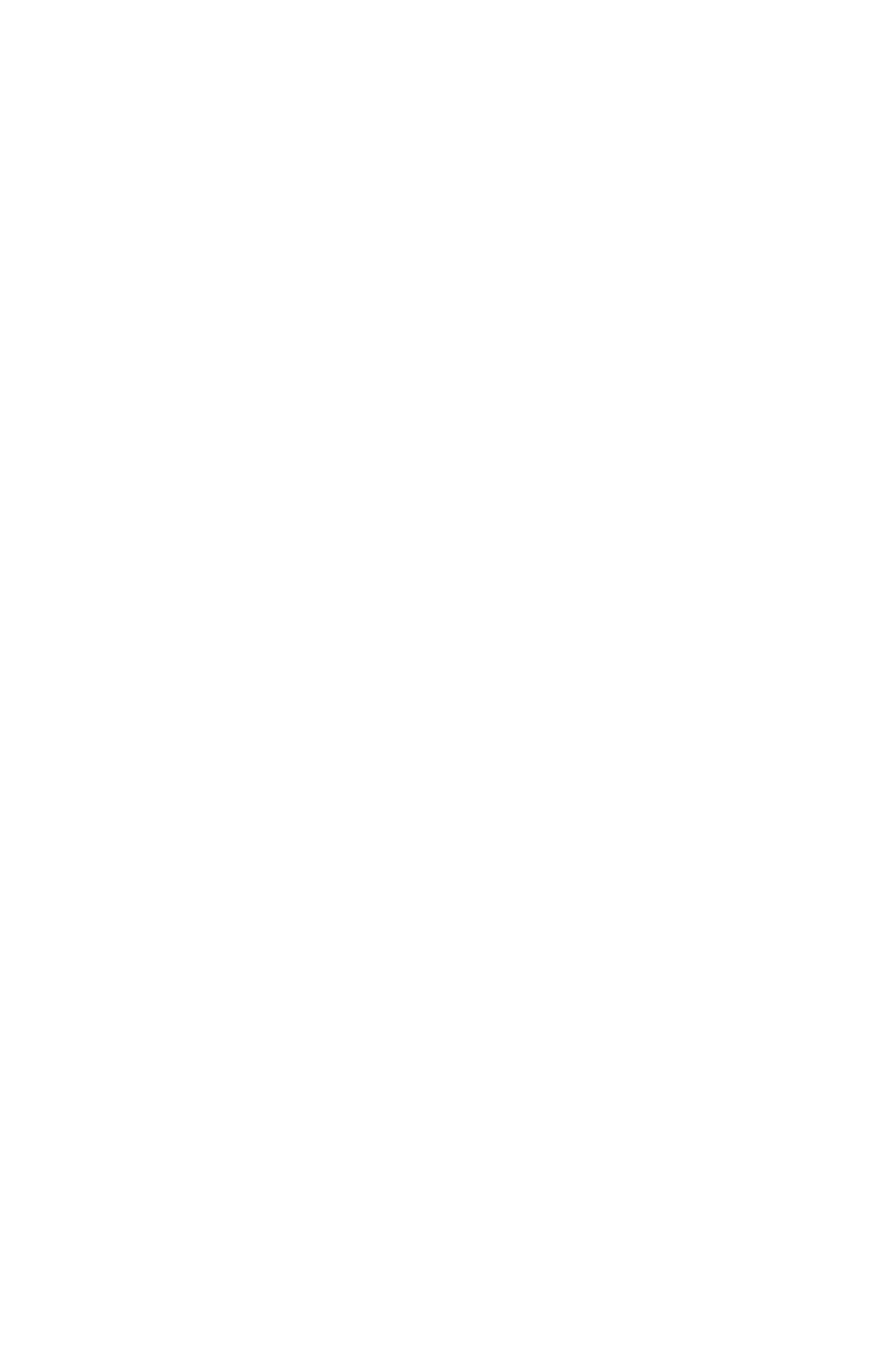
назывались срамными местами).
Совесть и стыд — великолепные регуляторы поведения, они ограждают человека от
дурных поступков, они «грызут» душу после совершения таких поступков. У
пушкинского Барона («Скупой рыцарь»), видимо, постоянно присутствует «совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, Незваный гость, докучный собеседник».
«Ограждение» души от зла, связанность человека этическими нормами великолепно
проявляется в синониме стыда — в слове «стеснительность»: человек скован, он стес-
няется. Но совесть не только регулятор и стеснение, она еще и стимулятор. Хорошо
сформулировал понятие совести Даль: «чувство, побуждающее к истине и добру,
отвращающее ото лжи и зла». Отсюда и пословица: «Глаза — мера, душа — вера,
совесть — порука».
Совесть играет громадную роль во всяком человеческом обществе. Существуют
законы, карающие уголовных преступников, но есть великое множество преступле-
ний, не подпадающих под статьи законов и не подвластных обычным судам. Мальчик
стащил из дома какую-то вещь. Сосед словесно обидел соседа. Шустрая девица отбила
у сестры жениха. И так далее и тому подобное. Наглость, грубость, жадность, ложь не
подлежат юридическим судам, но они осуждаются обществом по совести.
сохранил это смешение: Sinn означает и чувство, и смысл; всего одна буква (или звук) различает эти
понятия в виде прилагательных: sinnig — осмысленный, sinnlich — чувственный.
25
Совесть — выше, шире юридического закона, охватывающего лишь узкую область
поведения людей. Екатерина II ввела в России совестные суды, которые разбирали
именно те тяжбы, которые не подпадали под юрисдикцию законов (эти суды были
упразднены во время реформ 1860-х гг.)-
Но совесть распространяется и на юридическую сферу. Когда ввели суд присяжных, то
последние, далеко не всегда зная тонкости законов, судили по своему разумению и по
совести. А если преступник по тем или иным причинам не садился на скамью
подсудимых, то он подпадал под законы совести — и общество осуждало его,
подвергало нравственному остракизму. Такова была судьба Ф. В. Булгарина, частично
— графа М. Н. Муравьева-Вешателя, жестокими мерами подавлявшего польское
восстание 1863 г.
Общество, основанное на совести, — крепко и перспективно, и — наоборот — если
совестные начала сужаются и разрушаются, это грозит обществу ужасными по-
следствиями. Совесть не может создаваться в течение годов и десятилетий: нужны
века для ее укоренения. Разрушить ее легко, восстановить — почти невозможно.
Природные аналогии: вырубка лесов на Буковине, способствовавшая смыванию почвы
со скал; разрушение вездеходами тонкого слоя почвы в тундре.
Общественно-политические сломы в стране — те же нарушения почвы. Когда
происходят бунты, революции, когда на человека сваливаются деспотические,
насильнические беспределы, — рушатся нравственные устои, ломается совесть.
Наверное, в любое время, в любом обществе существует какой-то процент
безнравственных людей. Генетически, так сказать, неполноценных. Как некоторым
людям слон на ухо наступает, они от рождения немузыкальны, так другим слон
наступает на душу, обуславливает их бессовестность. Но в нормальном обществе
таких ненормальных единицы. В эпохи же разломов и разрух их количество
значительно возрастает. Одна из самых существенных бед революций — разрушение
совести.
26
В добавление и в развитие инстинкта человечество создало религиозные комплексы
этических норм (сопровождаемые угрозами наказания, главным образом, в другом мире,
после смерти), а в последних десятилетиях нашего века, в связи с развитием «восточных»,

мистических, «космических» учений появились теории о физиологической выгодности
доброго, открытого интеллигентского отношения к миру, что особенно любопытно, так
как дает объяснение общему неуклонному пути человечества к интеллигентности как
естественному процессу.
Но можно ли считать противоположный, т. е. мещанский путь неестественным? Может
быть, мещанство является органической частью человечества? В том-то и дело, что в
некоторой степени — да. Прежде всего, видимо, есть в человеке генетические задатки
творческой деятельности или, наоборот, безынициативности. А общество усиливает,
развивает те или другие, в зависимости от своей структуры. Нравственность, связанная со
свободным выбором поступков, всегда тяготеет к творческому началу. И наоборот,
безынициативность тяготеет к несвободе, к безответственности, к рабству.
Безынициативное мещанство голосует за рабство, а не за свободу (мещане инициативно-
деспотического склада предпочтут тоже именно рабский строй: они там будут добиваться
высокого властного положения отнюдь не свободными средствами). Таким образом,
деспотические режимы совершенно не приспособлены для интеллигенции и, наоборот,
очень приспособлены для мещанского сознания, для мещанской психологии. Замечателен
в этом отношении лозунг, появившийся в народном обиходе в советскую эпоху: «Ини-
циатива наказуема». Рядом с этим лозунгом можно было бы поставить и другой,
аналогичный: «Нравственность наказуема». Нравственные люди не нужны деспотам:
нравственность с ее вечными законами может войти в противоречие с сиюминутными
порядками.
Вот тут-то и начинается неестественность. Любопытная цепочка возникает: положим,
безынициативность,
27
равнодушие, лень — генетически заданы, т. е. естественны; но уже отклонение от
нравственного выбора, животный эгоизм опасны своими деструктивными, разруши-
тельными возможностями, что не может считаться естественностью; а строй хозяев и
рабов совсем уже противоестественен для общества разумных существ. Поэтому в
мещанстве при самых внешне благополучных ситуациях в глубине содержится
неорганичность, неестественность. Для мещанства может быть очень
притягательными «сильная рука», деспотический режим, фашизм, но в перспективе
подобные социально-политические структуры не только не органичны, а Туликовы,
разрушительны, опасны даже для самого мещанина, попадающего в мясорубку
клановый страстей и чисток.
Выступление интеллигентов против таких режимов, даже если оно в ближайшей
перспективе безрезультатное, «дон-кихотское», кончающееся жестоким наказанием,
все же более органично, чем конформизм мещанина. Протест нравственного человека
против неестественного строя более естествен, чем фатальное подчинение ему... Зато
такой строй и ненавидит не-рабов: не только активно сопротивляющихся, но и просто
людей нравственно-духовной складки, людей свободного творчества.
Еще раз подчеркнем, что говорим здесь о крайних формах двух типов. Реальность
всегда сложнее теоретической классификации. Например, мещанин не обязательно
должен быть безнравственным рабом. В России и за рубежом встречаются
бездуховные и неальтруистические люди, которые тем не менее — работящие, даже,
может быть, творческие в своей области, отнюдь не желающие подчиняться «сильной
руке» и вполне нравственные, т. е. следующие основным и вечным религиозным
заветам. Такие люди встречаются и в деревне (кулак, но не хищный), и в городских
сословиях. С другой стороны, не всякий интеллигент нравственно идеален, при всех
его ду-ховностях и альтруистических наклонностях. Недостаток воли (который, увы,
не редок в интеллигенции) может
28

сделать человека «слабаком» в борьбе с агрессивными подонками. Чрезмерная отдача
себя другим или фанатическая углубленность в науку может привести к невниманию по
отношению к самым близким людям, к родным детям, к жене, мужу, родителям.
Поэтому реальная жизнь часто преподносит варианты, которые трудно уложить в
прокрустово ложе схемы. Однако в целом считаю схему верной, тенденции в проти-
воположных группах проявляются тоже противоположные: интеллигент тяготеет к
творчеству, свободе, радости по поводу успехов другого, мещанин — к безынициатив-
ности, зависти, рабству.
История России страшна последовательным физическим уничтожением и
психологическим унижением духовных, творческих, благородных, нравственных лично-
стей: массовые погромы и убийства при Иоанне IV, казни Петровской эпохи, репрессии
Екатерины II против вольнодумцев, разгром декабристского движения и последующие
репрессии при Николае I... Лишь во второй половине XIX века несколько ослаб карающий
меч самодержавия, но тут начались отнюдь не на свободе и нравственности замешанные
акции революционеров, опять вызвавшие волны правительственных репрессий. Только-
только начинала создаваться над народным морем тоненькая пленочка духовной элиты —
и ее уничтожали!
И в то же время — парадоксы нашей истории! — именно в недрах совсем не
интеллигентского деспотического строя появилось и развилось замечательное племя
русской интеллигенции XIX века. Главный парадокс заключался в том, что, подобно
древнегреческим государствам, крепостное рабство освободило в России десятки тысяч
дворян-помещиков от добывания хлеба насущного, и потому, наряду с примитивными
прожигателями жизни, тиранами, обломовыми, несколько сотен образованных людей
смогло относительно свободно и бескорыстно заняться литературой, искусством, наукой,
журналистикой, а на этой почве и не имевшие рабов разночинные интел-
29
лигенты получили возможность уже за плату творчески развивать национальную
культуру.
Второй парадокс, уже не чисто русский, а общечеловеческий, но все же для России
чрезвычайно характерный: любое самое антиинтеллигентское, самое тоталитарное
общество нуждается в творческих работниках, ибо и такому обществу нужны врачи,
инженеры, педагоги, ученые, военные специалисты и т. д. Как бы ни ненавидели тираны и
их окружение интеллигенцию, как бы ни притесняли ее, но она нужна для нормального
функционирования государства, с одними духовными лакеями невозможно существовать.
Поэтому деспотические режимы, в том числе и бывшие в России XIX века, постоянно
колебались между угрозами, да и репрессиями по отношению к интеллигенции, — и
попущениями, подачками. Творческие люди вели себя в этих условиях по-разному. Одни,
закрывая глаза и затыкая уши, чтобы не воспринимать все окружающие мерзости,
погружалцсь в творчество, создавая научные и художественные ценности (а насколько
они могли не зависеть от властей материально и насколько им удавалось реализовать свои
плоды — это уже особые вопросы). Другие пытались и внутренне, нравственно при-
способиться к существующему строю, опираясь на историю и традиции. Третьи лезли на
рожон, боролись с мерзостью, хотя бы в ближайшем окружении — и чаще всего плохо
кончали. Четвертые (очень малая часть) эмигрировали. А в общем-то всем было плохо. Но
все-таки вопреки репрессиям и унификациям деспотизма русская интеллигенция, главным
образом, благодаря дворянским возможностям, создала великую культуру XIX века.
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Напомню для ориентира основные социально-политические события XIX века.
После убийства Павла I первую четверть столетия (1801—1825) правил страной
Александр I. Пушкин имел основание не любить царя
1
, отправившего поэта в ссылку,
и охарактеризовал его в 10-й главе «Евгения Онегина» утрированно, но в целом
справедливо:

Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами
царствовал тогда.
В самом деле, победа народов России над Наполеоном незаслуженно была после 1812
г. приписана Александру. Начинал он с благих намерений (проведение некоторых ли-
беральных реформ, открытие университетов, расширение сети гимназий), а потом,
особенно после наполеоновских войн, заметно «консерватировался», приблизил к себе
Аракчеева и реакционных духовных лиц.
Полная надежд страна все больше теряла доверие к царю; стали создаваться тайные
общества; некоторые будущие декабристы даже вынашивали планы цареубийства.
Смерть Александра I в Таганроге спровоцировала декабристов на восстание, но слабая
подготовка и отсутствие единства привело их к поражению, и на крови раз-
1
Слово «царь» происходит от сокращения имени известного древнеримского императора Юлия Цезаря
(в более точном произношении «кесар(ь)»; отсюда немецкое «кайзер» — Kaiser); от другого римского
императора, Августа происходит наименование членов царской семьи «августейшие». Первым
официальным русским царем был Иоанн Грозный; Петр I заменил этот титул на «императора»; но
неофициально название «царь» существовало вплоть до XX века.
32
грома на престол вступил младший брат Александра — Николай I (1825—1855):
Александр был бездетным.
Испуганный декабристами и последующими революционными взрывами внутри и вне
страны (польское восстание 1830—1831 гг., французская революция 1830 г.,
европейские революции 1848 г.), Николай I всю жизнь боялся дворянской оппозиции,
создал мощный репрессивный аппарат (корпус жандармов и III отделение царской
канцелярии), следил, чтобы не было никаких нелегальных кружков (как только о них
узнавали, сразу же следовали тюрьмы, каторга, ссылки) и чтобы журналисты не
вздумали проповедовать сомнительные идеи (в случае промашки журнал мог быть
запрещен, а редактор-издатель сослан); под контролем были все учебные заведения,
все научные и общественные организации, театры, гвардия и армия и даже частные
вечерние собрания; царь сам иногда — например, по отношению к Пушкину — бук-
вально выступал в качестве цензора, прочитывающего произведения, подготовленные
к печати.
Однако Николаю I не хотелось выглядеть перед Европой восточным деспотом; он
разрешал художникам учиться в Италии, а молодым преподавателям университетов —
в Германии и Франции; он — наверное, искренне! — мечтал об уничтожении
крепостного рабства и создал правительственную комиссию во главе с министром
государственных имуществ графом П. Д. Киселевым, чтобы она занималась
разработкой мер, подготавливающих отмену крепостничества; но события 1848 г.
заморозили и фактически развалили все замыслы комиссии. Вообще, революция 1848
г. создала в России такую атмосферу страха и наказаний, что последующие годы
справедливо называют «мрачным семилетием»: усилена цензура, сокращен прием
студентов в университеты — и даже верноподданный граф С. С. Уваров, автор
известной идеологической триединой формулы николаевского царствования —
«Православие, самодержавие, народность», пы-
33
тавшийся робко заступиться за университеты, был отправлен в отставку.
Николай I, как и его старший брат (да в общем и как сменившие его на троне сын,
внук, правнук), увы, не любил самостоятельно мысливших людей: они раздражали
царя, считавшего, что все идеи и предначертания должны исходить от него, Божьего
помазанника на троне, а все окружавшие его должны быть верными исполнителями
верховных замыслов. Поэтому ценились преданные, работящие, расторопные служаки
— а ум их и творческие таланты были скорее помехой (как, впрочем, и высокий
нравственный уровень). В окружении царя было множество таких лиц.

Граф П. А. Клейнмихель, главноуправляющий путями сообщения и публичными
зданиями в 1842—1855 гг. В молодые годы он был адъютантом Аракчеева, потом стал
начальником штаба аракчеевских военных поселений; при Николае I занимал
руководящие посты при строительстве зданий, мостов, дорог; чтобы все было сделано
в срок, не жалел ни денег, ни людей; был окружен взяточниками; для семьи взятки
брала жена графа. Существовал анекдот о кн. А. С. Меншикове, морском министре: он
повесил в своем кабинете какой-то старинный крест, а по обе стороны — портреты гр.
Клейнмихеля и кн. А. И. Чернышева, военного министра; когда гости удивлялись: что
это значит? — хозяин пояснял: ведь Он был распят тоже между двумя разбойниками...
Граф А. А. Закревский, в 1828—1831 гг. — министр внутренних дел, в 1848—1859 —
московский генерал-губернатор. Интендантский офицер, выдвинувшийся в генералы и
в верхние слои общества благодаря великой работоспособности и четкой
исполнительности. Не знал ни одного иностранного языка, да и в русском был не
силен. Зато, как и Николай I, смертельно боялся тайной крамолы, вел себя круто и
подозревал в участии в революционных кружках и либерального профессора Т. Н.
Грановского, и весьма консервативного профессора М. П. Пого-
2 — 810
34
дина, и даже славянофилов. «Погорел» он, подобно некоторым советским вельможам,
на полном презрении к законам и полном доверии к слову начальства: его дочь не жи-
ла с нелюбимым мужем (сын канцлера графа К. В. Нессельроде) и просила отца
устроить свадьбу — при живом муже! — с любимым человеком; отец якобы получил
устное согласие своего давнего знакомого князя А. Ф. Орлова, председателя
Государственного Совета, и «молодые» были тайно повенчаны; но кто-то донес, разра-
зился скандал, Орлов открестился — и Закревский вынужден был уйти в отставку.
Назовем и еще одного бурбона, тоже из генералов (почти все любимцы Николая I —
военные!), Д. Г. Бибикова, который был, в противоположность Закревскому, — сперва
генерал-губернатором (Юго-Западных губерний, 1837—1852), потом — министром
внутренних дел (1852— 1855). Рьяный русификатор, он притеснял поляков, евреев и,
разумеется, украинцев. Именно при нем было разгромлено в Киеве Кирилло-
Мефодиевское братство (куда входил и Т. Г. Шевченко), проповедовавшее довольно
робкие идеи украинской культурной автономии. Ведь тогда даже украинский язык был
под подозрением, он был запрещен в школах и церквах. Царила идея единой и неде-
лимой России.
Следует учитывать, что в течение почти всего XIX века Россия, продолжая традицию
предшествующих столетий, непрерывно расширялась; властители царской империи не
могли не проникаться самодержавным, деспотическим, завоевательным духом; в
1801—1803-х гг. к России была присоединена большая часть Грузии (восточная и
центральная части), 1809 г. — Финляндия, 1812 г. — Бессарабия, 1813 г. — часть
современного Азербайджана (остальная часть — 1828 г.), 1815 г. — сердцевина
Польши (герцогство Варшавское), 1828 г. — значительная часть Армении и берег
Черного моря от Анапы до Поти (окончательно Кавказ был покорен в 1864 г.), 1865 г.
— территория современного Казахстана, 1865—1885 гг. — совре-
35
менных среднеазиатских государств. При этом добровольно к России присоединилась
только Грузия, все остальные земли были получены в результате завоеваний или
послевоенных договоров. Любопытно, что в XVIII— XIX веках даже в случае
поражений в войнах Россия.не теряла территорий (потеря Аляски — не в счет, она
была продана в 1867 г. американцам).
Победы в XIX веке русская армия одерживала в войнах с достаточно слабыми
противниками (Швеция, Турция, Персия, среднеазиатские ханства), исключением

была лишь война с Наполеоном, но то была воистину всенародная война, люди
защищали свое отечество от захватчиков. Столкновение же в Крымской войне 1854—
1855 гг. с флотами и армиями Англии и Франции закончилось поражением России.
Оно объясняется отдаленностью фронта от русских губерний, бездорожьем, военно-
технической отсталостью, грандиозной растленностью интендантских служб,
бездарностью военачальников, которые то патологически медлили, то бросали солдат
на убой (всего в восточной войне 1853—1856-х гг. погибло полмиллиона русских
солдат, в два раза больше, чем у противника, а ведь война была, главным образом,
оборонительная).
На руководящие должности в стране назначались не самые талантливые специалисты,
а близкие ко двору, «свои» люди. Это сказывалось на уровне, на перспективах, на
настроении солдат и офицеров, но в мирное время не всегда было катастрофично, не
всегда даже было заметно со стороны: необходимы были яркие факты сравнительного
свойства, необходимо было соревнование. Война как раз и давала такие факты и
пособия.
Оказывалось, что цари издавна не любили и опасались выдающихся полководцев.
Суворова ненавидел Павел I. Кутузова явно недолюбливал Александр I, он лишь под
давлением общественного мнения и в критическую для страны минуту поставил его в
1812 г. во главе русской армии. Николай I невзлюбил Ермолова, так что тот в расцвете
сил вынужден был уйти в отставку. Зато Ни-
36
колай обожал Паскевича, осыпая его орденами и званиями: светлейший князь
Варшавский, граф Эриванский, генерал-фельдмаршал; но Паскевич был хорош в
войнах с Турцией и Персией, да при усмирении восставших поляков, а уже в
Венгерской кампании 1849 г. и при начале Восточной войны 1853 г. позорно проявил
неспособность воевать с западноевропейскими армиями, Николай вынужден был
отстранить его от руководства Крымской кампанией. Бывший начальник штаба при
Паскевиче кн. М. Д. Горчаков (не путать его со знаменитым родственником
Александром Михайловичем, товарищем Пушкина по Лицею, а потом известным
дипломатом), назначенный во главе Крымской армии, тоже проявил бездарную
нерешительность и тоже был отстранен. Лишь при Александре II, тоже не бог весть
как благоволившем талантам, военным гениям стало чуть полегче: военному министру
Д. А. Милютину удалось, несмотря на величайшие трудности, реформировать русскую
армию, а генералу М. Д. Скобелеву, благодаря блистательным победам в русско-
турецкой войне 1877—1878 гг., стать национальным героем.
Лишь выдающимся флотоводцам «везло» в XIX веке: М. П. Лазарев, П. С. Нахимов, В.
А. Корнилов показали свой военно-морской гений в битвах при Наварине и Си-нопе.
Очевидно, как, скажем, и в математике, в шахматах, в техническом изобретательстве,
где сразу видно, кто есть кто, с гениями морского боя трудно было соревноваться
каким-нибудь придворным ловкачам. Это, однако, не мешало Николаю I назначить
управляющим морским министерством упомянутого выше кн. А. С. Меншикова,
которому Чаадаев в глаза язвил, дескать, вы и шлюпкой никогда не управляли (этот
эпизод рассказан Герценом в «Былом и думах»).
Итак, несмотря на постыдное поражение в Крымской войне, Россия в течение всего
XIX века продолжала расширяться, и это укрепляло имперские, великодержавные
настроения правящих кругов. Такой имперский, государственный дух утверждался
свыше, но им были проникну-
37
ты и многие слои образованного общества, и не только относительно консервативные
славянофилы, но и, казалось бы, антисамодержавные западники! Но именно в среде
западников зрела при Николае I историческая и исто-рико-юридическая школа
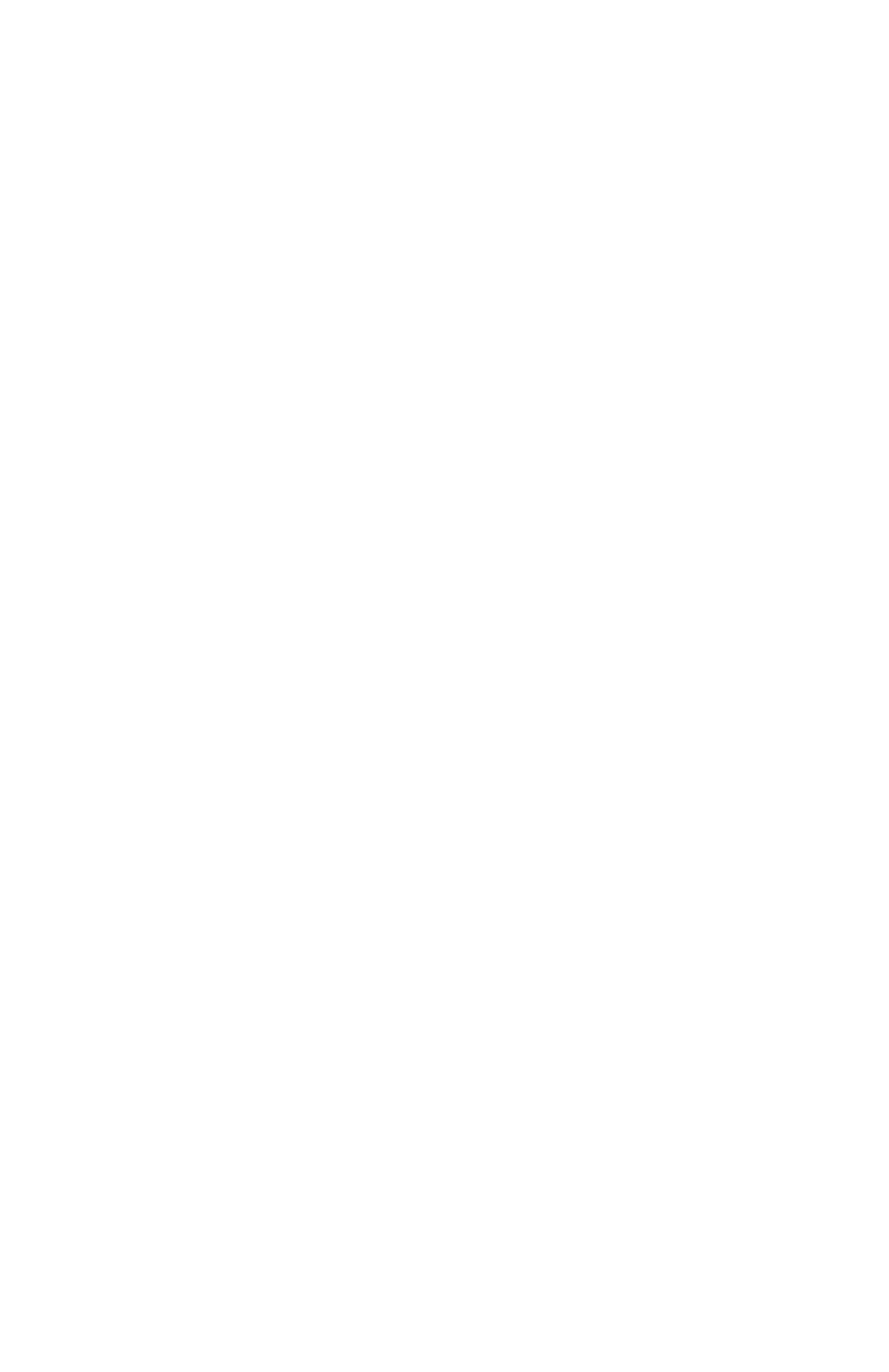
государственников: К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев. Элементы
имперского мышления стали развиваться даже у такого крайнего западника, как В. Г.
Белинский: он неоднократно заявлял о своем преклонении перед Иоанном IV и
Петром I, он сочувственно отнесся к разгрому Кирилло-Мефодиев-ского братства и к
ссылке Шевченко в солдаты, ибо не любил украинский сепаратизм, а украинский язык
считал диалектом русского.
Важно еще учесть, что культурная политика Николая I была великодержавной, но в
ней было мало русского. Притеснения поляков, евреев, украинцев, татар имели именно
великодержавный характер; представители этих народов пытались добиться каких-то
прав, а это якобы могло подорвать органическую целостность государства. Но это не
значит, что за счет притеснения других народов русскому жилось легче. В
«триединой» формуле графа Уварова православие стоит на первом месте, но как мало
в действительности уважалась эта основная религия русского народа и как мало
уважалось духовенство! Об этом еще будет идти речь в нашей книге. Да и третий
элемент уваровской формулы, «народность», был показной, а не реальный.
Крепостное рабство трудно связать со вниманием к народным нуждам. Никакого
интереса к народному быту, к крестьянскому искусству правящие круги не проявляли.
Крестьянам был закрыт путь в учебные заведения. Гениальные оперы Глинки, где
впервые широко зазвучали русские народные мелодии, были прохладно встречены при
царском дворе.
Все-таки в глубине души Николай I, как и его старший брат, оставался западником. Он
явно благоволил немецкому засилью в Прибалтике (остзейские немцы — главные
поставщики крупных чиновников России!) и не
38
протестовал против притеснения православия в прибалтийских губерниях, наоборот,
когда молодой славянофил Ю. Ф. Самарин стал резко выступать против разных фак-
тов такого притеснения, то ему пришлось посидеть в Петропавловской крепости.
Николай I оставался совершенно равнодушным к судьбе славянских «братьев»,
находившихся под игом Турции и Австрии, более того — именно внимание русских
славянофилов к западным и южным славянам раздражало его: он считал, что любые
попытки смягчить положение братьев-славян означают подкоп под целостность пусть
чужих, но все же монархий, тоже великих держав: спокойствие турецкого султана и
австрийского императора Николаю было дороже судьбы миллионов угнетенных
народов. Характерно, что в манифесте 1853 г. о начале русско-турецкой войны (потом
она была названа Восточной, а значительная ее часть — Крымской) говорится о
притеснении Оттоманской империей православной церкви, но ни слова о желании
освободить единоверцев из-под турецкого ига.
Все свои царственные годы Николай жил под впечатлением восстания декабристов и
потому боялся любых нестандартных объединений, кружков: как бы чего не вышло!
— и всегда приказывал жестоко расправляться со студенческими кружками, с
подозрительными журналами, с самостоятельно мыслившими интеллектуалами
(страшная судьба Чаадаева, официально объявленного сумасшедшим). Даже такой
абсолютно далекий от любых форм оппозиции человек, как кн. В. Ф. Одоевский,
оказался под подозрением как организатор филантропического Общества посещения
бедных просителей.
Особенно испугали Николая I европейские революции 1848 г. Репрессии в России еще
более усилились, недаром оставшееся до смерти императора время получило название
мрачного семилетия (1848—1855).
Восшествие на престол в 1855 г. сына Николая, Александра II, воспитанника В. А.
Жуковского, воспри-
39

нималось почти всей Россией как праздник, как окончание деспотической эры и
начало новой, светлой. И в самом деле молодой император ослабил цензуру, разрешил
относительно свободно ездить за границу, амнистировал декабристов, а главное —
открыто провозгласил подготовку фундаментальных реформ. С бурными обсуждения-
ми по всей стране, с перекраиванием предварительных проектов на различных этапах
и в различных инстанциях, наконец, с утверждением Государственным Советом и
царем, 19 февраля 1861 г. было принято «Положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости», ликвидирующее многовековое крепостное рабство. Трудно
передать то всенародное ликование, которое охватило страну (за исключением
матерых крепостников), когда (с двухнедельным опозданием) был официально
опубликован царский манифест о реформе. Потом восторги сникли, так как реально
земля передавалась крестьянам не бесплатно, они должны были за нее выплачивать
помещикам значительные суммы денег, а поскольку брали ссуды в банках, то отдавать
еще и с немалыми процентами. Но все-таки кончилось феодальное рабство, люди
стали юридически свободными.
Вслед за главной реформой Александра II был проведен еще ряд важнейших
преобразований. Земская реформа (1864) впервые создала выборные органы местного
самоуправления. На избирательных съездах в городах и селах выбирались на три года
гласные, которые составляли уездные земские собрания, в свою очередь избиравшие
губернских гласных (один губернский на шесть уездных гласных), а из них
образовывалось губернское земское собрание. Собрания выдвигали соответственно
исполнительные органы — губернскую и уездные земские управы (тоже на три года).
Конечно, выборность была относительная: поставлен имущественный ценз, бедняки
не имели избирательных прав; председателем земского собрания автоматически
становился местный предводитель дворянства; губернаторам и министру внутренних
дел
40
предоставлялось право отменять нежелательные постановления земских учреждений;
председатели уездной и губернской земских управ утверждались соответственно гу-
бернатором и министром. И все-таки в России впервые появились местные органы
самоуправления, которые могли очень много сделать и реально делали для подъема
хозяйства, культуры; в ведении земств были местные пути сообщения, финансы,
тюрьмы и дома призрения, забота о торговле и промышленности, а главное —
образование и здравоохранение. Россия начала покрываться сетью земских школ
(вплоть до небольших сел) и медицинских пунктов: в каждом уезде стало несколько
врачей.
Вослед земской реформе было утверждено царем новое городовое положение (1870): в
городах, как и в земствах, выбирались гласные, составлявшие городскую думу, а дума
избирала городскую управу во главе с городским головой; и, подобно земству,
городские головы губернских столиц утверждались министром внутренних дел, а дру-
гих городов — губернатором. Права и обязанности касались, как и у земств, местных
сфер.
Громадное значение имела судебная реформа (1864). Вместо примитивного и
полутайного суда предшествующих царствований впервые вводились открытые
судебные заседания, несменяемость судей и их независимость от властей; вводился
институт адвокатов, по тогдашней терминологии «присяжных поверенных». Россия
становилась в этом отношении воистину европейским государством. Уголовные дела
рассматривал окружной суд (округ равен губернии), в который входили, наряду с
прокурором и судьями, 12 присяжных заседателей (назначались по жребию от
постоянных жителей данной местности). Участие такой массы народных

представителей обеспечивало относительную объективность приговора и закрывало
дороги взяточникам.
Мелкие проступки оказывались в ведении мировых судей — это на уездном уровне,
мировые судьи избирались уездным земским собранием. В крестьянском мире еще в
41
1861 г. учреждены волостные суды, рассматривавшие мелкие уголовные и
гражданские правонарушения. Волостные судьи ежегодно избирались из самих же
крестьян на волостном сходе, составленном из выборных народом лиц. Любопытно,
что эти судьи рассматривали проступки и меры наказания, руководствуясь не
юридическими законами, а многовековыми крестьянскими обычаями.
При Александре II была проведена самая крупная в послепетровской России военная
реформа (1862—1874). Уничтожили 25-летнюю солдатчину, срок военной службы
сократили до 6 лет (плюс еще 9 лет быть в запасе). А главное — введена всеобщая
воинская повинность. И дворянские, и купеческие дети, и сыновья духовных лиц
наряду с крестьянами призывались в армию: впервые уничтожались сословные
преимущества (исключение делалось лишь для самих лиц духовного звания: они не
призывались). Однако вводились большие льготы по сев«ейному положению и по
образованию. Еще в 1863 г. были отменены страшные виды телесного наказания:
шпицрутены, плети, розги. Впрочем, окончательно и тогда не отменили телесных
наказаний мужчин (женщины полностью были освобождены): до 20 розог крестьянам
по приговорам волостных судов, до 100 розог арестантам и ссыльным, а при по-
вторных преступлениях ссыльно-каторжных и ссыльнопоселенцев — до 100 ударов
плетьми.
О реформах образования и цензуры пойдет речь в соответствующих главах.
Когда мы перечисляли наиболее характерных сановников из окружения Николая I, то
отметили их несамостоятельность: они лишь исполняли волю и идеи самодержца.
Александр II тоже не слишком жаловал творческих людей (Тютчеву принадлежит
очень точный образ: «Когда государь разговаривает с умным человеком, он себя
чувствует, как на сильном сквозняке»). Но, в отличие от своего отца, Александр
задумал провести великие реформы, а для этого недостаточно было придворных
Молча-линых, необходимы были именно творческие натуры. Ца-
42
рю приходилось идти на компромиссы, лавировать между своими достаточно
консервативными вкусами, оравой монстров-крепостников из Государственного Совета и
придворного окружения и «новыми» людьми, которым поручались проекты реформ.
Надо признать, что при дворе тоже .были сторонники реформ: младший брат царя,
великий князь Константин Николаевич, глава морского ведомства, много сделавший для
реорганизации русского флота (особенно для замены парусников пароходами), для
крестьянской реформы, для расширения либеральной печати (бесцензурный орган
министерства «Морской сборник» стал рассадником либерализма и демократических идей
в бурное реформенное время). Большую роль в создании пореформенного общественного
мнения играл салон великой княгини Елены Павловны, вдовы Михаила Павловича, брата
Николая I. Елена Павловна покровительствовала деятелям крестьянской реформы и еще в
1859 г. провела в своем имении первый эксперимент с освобождением крепостных, ис-
пользованный потом в главном проекте. Велики заслуги Елены Павловны и в меценатстве
(создание Русского музыкального общества и Петербургской консерватории), и в
милосердии (создание Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, предвестницы
Красного креста). Но Константин Николаевич и Елена Павловна были исключениями в
придворном кругу.
Любопытно, что наиболее либеральных и откровенных реформистов все-таки быстро
съедала консервативная камарилья, и Александр не сопротивлялся. Либеральный министр

внутренних дел С. С. Ланской (1855—1861) в самую кульминационную пору — вскоре
после объявления манифеста об уничтожении крепостного права — был уволен, вместе со
своим замечательным помощником Н. А. Милютиным. А сменивший его на посту
министра П. А. Валуев (1861—1868) оказался как раз таким гибким, лавирующим
сановником, который, возможно, и нужен был колеблющемуся императору при наличии
очень сильной
43
консервативной оппозиции в верхах. Валуев, с одной стороны, провел почти все
благотворные реформы того царствования и открыто показывал свою неприязнь к
одиозным фигурам вроде М. Н. Муравьева-вешателя и М. Н. Каткова, но в то же время
он явно угнетал неофициозную печать, стал ограничивать результаты реформ, начатых
при нем же и т. д.; современники почти единогласно считали его достаточно
беспринципным фразером, а не человеком дела.
Объективно более деятельным реформистом (хотя внутренне не столь уж убежденным
либералом) стал последний при Александре II министр внутренних дел (1880—1881)
граф М. Т. Лорис-Меликов. Он активизировал и расширил замороженные было или
урезанные реформы, всячески пропагандировал земство как замену прежнего
приоритета дворянства, добился увольнения с поста министра народного просвещения
гр; Д. А. Толстого и замены его либеральным А. А. Сабуровым; добился ликвидации
печально знаменитого III отделения; подготовил так называемую «конституцию»,
первую робкую попытку создать всероссийскую выборную «общую комиссию»,
которая должна была, с совещательным голосом, помочь правительству завершить
великие реформы. Увы, уже одобренный царем план был вынесен на рассмотрение
Совета министров 4 марта 1881 г., но 1 марта Александр был убит народовольцами, а
обсуждение проекта 8 марта уже при Александре III закончилось его провалом, и
Лорис-Меликов ушел в отставку.
Революционные акции мешали проведению александровских реформ на протяжении
всего его царствования (слава Богу, их еще не было перед 1861 г.
2
, а то неиз-
2
Представления Ленина о двух революционных ситуациях, не перешедших в революцию: 1859—1861
гг. и 1879—1881 гг., о чем так много писалось в советское время, явно преувеличены и натянуты: до
1861 г. было немного крестьянских бунтов, они начались после объявления манифеста 19 февраля, и
революционные молодежные кружки стали создаваться после февраля; отдельные крестьянские
возмущения перед 1881 г. тоже никак не могли создать революци-
44
вестно, не задержалось ли бы освобождение крестьян еще на много лет). Великий князь
Константин Николаевич, назначенный в 1862 г. наместником Царства Польского, пытался
либеральными уступками, примирительной политикой сдержать польское
освободительное движение, но ничего не смог сделать. В январе 1863 г Польша восстала,
великий князь восстановил против себя царя, на которого он прежде имел все-таки
влияние. В 1863 г. наместником Царства Польского стал исполнительный генерал Ф. Ф.
Берг. А усмирять Литву царь назначил одного из самых суровых и жестоких сановников,
М. Н. Муравьева (он стал генерал-губернатором шести северо-западных губерний), чьи
действия, кажется, не имеют себе равных в европейской истории XIX века (массовые
казни, сожжение целых деревень, массовая ссылка в Сибирь на каторжные работы,
закрытие католических монастырей и т. д.). Именно при подавлении польского мятежа
Муравьев получил в общественном мнении приставку «Вешатель». Царь под давлением
этого общественного мнения потом (1865) уволил Муравьева, но после неудачного
покушения Каракозова в 1866 г. (стрелял в Александра у Летнего сада в Петербурге, но
ему помешал крестьянин Комиссаров) царь снова вспомнил о Муравьеве и назначил его
председателем верховной следственной комиссии по делу злоумышленника.
Муравьев люто ненавидел реформы, ненавидел либерала Валуева (взаимно!) — и таких
сановников было при Александре немало, но, пожалуй, самый из них матерый и
колоритный — граф Д. А. Толстой, обер-прокурор Святейшего Синода (1865—1880). Он
