Февр Л. Бои за историю
Подождите немного. Документ загружается.


284
Люсьен Февр. Бои за историю
Главиые аспекты одной цивилизации
285
Мы домоседы. Мы захлебываясь рассказываем о наших поезду
ках, о лихорадочных перемещениях в автомобиле, в самолете.
Это еще ярче свидетельствует о нашей укоренившейся потребно-
сти в оседлом образе жизни. Ибо все увеличивающаяся скорость
средств передвижения, их проворство и простота управления, Hft-
конец, их комфортабельность — вот что позволяет нам совершать
дальние вояжи без долгих отлучек. Как редко бывает теперь (для
большинства людей), чтобы нельзя было вернуться домой за со
рок восемь часов!
Горожане. Домоседы. А также изнеженные. Какое огромное
место заняло в нашем языке старое слово «confort» [помощь,
содействие], предшественник нашего «reconfort» [утешение, под-
держка ], ставшее для нас — после своего возвращения из Анг
лии — не более и не менее как «комфортом», нашим современ-
ным спесивым комфортом. Вот что заключено в этом слове, что
облегчает нам жизнь — материальные удобства: свет, который
зажигается и гаснет от движения пальца; атмосфера в помеще-
нии, не зависящая от времени года; вода, холодная или горячая,
какую захотим, льющаяся по нашему велению в любое время где
угодно; все это и еще тысяча чудес, которые нас не удивляют;
все это и то, каким становится благодаря этому наше тело;
и темперамент, который всем этим формируется; и болезни,
от которых нас все это избавляет, и болезни, которые нам все
это приносит; навыки труда и мышления, нравы и обычаи, спо-
собы думать и чувствовать, которые из всего этого вытекают:
да полно, разве это — нечто внешнее по отношению к нам, такое,
о чем не стоит говорить, что не стоит отметить?
В действительности все это нас связывает. Держит нас. Все
это делает нашу душу странной душой существ, прикрепленных
к месту и укрощенных. Горожане, домоседы, цивилизованные и
изнеженные, мы трижды рабы, мы трижды порабощены ненасыт-
ными потребностями, которые мы сами себе создали.
Люди XVI века были в этом отношении свободными.
Горожане ли они — люди XVI века во Франции, при Кар-
яе VIII, при Людовике XII, при Франциске I? Нисколько. Они -
сельские жители. Больших городов в современном смысле слова
тогда не было. Конечно, иностранцы, да и сами французы восхва-
ляли города Франции. Они прославляли Париж как одно из чу-
дес света. Но что представляли собою города?
Город XVI века? Вот он перед вами на старых эстампах того
времени, в космографиях, в сборниках планов городов. Мюнстер,
Бельфоре, Антуан дю Пине, Браун и Гогенберг '... Город ограж-
дают зубчатые стены с круглыми башнями. Наезженная, выбитая
дорога ведет к узким воротам, к подъемному мосту; днем и ночью
охраняет их стража. Справа — грубо сколоченный крест. Напро-
тив, на возвышении,— монументальная виселица (гордость горо-
(«ан), на которой дотлевают тела повешенных. Часто над воро-
е
.λMH на острие копья водружена — с соответствующим объявле-
рем — отрубленная голова, или рука, или нога, какой-нибудь
касный кусок человеческого тела, расчлененного палачом: это —
равосудие эпохи, имевшей крепкие нервы.
Г Наезженная дорога ведет к ворота«. За ними начинается ули-
ца! проложенная прихотливо и небрежно, со сточной канавой по-
среди проезжей части, с навозной жижей, вытекающей из отхо-
жих мест, в непролазной грязи, когда идет дождь, ни проехать,
ни рройти, а когда жарит солнце, такая пыльная, что не продох-
нуть. И все вперемешку: мальчишки, утки, куры, собаки, даже
свиньи (вопреки запрещающим указам) копошатся на ней.
Войдем в город и присмотримся. У каждой семьи свой дом,
в сельской местности. Как в сельской местности, при каж-
доме сад, позади строений, с грядками овощей, обсаженными
самшитом. И все как в деревне, потому что жизнь в городе —
это деревенская жизнь с небольшими лишь вариациями. В каж-
дом доме есть чердак с окном и с блоком для подъема сена,
соломы, зерна и зимних запасов продовольствия. В каждом доме
есть печь, в которой хозяйка со служанками еженедельно печет
хлеб. При каждом доме есть своя давильня рядом с погребом, ко-
орый в октябре полнится запахами молодого вина. Наконец, при
ом доме есть конюшня с верховыми и упряжными лошадьми
лев с быками, коровами, овцами, которых каждое утро в каж-
дом квартале пастух собирает звуками рожка, а вечером приго-
няет домой.
Вот город. Его заполонила деревня. Она вторгается даже
внутрь его домов. Она проникает в гостиную горожанина — вме-
сте с его арендаторами, когда они в положенные сроки достав-
ляют хозяину плоды его земли и ставят на лакированные плитки
пола свои корзины, отягощенные деревенскими приношениями.
Деревня входит в кабинет законника — прокурора или адвока-
та—в лице жалобщиков с зайцами и кроликами, петухами и ут-
з .
Тша
заполняет все комнаты летом охапками
ками в руках
цветов и зелени, разбросанными по полу или подвешенными под
печным колпаком, чтобы поддерживать влажную и настоенную
ароматами свежесть воздуха. Зимою она вторгается в комнаты
'олстою подстилкой из соломы, которую кладут на покрытый
плитками пол, чтобы сберечь тепло для людей и животных. Де-
ревня вторгается и в язык — в нем полно слов, связанных с де-
Фотографию с занятной картины XVI века, на которой изображен ка-
бинет прокурора с вереницей тяжущихся, в чьих корзинах лежат обыч-
ные в таких случаях приношения, можно увидеть в «Revue du XVI
e
îiecle» за 1922 год. Г-н Платтар воспроизвел этот снимок, сделанный
г-ном А. Лефраном, см.: Plattard J. Adolescence de Rabelais en Poitou.
P., 1923.
торый
кажд
и хле
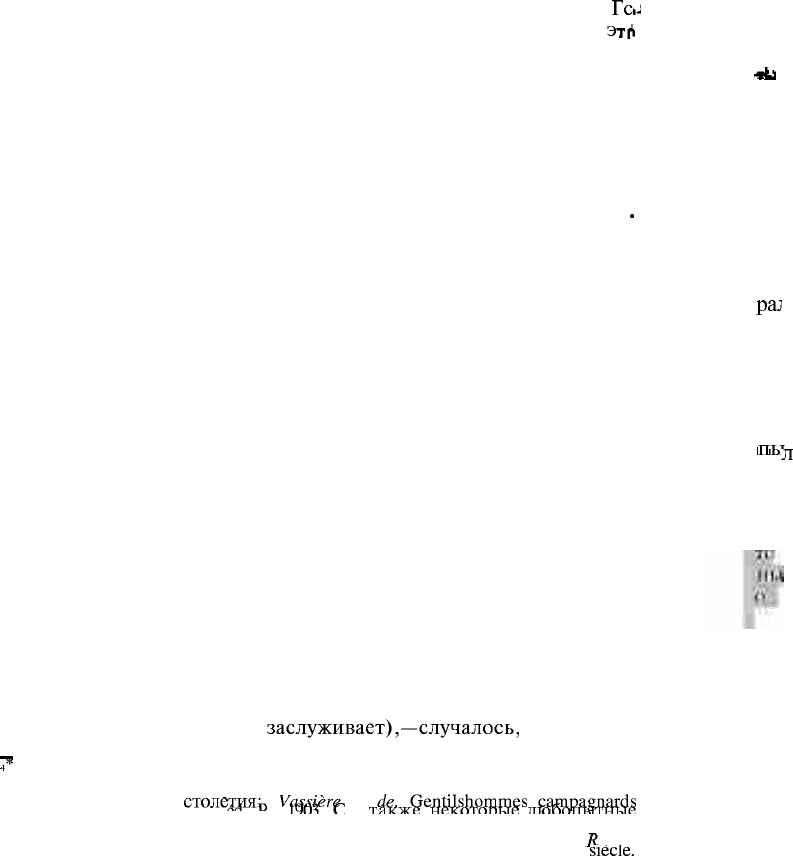
286
Люсьен Февр. Вон за историю
Главные аспекты одной цивилизации
287
ревенской жизнью. Счет временам года ведут по стрекотанш
цикад, по цветению фиалок, по созреванию хлебов на полях.
Гс
род, наполненный садами, огородами, зелеными деревьями,—
эт^
всего лишь деревня, несколько более густо заселенная. Жиз!
там не более лихорадочная и не более комфортная, чем в дерев-
не. Город не держит человека в плену.
II
Однако много ли людей жило в те времена в городах по срав-
нению с теми, что жили в сельской местности?
Крестьяне ли эти последние? Нет. Во всяком случае, не все.
Вся французская знать жила тогла в сельской местности
4
'
В своих замках и дворцах? Да, таковые существовали. И многие
из этих замков были замечательными постройками. Но отведите
на минуту взгляд от фасадов в античном стиле, от многочислен-
ных скульптур, от великолепно отделанного мрамора. Взгляните
на эти роскошные резиденции попросту глазами нанимателя, ос-
матривающего жилье. Все помещения расположены анфиладой,
они огромны, однообразны, нарезаны квадратами; глухая стена
впереди, глухая стена позади, окна в стене справа, окна в стене
слева. И если кто хочет пройти из одного конца этажа в другой,
нет иного способа, как миновать одну за другою все сообщаю-
щиеся между собой залы. Так обстояло дело не только во Фран-
ции. Бенвенуто Челлини в занимательных мемуарах рассказы-
вает нам о довольно забавных причинах ненависти, которую пита-
ла к нему, как он говорит, великая герцогиня Тосканы
**·*.
Когда
во Флоренции Козимо Медичи звал к себе во дворец любимого
скульптора, Челлини приходилось, оставив все дела, спешить к
своему государю. Очень торопливо, почти бегом, он входил в две-
ри, поднимался по лестнице и пускался в путь — туда, где пре-
бывал герцог. Он шел из залы в залу, через все помещения.
Но не все они были парадными. Некоторые предназначались для
дел особого свойства, даже очень особого свойства, и их посеща-
ла сама великая герцогиня собственной персоной. И случалось
порою, рассказывает Челлини (при этом он выражает не больше
удивления, чем дело того
заслуживает),—случалось,
что поме-
4*
Советуем обратиться к живому, хорошо документированному, хотя не-
сколько идеализированному и теперь уже давнему описанию деревен-
ской знати XVI
столетия;,
Уашегр
P.
T
rf^9entilshommes
„щшшшап^
de l'ancienne France. 2
е
' также некоторые любопытные
сведения, опубликованные другим знатоком: Maalde la Claviere
R.
de.
Les Origines de la Révolution française au commencement du XVI
e
siècle
.
P., 1889. P. 85-106. О последующем периоде см.: Ramier L. Le Royaume
de Catherine de Médicis. P., 1922. Наконец, можно сослаться на доку-
менты, использованные при написании девятой главы («Благородный
образ жизни») второй части нашей книги: Febvre L. Philippe II et la
Franche-Comté. P., 1912.
·« Cellini В. Oeuvres complètes / Trad. E. Leclanché. P., 1853. P. 153 sqq.
paj
•пы
mm
дения эти, когда он проходил через них, не пустовали и худож-
1ИК бывал вынужден, проходя, отвесить поклон высокой и могу-
эщественной особе (весьма поглощенной своим делом), которую
эзсезапное вторжение мужчины в наиболее потаенные апартамен-
4*j
должно было смущать самым неприятным образом. Но что
было делать Челлини? Великий герцог ждал его, а дорога была
твлько одна.
Это во Флоренции. В Уффици. Во Флоренции, которая по
сравнению с Францией того времени была образцом утонченности
и изысканности. Судите сами по этому маленькому примеру о
том, каковы были удобства в наших замках. В частности, можно
не сомневаться, что зимою там приходилось дрожать от холода.
МыГвосхищаемся монументальными печами, занимающими целую
стену в просторных квадратных залах. И у нас есть все основа-
ния! Особенно после того, как в замке было установлено цент-
ральное отопление. Люди XVI столетия тоже восхищались;
для этого им приходилось носить, не снимая, меховые одеж-
ды и шапки. Тщетно целая армия истопников таскала полные
короба хвороста и поленьев из одной комнаты, где стояла печь,
в другую такую же. Все топящиеся (и часто дымящие) печи в
замках Шамбор или Блуа не могли бы, конечно, удовлетворить
наше сибаритство. Поодаль от огня люди мерзли. А если огонь
л
ал, люди под навесом камина изнемогали от жары. Чтобы
избежать этих неприятных крайностей, они, естественно, остава-
лись весь день в одежде и в головных уборах: тепло одетыми и
в теплых шапках. У людей, которым холодно, вечно холодно в
своем жилище; у людей, чей дом является как бы частью откры-
того поля и не отличается от него разительно своим дружествен-
м теплом,— можно ли поверить, что представления этих людей
«доме», об «очаге», о семейном уюте были такими же, как у
нас,— людей, испорченных и порабощенных центральным отоп-
лением? Итак, предположим, что имеющиеся у нас представле-
ния о доме, о нашем очаге — что представления эти внезапно
теснены из головы и души современного человека,— и затем
измерим образовавшуюся от этого пустоту... Если представить
себе, чем были эти дворцы,— порою ловишь себя на том, что на-
чинаешь тихо бормотать речи брата Бернара Лардона *, амьен-
«кого монаха, посетившего Флоренцию вместе с Эвдемоном '*,
повторять за ним следом: этот порфир и мрамор прекрасны.
Не скажу о них ничего дурного. Но амьенские булочки, но ста-
рые аппетитно пахнущие харчевни, а уж юные красотки нашего
края...
Все это замечательные вещи, обслуга, потребление и ком-
Форт; во всяком случае, мы ценим их высоко, очень высоко...
Прозвище монаха (Lardon) означает «ломоть сала».
.* Гаргантюа в Пантагрюэль. Кн. 4 Гл. 11.
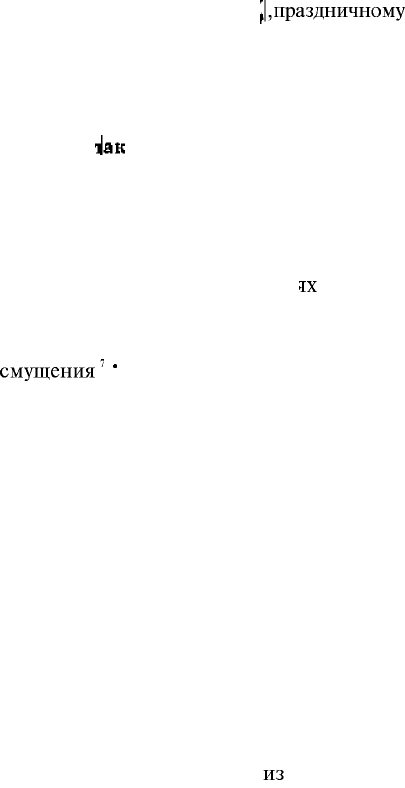
288
Люсьен Февр. Бои за историю
III
Впрочем, что касается замков Блуа, Шамбор, Шенонсо, AaaJ
Амбуаз, Уарон, Бонниве,— перечислить их недолго. Они — ис/
ключения. Обычно для дворянина, живущего не по-княжес
обиталище — усадебный дом, в котором он три четверти времен
проводит в одном помещении — на кухне. До XVIII века фра!
цузский дом не имеет особой комнаты — столовой. Людовик Xl
в обычные дни ест в спальне, за квадратным столом, лицом /к
окну. Сеньоры XVI столетия, более скромные, они обычно едят
у себя на кухне, которую в иных провинциях называют
«chauffoir» [обогревальня]. На кухне тепло. Или, точнее, не
^ак
холодно, как в других комнатах. Здесь постоянно пылает огонь.
Пахучий пар, вырываясь из кастрюль, создает атмосферу несколь-
ко тяжеловатую, но в общем теплую и уютную. Свежая солома
на плитах пола сохраняет тепло для ног. И, кроме того, на кухне
многолюдно. Люди живут локоть к локтю. А люди XVI века очень
любят так жить. Как все крестьяне, они терпеть не могут оди-
ночества. У XVI века понятия о стыдливости не такие, как у
нас. Ему совершенно неведома наша потребность в уединении.
В доказательство я упомяну только о размерах кроватей того
времени: это монументальные сооружения, в них укладывалось
порою множество людей, не испытывая стеснения и
смущения
7
"
Каждому своя комната — эта мысль принадлежит нынешнему
времени. К чему это? — сказали бы наши предки. Отдельная ком-
ната, предназначенная для того или иного,— это тоже современ-
ная выдумка. На кухне собирались все и делали все или поч-
ти все.
Прежде всего там восседали сеньор и его супруга в деревян-
ных креслах напротив очага. На скамьях — их дети, девочки и
мальчики. При случае — гости, приходской священник; слуги.
Под бдительным оком госпожи озабоченные служанки накрывали
стол, убирали после еды. Арендаторы, работники, поденщики,
возвращаясь с полей вечером, к обеду, изнемогающие от устало-
сти и покрытые грязью, приваливаются каждый к своему месту
в ожидании пищи. И вперемешку с людьми снует домашняя жив-
ность: куры и утки — под столом они у себя дома; охотничьи
птицы уселись на плечах охотников; собаки разлеглись у ног
хозяев на подстилке, под юбками женщин выкусывают у себя
блох или поджаривают себе бока, растянувшись возле пылающих
углей.
Ели медленно, сосредоточенно, с чувством простую пищу.
Хлеб, который редко был пшеничным. Густые мучные похлебки.
Большие миски пшеничной каши или сваренного в молоке проса
заменяли картофель, который не был еще известен, и отсутству-
'« Noël du Fail. Propos rustiques / Ed. E. Borderia. P., 1881. Ch. 6. P. 42.
Главные аспекты одной цивилизации-
289
ющие пироги. Чаще всего каждый клал перед собой «tranchoir» *.
Представьте себе круглый ломоть черствого хлеба, толстый и
\вердый. На него клали пищу, взятую пальцами с общего блюда.
1ясо, убоина, бывало редко: его подавали только на свадьбах и
|,праздничному
столу. Сало бывало чаще. Но постных дней было
виого, и таких дней, когда вовсе воздерживались от пищи и
пжтья, не говоря уж про долгий Великий пост, который соблю-
дался так строго, что из него выходили совсем ослабевшими. В те
вррмена мясо — это дичь и домашняя птица. Возбуждение, кото-
рое нам дают говядина и баранина, мясная пища, сопровождае-
мая спиртными напитками и вином; иллюзия силы и мощи, ко-
торую современный человек черпает в своей привычной пище;
кратковременная мобилизация нервов, которая в нашем совре-
менном обществе знакома самым тихим людям благодаря кофе,—
ничего этого в XVI веке нет. Единственное излишество — это
пряности. Тут не было никаких ограничений, только те, что на-
лагались состоянием кошелька,— ибо пряности на рыночных пло-
ix
Лиссабона и Антверпена стоили недешево. Однако эти
ди, которые не знают ни табака, ни кофе, ни чая, ни крепких
напитков и едва знакомы с говядиной, они подстегивали себя на
свой манер — воспламеняя тело с помощью перца, имбиря, мус-
катного ореха или горчиц, приготовленных по мудреным ре-
цептам.
Впрочем, они, по сути дела, проводят в доме немного времени.
Они приходят туда, чтобы поесть или когда льет сильный дождь
и полевые работы приостанавливаются. Они сидят дома, когда
наступает темнота и начинается вечерняя жизнь. Ночь... Никто
не знает, как одолеть ночную темноту. Что лучше всего освещает
кухню или комнату — так это пляшущие огни камина. Лампы?
Зловонные светильники, которые коптят, трещат, чадят отрав-
ляя воздух. Мы плохо представляем себе, что творится в какой-
нибудь обширной кухне после того, как в нее набилось два де-
сятка людей в рабочих одеждах и целый домашний зверинец
впридачу,— запахи животных, людей, пищи, кожаных гамаш, ко-
рые сушатся на огне, чад коптящих фитилей... Можно предста-
ить себе посреди всего этого — усердного мальчика, который хо-
тел бы позаниматься и почитать в своем уголке. Но возможно ли
это в таком кавардаке? На кухне никто не читает. Впрочем, че-
тыре или пять раз в году, когда уж слишком льет дождь и не-
чего делать, кто-нибудь с горя читает вслух какую-нибудь главу
^Ш
старого рыцарского романа в прозе. А иногда поздно вечером,
когда все улягутся спать, хозяин достает книгу, в которой ведет-
ся запись всех семейных дел и событий, или, водрузив на стол
* В современном французском языке этим словом называют деревянную
доску, на которой режут хлеб или мясо.
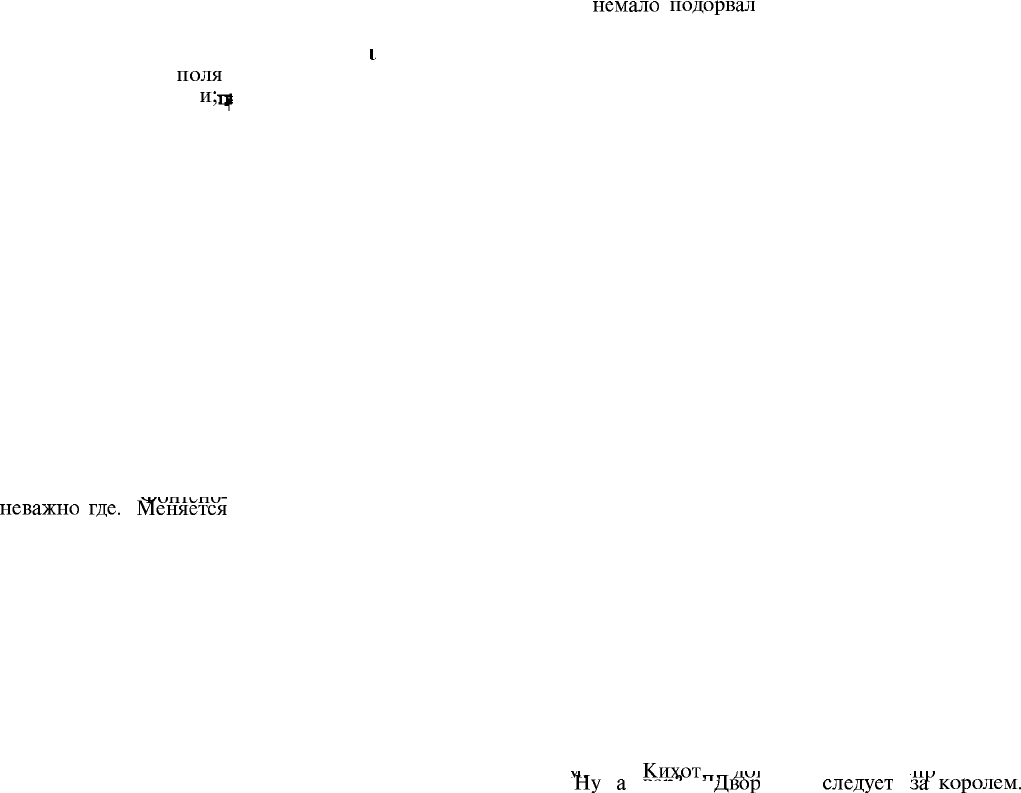
У90
Люсьен Февр. Бои. за историю
счеты с костяшками, принимается прилежно изучать свой бюд-
жет.
В сущности, настоящая жизнь этого человека и всех ему по-
добных заключается в том, чтобы обойти или объехать свои
поля
виноградники, луга, леса, обозреть свои владения, охотясь,
и;
поохотиться, обозревая их. В том, чтобы посещать рынки и я
марки, по-свойски толковать с крестьянами на их языке и м
предметах, которые одни только их и интересуют (легко дога-
даться, что это вопросы не политические и не метафизические!;.
По воскресеньям и праздничным дням этот простой в обращении
сеньор, во многих отношениях тот же крестьянин, только ран-
гом повыше, открывает бал вместе со своей супругой, кружит де-
вушек в пляске, а при случае — играет в шары, стреляет из лу
^
а,
сбивает наземь какую-нибудь птицу или развлекается борьбою
ладонь на ладонь.
IV
Однако — могут мне возразить — есть еще и двор: двор
Франциска I или даже раньше, двор Карла VIII, Людовика XII.
Да, конечно, есть двор. Поговорим о нем.
Двор! Какое слово! Оно вызывает у нас ослепительные виде-
ния: большие позлащенные залы, залитые светом, полные богато
разодетых сеньоров и дам, чье постоянное место обитания — по-
кои роскошных замков. Будь то Лувр или Сен-Жермен, Фонтенб-
ло или Шамбор или позднее Версаль
3:
неважно где.
М
еняется
только обрамление — и люди. Но двор — разве он не остается
двором всегда и везде? Место, доступное лишь для избранных,
средоточие пышности и блеска, где множество могущественных
особ, носящих на своих одеждах целые состояния, ведут жизнь
в роскоши и комфорте, все время на виду, среди непрерывных
празднеств и развлечений; конечно, это жизнь людей праздных
и бесполезных, но она не лишена некоторой умственной живости;
люди острят, сочиняют салонные стишки и бывают изощренно
язвительными.
Отлично. Но не хотите ли вместе со мною раскрыть на любой
странице толстую книгу **, в которой терпеливые ученые-эруди-
ты по датам писем и документов королевской канцелярии вос-
становили день за днем на протяжении тридцати лет царство-
вания Франциска I маршруты всех передвижений государя? Мы
остановились на 1533 годе; пусть будет этот, он не хуже и не
лучше других. 1533 год; королю недавно исполнилось сорок. Он
уже начинает седеть. Его взгляд стал тяжелым, нос вытянулся.
Парижские (и всякие иные) дамы оставили суровый след на
внешности галантного короля. А конфуз, приключившийся не
** Catalogue des Actes de François I: Collection des Ordonnances des rois
de France. T. 8. Itinéraire. P. 481 (1533).
Главные аспекты одной цивилизации
291
\так давно в Павии
4,
немало
п
одор
вал
его
престиж и обаяние,
ртак, 1 января 1533 года; Франциск I пребывает в Париже,
i
Лувре. Он провел там весь декабрь и пробудет еще январь и
февраль. Три месяца подряд на одном месте: подобное постоян-
;тво достойно удивления. Такое повторится нескоро. Ибо в марте
Король уже в пути. Сначала он объедет области Валуа и Суас-
сона. 7 марта король в Ферте-Милоне* 9-го в аббатстве Лонпон;
10-го в Фер-ан-Тарденуа; 15-го в Суассоне; 17-го в Куси. Затем
он направляется на север: 20-го он приезжает в Марль и ла Фер;
21-го в Рибемон; 22-го в Гиз; 24-го в Марль. Но его влечет Шам-
пань. 28 марта он прибывает в Сен-Маркуль де Корбени; 29-го
в Кормиси; 30-го в Реймс; в городе, где королей венчают на цар-
ство, он задерживается недолго. 3 апреля он через Фер-ан-Тар-
денуа прибывает в Шато-Тьерри. Он остается там на 3 дня.
7-го он уже в Mo; но идет Страстная неделя, близится Пасха:
король на праздники остается в Mo. Только 19-го он приезжает
в Фонтенбло; там он проводит неделю. 26-го через Монтаржи и
Шатильон-сюр-Луэн он прибывает в Жьен. Оттуда он направ-
ляется в Бурж, прибывает туда 2 мая, проводит там три дня, за-
тем отправляется в поездку по Бурбонне; через Иссуден, Мей-
лан, Серильи, Бурбон-л'Аршамбо Франциск I добирается до Му-
лена; он приезжает туда 16-го и живет там четыре дня. Затем
через Роанн он направляется в Лион, куда и прибывает 26 мая.
О чудо, он останавливается! Он проводит в Лионе около месяца,
совершая, правда, вылазки в его окрестности. В конце июня он
покидает город, проезжает через Форе, въезжает в Клермон-Фер-
ран 10 июля, разъезжает по Оверни, из Риома — в Иссуар и Вик.
Через неделю он в Велэ. 17 июля он ночует в Полиньяке; 18-го
он в Пюи, где проводит два дня; 24-го в Родезе; 25 июля он на
пути в Тулузу, где остается на неделю в начале августа. 9-го он
прибывает в Ним; 29-го он в Авиньоне и проводит там двенадцать
дней; 15 сентября приезжает в Арль; 21-го в Мартиг, 22-го в
Мариньяну. 4 октября он въезжает в Марсель... Остановимся.
От этого чудовищного перечня мы устанем раньше, чем Фран-
циск I от своих переездов. И это король? Скорее можно было бы
сказать, что это рыцарь, странствующий, как паладин из романа,
по горам, по долам. Дон
Кихот,
дополненный и исправленный
Вечным Жидом
5.
Н
у
а
дво
р
?
Дво
р
— он
следует за
ко
р
олем
.
Двор — на больших дорогах, в лесах, на берегах рек, на возде-
ланных полях. Это не двор, это караван. Точнее сказать, войско
на марше. Вот «передовой отряд», который выступает загодя,
чтобы все устроить и подготовить к прибытию государя; в этом
отряде — королевские заготовители продовольствия, квартирье-
ры, отмечающие мелом дома, предназначенные для ночлега, и все
племя поваров — специалисты по соусам, по жареному мясу, пи-
рожники — верхом на лошаденках, купленных благодаря коро-
левским щедротам. Рано утром передовые трогаются в путь и
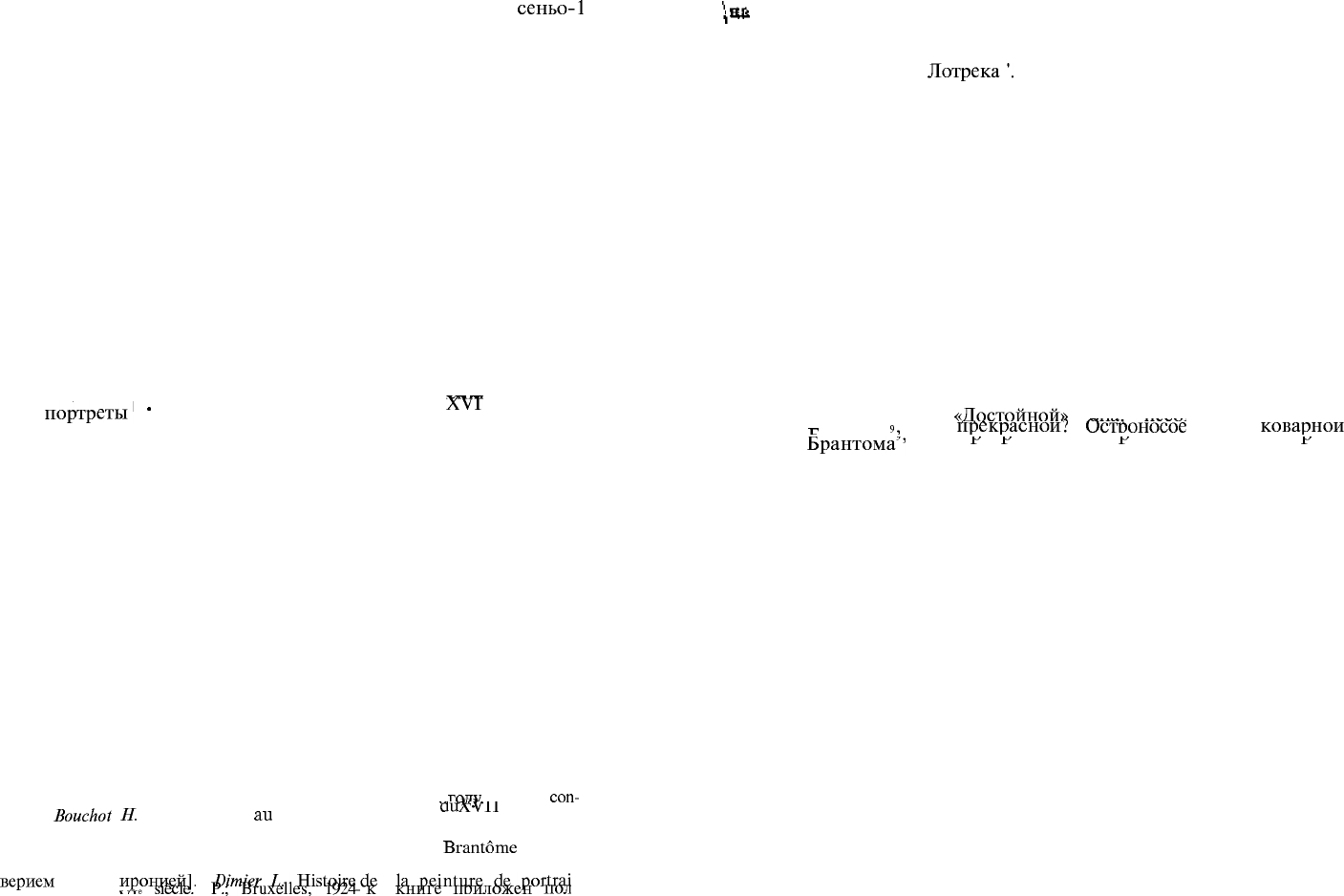
292
Люсьен Февр. Вой. за историю
спешат к месту будущего привала — таким местом мог стать про-
стой деревенский дом, жилище дворянина, дворец крупного
сеньо-1
pa... Если, конечно, таковые попадались на пути, потому что ко-/
роль, если понадобится, может довольствоваться своей палаткой,)
которая всегда следует за ним на спине мула и которую могут
разбить где угодно по прихоти государя '* на опушке леса, в чщ
стом поле, посреди луга.
Передовой отряд ушел, теперь приходят в движение главные
силы. Сначала король и его свита: охрана, сановники, придвор-
ные. При его проезде звонят колокола, священнослужители су-
етятся, крестьяне, завидев издалека кортеж, бросают работу и
устремляются поближе к нему. В центре ослепительной каваль-
кады проезжает король, когда — верхом на коне, когда — в кон-
ных носилках, покачиваясь в такт шагам крепких мулов. Следом
за королем — дамы, совершающие переход наравне с мужчинами
и ведущие по примеру государя походную жизнь солдата;
к ней в конце концов привыкают, входят во вкус, и если такую
жизнь ведут долго, то испытывают к ней своего рода странную
тягу; как бы там ни было, это не спокойная жизнь, она не для
неженок.
Впрочем, дамы того времени отнюдь не неженки... У нас
есть их
портреты'
' Известно, какое пристрастие
XVI
век имел
к собраниям карандашных рисунков, на которых умелые или не
очень умелые рисовальщики изображали самых 'знатных и кра-
сивых дам французского двора. Такие альбомы мы находим по-
всюду, вплоть до краев самых отдаленных. Когда их листаешь —
сколько разочарований! В писаниях современников этих дам мы
читаем тысячи самых пылких восхвалений. Дамы несравненной
красоты — вот они все, какими сохранил их, например, знамени-
тый сборник Монмора в библиотеке городка Экс-ан-Прованс;
составление этого сборника до недавнего времени приписывали
·* Эти и дальнейшие подробности извлечены из различных счетов, опуб-
ликованных в «Каталоге документов Франциска I». Как ни странно,
нет специальных работ, посвященных французскому двору той эпохи.
Для последующего периода можно найти некоторые сведения у М. Де-
яоша (Deloche M. Les Richelieu, le père du Cardinal. P., 1923). Франсуа
дю Плесси, отец Кардинала, был назначен в 1578 году прево короле
ского дворца и одновременно главным прево Франциив
;
в его руки управление королевской резиденцией и всем, что к ней от-
носилось, а также судебную власть над придворными чиновниками и
слугами. Делош пишет об этом во второй главе своей книги, совершая
иногда экскурсы во времена, предшествовавшие 1578
ГОДУ
.
con-
">* См.:
Bouchot
К
Les Portraits
аи
crayon du XVI
е ет Ш
*
Vn
servés à la Bibliothèque Nationale (1884); Idem. Quelques dames du XVI
e
siècle et leurs peintures (1888); Idem. Les femmes de
Brantôme
(1890).
Две последние нужно читать cum grano salis [здесь: с некоторым недо-
верием
или
ирон^.
^>^
п
Ь\М}
5
ШЯ
-Ф
]Ы$&Ш
France au XVI ' '
каталог карандашных рисунков и портретов XVI века.
Главные аспекты одной цивилизации
293
г-же де Буасси, жене обер-гофмейстера. Вот рукописные девизы
\ал
портретах. Начнем с фаворитки, мадам де Шатобриан, подру-
ги короля, подруги Бонниве, подруги многих других, которые
вовсе не прятались; более чем преданная сестра Лескена, Лес-
nappa, злосчастного
Лотрека'.
Смотрим на портрет красавицы,
которой так добивались: довольно плотная блондинка, широкое
алоское лицо, не слишком красивые плечи... Правда, девиз
оставляет нам некоторую надежду: «Вылеплена лучше, чем на-
рисована». Вот мадам де Лестранж; ее имя во всех мадригалах
того времени рифмуется с «face d'ange» [ангельский лик] — ее
довольно выразительное лицо, кажется, вырезано ножом из не-
податливого дерева. Но Диана де Пуатье, жена великого сене-
шаля? * Говорят, она дарила любовные утехи сыну, Генриху II,
после того как дарила их его отцу, Франциску I: редкостная
участ-ь для придворной дамы. Нужно было быть очень обольсти-
тельной особой, чтобы продлить власть от одного царствования
до другого, притом власть над столь несхожими воздыхателями!
В работе Луи Димье «История портретной живописи во Франции
XVI века» посмотрите лист семнадцатый, посвященный иконо-
графии великой фаворитки. «Прекрасная для взгляда, достой-
ная поклонения»,— гласит девиз под ее портретом в монморов-
ском сборнике. Увы!
«Достойной»
она, несомненно, была —
^
9,
но
прекрасной:
Остгюносое
лицо
коварной
в духе
Брантома'
* * * *
женщины, рано появившиеся мешки под глазами, большой изви-
вающийся рот с тонкими сухими губами — такою нам показы-
вает ее не один, по меньшей мере пять или шесть карандашных
рисунков, сделанных с 1525 по 1550 год. При всем желании при-
писать любовному чувству наших предков собственную эстети-
ку мы не можем найти в этой женщине ни очарования, ни бла-
городства, ни изящества, ни красоты "*.
Странное дело, в этих изображениях знатных дам, высоко-
родных принцесс, признанных фавориток — почти никогда не
чувствуется порода. Или, вернее, в этих придворных дамах
видна порода простонародная и неухоженная. Будем, однако,
справедливы: как могли они сделать свои лица утонченными или
даже просто сохранить свою прелесть, живя в непрестанных пе-
реездах верхом, под открытым небом, под северным ветром, под
всеми ветрами, под дождем, под снегопадом, без длительных
остановок, многие недели без настоящего отдыха, ночуя где при-
дется, в чужик домах... Когда придворные дамы хмурою свитой
следовали за королем, все их разглядывали. Самые старые дрем-
"· «Вытянутые рот и нос, а также постоянная гримаса, свойственная
лицам, над которыми вволю потрудились притирания и румяна, делают
ее неприятной и едва ли не смешной; морщины у подбородка, след-
ствие возраста, сочетаются у нее с угловатой худобой» (Dimier L. His-
toire de la peinture... P. 55). Сказано достаточно, чтобы развеять наши
сомнения и снять с нас упрек в чрезмерной суровости суждения.

294
Люсьен Февр. Бои за историю
лют в глубине своих конных носилок; другие покачиваются на
своих кобылках или едут, втиснувшись кое-как в безрессорные
повозки, влекомые по бездорожью; они бывали счастливы, если
путь лежал по реке и река несла их, отдавшихся ее течению,
между плоскими берегами, в битком набитых наемных барках...
Двенадцать тысяч лошадей. Три или четыре тысячи человек,
не считая женщин (из которых не все были женщинами достой-
ного поведения). Этот двор составлял небольшую армию, живу-
щую своей особой жизнью, снабженную всем, что ей было нуж-
но. В своем движении она увлекала за собою торговцев всевоз-
можными товарами; они находились под покровительством и под
началом главного прево и имели монопольное право продавать
придворным; эта армия влекла за собой поставщиков продоволь-
ствия: мясников, торговцев птицей, рыбой, зеленью, фруктами,
хлебом; торговцев вином оптом и в розлив, поставщиков сена,
соломы, овса; толпу псарей, доезжачих, служителей при соба
ках, сопровождающих тележки с сетями и ловушками; соколь-
ничьих. Люди, прислуживающие за столом; два иноходца, на ко-
торых едут бутылки для королевской трапезы, для обер-гофмей-
стера и камергеров; повара и фигляры королевского дома, раз
влекающие короля в отведенные для этого обычаем дни весе-
лыми плясками; наконец, скороходы и конные гонцы, дюжие
наездники, всегда готовые скакать во весь опор из самой глуби-
ны Оверни или Бургундии к ближайшему морскому побережью
за устрицами, мидиями и морской рыбой — чтобы король мог
поститься. Необходимость постоянно следовать за этим «лету-
чим лагерем» приводила в отчаяние итальянских послов. Один из
них, Марино Джустиньяно, ставший послом при короле в 1535-м,
то есть два года спустя после 1533 года, о котором мы писали
выше (приведя подробный перечень королевских перемещений),
пишет в донесении венецианскому сенату: «Мое посольство про-
должалось сорок пять месяцев... Я почти все время был в пути...
Ни разу за это времядвор не оставался на одном месте и двух
неоставалсянаодномместеидвухнедель кряду...»
lF
^^
е
*
м
'
что из
тех
'
&о
сопровождали
двор, дипломаты, несомненно, находились в наименее выгодном
положении. Не только потому, что король, не очень-то стремив-
шийся встречаться с этими соглядатаями (которых сама их про-
фессия побуждала интересоваться тщательно скрываемыми сек-
ретами) ,— король всячески старался затруднить им жизнь,
держать их в неведении относительно маршрутов, своих переме-
щений, всячески старался избегать их под предлогом охоты или
внезапного отъезда, но и потому, что они были обязаны нахо-
диться там постоянно и возможно ближе к королевской особе.
Сеньоры — те были менее усердны. Лишь немногие из них не-
"* Relations des Ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVI
e
siècle/Trad. J. Tommaseo. P., 1838. T. 1. P. 107-108, 559-561.
Главные аспекты одной цивилизации
295
отлучно следовали с королевским поездом несколько месяцев
кряду. Большинство дворян — я имею в виду тех, кто принад-
лежали уже к придворному миру,— ежегодно проводили при мо-
нархе по нескольку недель. Но они покидали свои замки и усадь-
бы с тем, чтобы вернуться. Они возвращались к себе при первой
возможности. Там они отдыхали, приходили к себе, в то время
как король Франции, сидя на коне, продолжал свое странствие —
с Севера на Юг, с Востока на Запад, из Арденн в Прованс, из
Бретани в Лотарингию — странствие, начавшееся тотчас после
коронации и кончившееся с его смертью...
Какие из этого выводы? Выводов не будет. Эти страницы име-
ли одну только цель — показать читателю, чтобы ввести его в
курс событий, несколько картинок из французского XVI века,
несколько зарисовок времен Людовика XII и Франциска I. Кар-
тины, конечно, довольно неожиданные и способные вызвать
удивление. Они, если можно так выразиться, показывают нам в
движении некое человеческое общество, которое, несомненно, де-
лает то, что люди делали извечно, вращаясь в извечном круге
бытия. Однако (если только я не совсем заблудился в своем по-
вествовании) я надеюсь, вы увидели и почувствовали по ходу
дела, что в XVI веке кружение это было не таким, как ныне...
Абстрактный человек был таким же, как теперь? Может быть.
Этого я не знаю. Историк и абстрактный человек друг с другом
не встречаются, нигде и никогда. История живет реальностями,
а не абстракциями. Конкретный человек, живой, из плоти и
крови,— француз из французского XVI столетия — и мы, фран-
цузы XX века: между нами мало сходства. Этот сельский житель,
кочевник, человек грубый и неотесанный — как он далек от нас!
К тридцати годам, когда он достигал расцвета сил,— каких толь-
ко опасностей он не преодолел, каких испытаний не перенес!
Прежде всего, он выжил. Он миновал, не погибнув, первые шест-
надцать лет своего существования — за это время погибал каж-
дый второй ребенок (по самой скромной оценке)
|3
'
свидетельствуют книги семейных записей, где сообщения о смер-
ти детей повторяются через каждые две строчки, как удары по-
гребального колокола. В более позднем возрасте он выстоял, не
погибнув, против всех смертельных поветрий (называвшихся од-
ним общим словом «la peste» — мор), которые каждый год уно-
сили жизни многих тысяч людей цветущего возраста; порою за-
болевание свирепствовало с особой яростью, и это сопровожда-
лось подлинными гекатомбами... Горожанин, буржуа той эпохи,
столь далекий по роду своих занятий (если мы будем представ-
<з"' Обстоятельных исследований по демографии во Франции XVI века нет.
За отсутствием таковых общие аспекты проблемы см.: Mathorez A.
Les étrangers en France. P., 1919. T. 1.
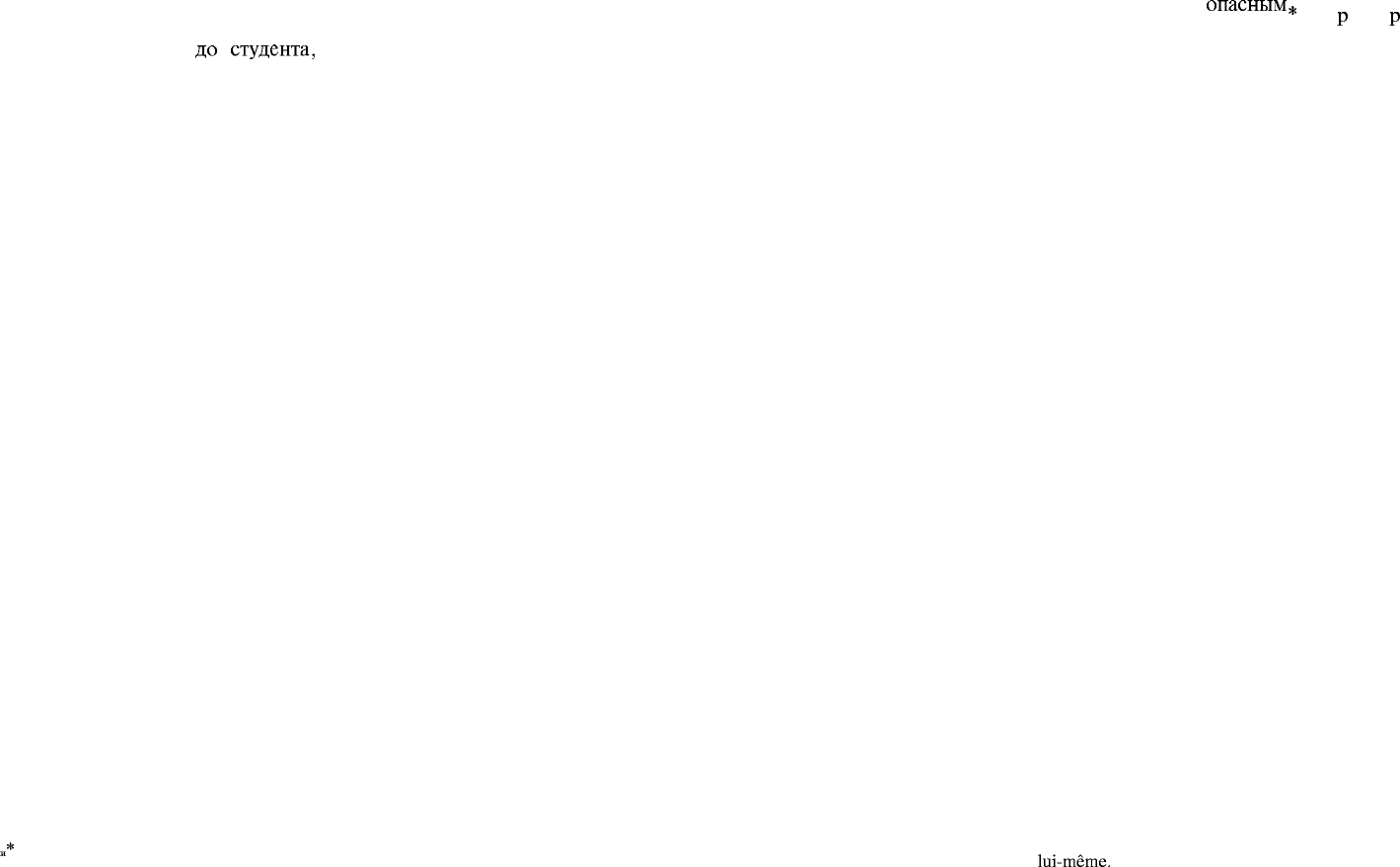
296
Люеъеп Февр. Вой ав историю
лять его себе в соответствии с современным смыслом слова
«буржуа») — столь далекий от воинского ремесла и бивачной
жизни,— он сотни раз рисковал своей жизнью, как солдат. Не
только потому, что, когда враг осаждал его город, ему приходи-
лось бежать на городские укрепления, подхватив свой шлем и
бердыш и драться там наравне со всеми; но попросту потому,
что он путешествовал, потому что он сын века, когда все путе-
шествовали "* — от чиновника до купца, от подмастерьев
«Tour de France»
10 до
ст
уд
ента
,
отправляющегося в Италию,
«в школы ПаЬии и Падуи», который, прежде чем отправиться в
путь, пишет завещание... А в ближнем лесу — нельзя без трево-
ги смотреть на его темные лохматые чащи, поднявшиеся на ши-
роких холмах,— сидит в засаде разбойник и подстерегает оди-
нокого или плохо вооруженного путника; на подозрительном по-
стоялом дворе, куда добираются вечером на пределе усталости,—
там бродяги, похожие на висельников, угольщики, с черными
руками, с грубыми жестами, с пугающими ухмылками, потихонь-
ку заполняют комнату и напиваются. Ночь приходится провести
не ложась в постель, в убогой комнате без огня в очаге и без
освещения, с обнаженной шпагой, лежащей наготове на тяжелом
столе, придвинутом к плохо закрывающейся двери; из этого дома
убираются поскорей, чуть забрезжит рассвет, не требуя у хозяи-
на сдачи, и хорошо еще, если жулики не увели лошадей...
Жизнь в те времена — постоянное сражение. Человека с че-
ловеком. Со стихиями. С враждебной и почти дикой еще приро-
дой. И у того, кто вышел победителем из этого сражения, кто
достиг зрелости, не подвергшись слишком большим злоключени-
ям и напастям,— у того твердая кожура, у того толстая кожа,
дубленая шкура — в прямом и переносном смысле. Быть может,
под грубой внешностью били родники нежных и тонких чувств?
Мы этого не знаем. И никогда не узнаем. Наша ретроспективная
история чувствований должна ограничиться регистрацией внеш-
них проявлений, не более того. А то внешнее, что мы наблюдаем
в XVI веке,— часто беспощадно и сурово. В семье умирает ребе-
нок, два ребенка, пять детей и нежном возрасте, унесенные не-
ведомыми болезнями, которые не умеют отличить одну от дру-
гой, которые никто не умел тогда ни распознавать, ни лечить;
сухое свидетельство из семейной книги, просто дата, сообщение
о факте, после чего автор записи, отец, переходит к какому-
нибудь более значительному событию: сильные заморозки в ап-
реле, уничтожившие надежду на хороший урожай, или земле-
трясение — предвестник великих бедствий. А супруга? Ее почи-
тают за добродетели, уважают за женскую плодовитость, иногда
хвалят за хозяйственные таланты. Но если она умирает, оставив
мужу слишком мало детей — не более пяти-шести, он очень
и*
См. в наст, издании «Торговец XVI столетия».
Главные аспекты одной цивилизации
297
быстро, не теряя дорогого времени, женится снова: ведь нужно
добрать по крайней мере до дюжины, а то и превзойти это чис-
ло, и порядком. Так что если деревенская женщина-крестьянка,
оставшись вдовой, выходила снова замуж, то для ее детей это в
большинстве случаев означало, что нужно уходить, поступать в
услужение или заниматься ненадежным и
опасным
* нищенством
на дорогах. Томас Платтер в суровых «Мемуарах
15
' ^ ^
сующих времена столь невероятные (при том что от нас его от-
деляет жизнь нормальной продолжительности всего семи или
восьми поколений),— Томас Платтер рассказывает — как будто
речь идет о чем-то вполне естественном — и не выражает при
этом ни малейшего удивления, что, когда умер его отец, а он
тогда был маленьким ребенком, его мать вскоре снова вышла
замуж. И ее дети сразу же разбрелись, настолько быстро, что
Платтер признается: ему просто-напросто неизвестно, сколько в
точности было у него братьев и сестер. Порывшись в памяти,
он припоминает имена двух сестер и трех братьев, о которых ему
кое-что известно — что с ними сталось; а остальные? Его само-
го приютила тетушка. О матери он ничего не знает. Это, конеч-
но, нравы крестьянские, простых крестьян из дикого Вале. Од-
нако были ли более мягкими обычаи крестьян в наших краях?
Поистине все то, что так крепко держит нас за душу и так
сильно нас привязывает: наш семейный очаг, отчий дом, наша
жена, дети — все это человек XVI столетия считал, по-видимому,
лишь преходящими благами, от которых он в любое время был
готов отступиться. И очень часто — отступиться без достаточных
причин, в силу какой-то неясной потребности в странствиях,
замешанной на старой закваске бродяжничества и крестовых по-
ходов... Раскроем одну из настольных книг любого историка, за-
нимающегося XVI веком, небольшую, но такую содержательную
книгу «Разговоров» Эразма. Перед вами за столом четверо мужчин,
четверо добропорядочных буржуа, миролюбивые домоседы, удач-
но женатые и обеспеченные; вечерком они выпивают в друже-
ском кругу. Они выпили немного больше, чем следует, и вино
разгорячило им головы. Вдруг один из них говорит: «Кто меня
любит, пойдет со мной... Я отправляюсь в паломничество к свя-
тому Якову Галисийскому "...» Внезапный порыв пьяного чело-
века. Тут поднимается второй собутыльник: «А я отправляюсь
не к святому Якову Компостельскому: я пойду в Рим». Однако
третий и четвертый приятели восстанавливают согласие: сначала
пойдем к святому Якову, в дальний угол Галисии, а оттуда до-
беремся до Рима... Они попутешествуют на славу. Большой ку-.
бок наполнен вином и пущем вкруговую. Каждый пьет в свой
черед. Итак, договор скреплен, обет принесен по всем правилам;
is» Отсылаем читателя к их французскому переложению: Fick E. La vie de
Thomas Platter écrite par
lui-même.
Genève, 1862.
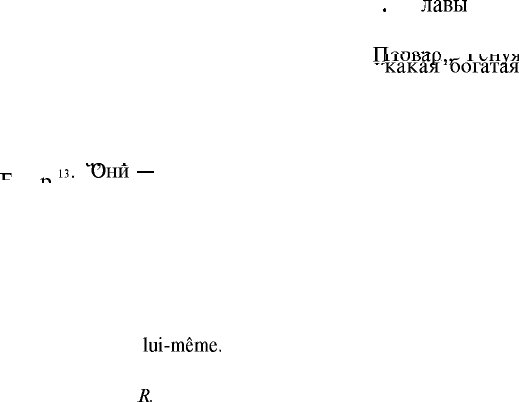
298
Люсъен Февр. Бои за историю
отступать некуда. Вино выпито, нужно отправляться в путь.
Отправляются. Один из паломников погибает в Испании; дру
гой — в Италии; третьего во Флоренции на смертном одре бро-
сает четвертый, он один только и возвращается домой по истече-
нии года, измученный усталостью, одряхлевший и разоренный...
Что это, вымысел? Ни в коем случае. Это — нравы того времени,
которое отнюдь не похоже на наше.
Припомним еще раз его черты, его особенности. Будем дер-
жать их перед глазами, в памяти, когда попытаемся понять
«дела XVI столетия». Не забудем, что все мы в той или иной
степени, хотим мы того или не хотим,— дети теплицы. Человек
XVI столетия вырастал под открытым небом, открытый всем вет-
рам.
УСТРЕМЛЕННОСТЬ К ЗНАНИЮ
Когда мы говорим: «XVI век» — мы говорим: «Возрождение».
Но что такое Возрождение? Что такое Гуманизм? Каковы их
истоки — во времени, в пространстве? Когда начинается Возрож-
дение во Франции? В Италии? В Германии? Откуда оно взялось
и не было ли Возрождений до Возрождения? Все это вопросы,
несомненно, важные и заслуживающие изучения. Безусловно,
так, но хватит ли одной лекции для их рассмотрения? Конечно,
не хватит. Поэтому, оставив в стороне теории, дискуссии прин-
ципиального характера, противоречия между научными школа
ми,— давайте прямо посмотрим в лицо человеку: человеку дере-
венскому, неотесанному, кочевому — человеку французского Воз-
рождения.
То, что прежде всего можно увидеть, что читается на этом
лице — честном и твердом, обветренном на свежем воздухе, вы-
дубленном солнцем и дождями,— это неиссякаемая добрая воля,
слуги которой — крепкие нервы, не слишком утонченные и от-
нюдь не перевозбужденные, и неисчерпаемое здоровье крестьян-
ского тела с широкими, слегка сутулыми плечами.
Итак, представим себе, что этот человек засел за учебу. Что
из него получится? A priori можно сказать: scholar [школяр,
здесь: зубрила]. Я хочу сказать: этот человек выучит все, что
можно выучить. Он будет учиться с особой упрямой одержи-
мостью, с немою яростью, подобный виноградарю, вытаскиваю-
щему наверх в тысячный раз корзину с землей, которая все
сползает вниз на его винограднике,— под палящим солнцем, под
беспощадным ливнем; или подобный косарю на лугу, кладущему
траву — ряд за рядом — движениями ритмичными, неутомимыми,
вечными.
Этот человек, знающий, как трудно достается учение; это
дитя вольного воздуха, согнувшееся над трудной сидячей каби-
нетной работой, будет испытывать почтение к знанию, своего
Главные аспекты одной цивилизации
299
рода благоговение, подобное тому, какое испытывают его родите-
ли и он сам к такой священной вещи, как. пища, как хлеб, доб-
рый пшеничный хлеб. Старина Вире, реформатор франкоязыч-
ной Швейцария, рассказывает нам — страница эта полна очаро-
вания "*, — что ребенком, у себя на родине, в Орбе, слыша, как
:шонят колокола, он отлично знал, что они говорят и повторяют
своими мерными ударами: его ма'ть открыла ему эту великую
тайну. Колокола Орба звонили о чем-то очень французском:
«Потеряешь хлеб — будешь крепко бит». И малые дети на пути
в школу повторяли про себя: «Потеряешь хлеб — будешь крепко
бит». Простой человек, сын крестьянина, упорным трудом добу-
дет себе и хлеб духовный: уж будьте уверены; в XVI веке — та-
кой человек не даст пропасть ни единой крошке. Добавим: этот
человек будет предаваться работе целиком, без остатка. Он не
станет беречь себя. Он отдаст себя учению с такой наивной и
упрямой верой, так добросовестно — в точности как остервенев-
ший от работы крестьянин, который не засмеется, пока не за-
кончит ее.
Поразмыслим. Так ли плохо согласуются эти черты с тем, что
нее мы знаем о литературе, об умственной жизни XVI столетия?
Только не будем спешить. Ибо основной вопрос таков: почему
этот человек учится? Этот мужлан, закоренелый неуч? Что дви-
жет им? Что побуждает его к учению? Отвечаем: мир. В первую
очередь — мир.
1
В конце XV — начале XVI столетия Франция имела то, что
она всегда ценила высоко; две вещи, к которым стремилась с
равной страстью: славу и безопасность *
7
"
лавы
было
выше
головы. Итальянские кампании принесли Франции обильный
урожай военной славы. Форново, Милан,
Повара,
Генуя, Анья
-
дель, Равенна, а затем и Мариньяно
12 —
кака
я
богатая
жатва!
Сердца предков, баронов стародавних времен, отправлявшихся в
крестовые походы, должны были забиться от радости в их моги-
лах. Теперь эти старики возродились в таких, как Ла Тремуй,
Гастон де Фуа, Тривульцио — и высящийся над ними во весь
-с
п
13
-
Т)ни
—
эпические герои, и восхищаются ими тем
рост Баярд
сильнее, чем дальше от Франции милой совершают они свои
героические деяния... За подвижными, меняющимися рубежами,
протянувшимися по территории Италии, дела у торговцев идут,
и крестьяне работают не покладая рук...
Да, у торговцев и крестьян работы хватало. Английские
вторжения, грабежи, чинимые солдатней и бандитами; позже —
le* pierre Viret d'après
lui-même.
Lausanne, 1911. P. 4.
"* Эта мысль была высказана Р. де Мольд ла Клавьером в его местами
странной, но полной полезных сведений и ярких наблюдений книге:
Maulde la Claviere
R.
de. Op. cit. P. 3.

300
Люсъен Февр. Вой за историю
беспощадный деспотизм и безжалостное налоговое обложение
при Людовике XI за долгие годы разорили и обезлюдили Фран-
цию. В 1470 году, даже в 1480 — всюду развалины; поля не
вспаханы; деревни покинуты и сожжены; волчьи глаза светят-
ся в зарослях колючего кустарника, а посреди разрушенных до-
мов — пустой остов церкви с полуобвалившимися стенами, точ-
но мертвец с отлетевшей душой... Пройдет тридцать лет, и при
Людовике XII — всюду мир, богатство, изобилие, земля оде-
лась в белый наряд домов, церквей, новых дворцов и замков '"*.
Люди повеселели. Они едят. Они смеются. Они пляшут. Это -
мир, высшее благо, благо из благ. Юность века — и все на
свете рукописи, все документы двух древних культур смогли
воспрянуть после долгого сна; если бы не установился мир, если
бы не было богатства, благополучия, безопасности — кто стал бы
думать об учении?
Это еще не все. Кому пошли на пользу покой и безопасность?
Знати? Ни в коем случае. Она как раз начинает клониться к
медленному и долгому упадку и постепенно становится ничтож-
ной — или покорной. Знатные люди не могут, не должны зара-
батывать деньги. Они не хотят, не умеют их беречь. Они сорят
деньгами и обрастают долгами. Вскоре, если король не придет
им на помощь, тех, кто не ухватился за какую-нибудь долж-
ность, какое-нибудь доходное место, какую-нибудь пенсию, ждут
нищета и вырождение.
Кому мир принес большую пользу — так это горожанам. Под-
нимается новый класс — буржуазия. И по многим причинам, но
в первую очередь потому, что постепенно формируется госу-
дарство современного типа, с профессиональной бюрократией и
обособленными функциями и службами, испытывающее нужду в
сведущих людях и квалифицированных специалистах в области
правосудия, управления, дипломатии, особенно — в финансах.
Профессионалы — они происходят из знати? Нет, за несколькими
редкими исключениями. Это буржуа и лица духовного звания -
те из них, кто были носителями буржуазной культуры; это они
взяли в свои терпеливые и умелые руки государство современно-
го типа и его службы, чтобы оно могло функционировать и про-
цветать. У них есть деньги. Они могут одалживать деньги коро-
лю. Они умеют распоряжаться своими деньгами к выгоде короля.
Двойное могущество: оно обеспечивает их процветание.
Что нужно им для успеха? Благородное происхождение? Нет.
Добытое ими богатство? Богатство не повредит, но оно не обя-
зательно. В самом деле, среди людей, вышедших в первые ряды,
•есть такие, что начинали с пустого места,— есть нувориши.
Некоторые сведения общего характера об этом экономическом Возрож-
дении см.: Imbart de la Tour P. Les origines de la réforme. P., 1909.
T. 1.
Главные аспекты одной цивилизации
30J
Нувориши, новые богатеи,— такие были всегда и всегда бу
дут. Нувориши вовсе не таковы, какими их считают легкомыс-
ленные люди: удобная мишень для авторов водевилей, а для на-
родного ожесточения как нельзя более подходящее отвлекающее
средство — и вообще феномен «d'après guerre» [времен после
войны] *. Какая нелепость! Да ведь нувориши для историка —
как хлеб насущный. Нувориши — соль социальной истории. Ни-
кто не показал это лучше, чем крупнейший бельгийский историк
Анри Пиренн в своем прекрасном исследовании «Периоды соци-
альной истории капитализма» "*, вышедшем в 1914 году, то есть
перед войной. Он отлично показал, как в истории капитализма
одни периоды сменяются другими и каждый из них открывает
перед людьми дела свои особенные возможности и способы раз-
богатеть и специфические условия деятельности. При этом ка
чества, необходимые таким людям в одном каком-нибудь перио
де, оказывались ненужными (а часто и мешают) в следующем.
Из этого автоматически вытекает, что при любых переменах на
дорогах удачи и богатства утверждается новое поколение нуво-
ришей. Проходит время. Новые богатеи превращаются в давних
богатеев. -Возвышаются новые нувориши. И цикл бесконечно по-
вторяется... Однако вернемся к нашему XVI веку.
Людям того времени, которые, начав на пустом месте, надея-
лись достигнуть всего, единственное, что им требовалось, что
было необходимо (за отсутствием благородного происхождения,
за неимением
богатства),—это
знания, образованность
20
они были орудием, средством не для отдельных людей, а для
целого общественного класса, приступившего к восхождению из
низов и идущего к вершинам.
II
Именно тогда великое изобретение дает этой потребности в
знаниях наилучшее средство для ее удовлетворения: книгопеча-
тание. Это общее место: утверждение, что книгопечатание было
«причиной» Возрождения, обеспечив быстрое распространение
по всему миру прекрасных творений античности. И я не говорю:
«Это неверно!» Скажу только: «Будем внимательны к хроноло-
гии!»
В самом деле, книгопечатание, рожденное тогда же, когда
капитализм начинает становиться на ноги, книгопечатание с са-
мого начала — капиталистическое производство. Я хочу сказать,
что печатники работают с самого начала на хозяев, располагаю-
щих необходимым оборудованием, обладающих собственным ка-
питалом или финансируемых на паях капиталистами. Поэтому
k
Речь идет о периоде после первой мировой войны.
См. в наст, издании «Общий взгляд на социальную историю капита-
L.
Philippe II et la Franche-Comte. Liv. 2. Ch. 10. P. 439 sqq.
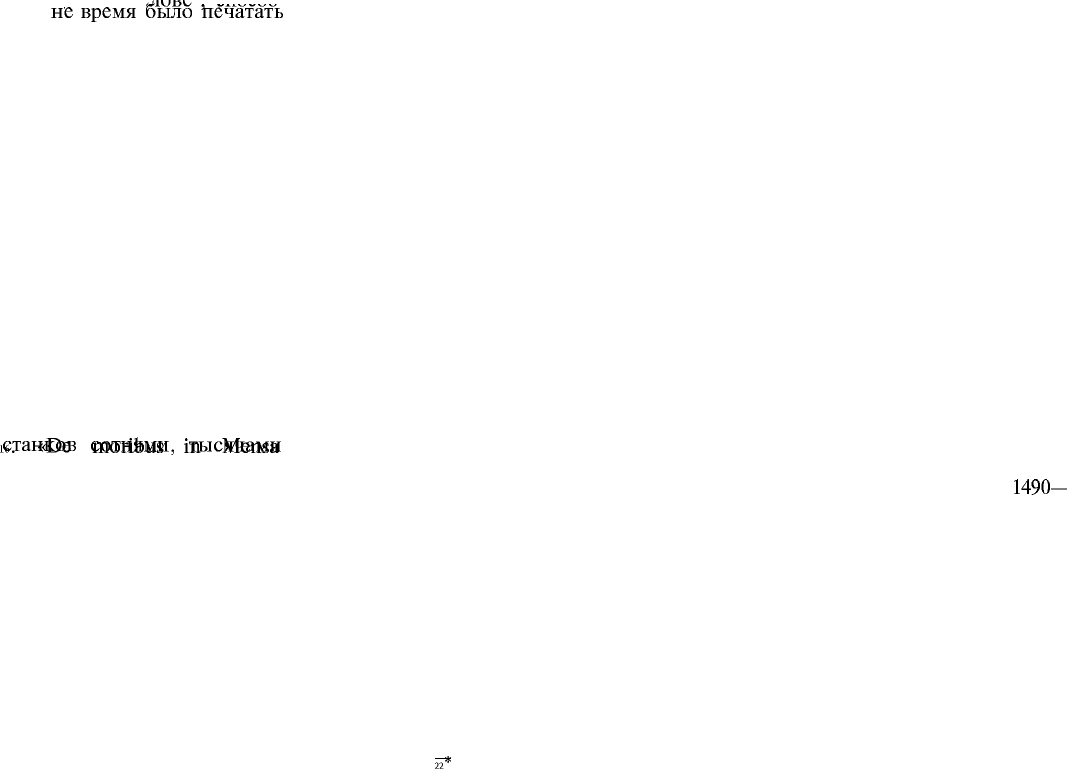
302
Люсьен Февр. Бои за историю
хозяева (или совладельцы) — никакие не сверхчеловеки, опере-
дившие свое время, и не бескорыстные человеколюбцы. Они по-
просту печатают то, что можно выгоднее всего продать. Книги,
пользующиеся большим спросом, усиленным спросом. Античные
авторы? Ни в коем случае. Поначалу, с 1480 по 1500 год, да и
позже, то есть во времена инкунабул " и первых последовавших
за ними изданий,— какими тиражами могли бы печатать во
Франции греческих авторов трагедий или римских ораторов?
Когда во всем королевстве было не более десяти человек, способ-
ных разобраться в греческом тексте
2
1
*
,
не
в
р
емя
было
п
ечатать
Платона (который, впрочем, уже был издан в Италии и при же-
лании его можно было купить в Венеции и в Лионе)... То, что
делается доступным и распространяется во Франции благодаря
книгопечатанию,— это вовсе не «литература Возрождения», если
воспользоваться выражениями очень неточными, но привычны
ми, это «литература средних веков». Под таковою следует пони-
мать в первую очередь культовую литературу для нужд духовен
ства — требники, молитвенники, сборники готовых проповедей,
а также книги благочестивого содержания для верующих; но бо-
лее всего — в неисчислимом количестве непрерывно издающиеся
часословы, столь ценимые ныне библиофилами, великолепные ча-
сословы начала XVI века с их украшениями на полях и застав-
ками, с великолепными гравюрами на дереве. Подлинно семей-
ные книги, настольные книги, часто единственные там, где
вовсе не читают. Вместе с текстами молитв и церковных служб
в такой книге можно было найти календарь и святцы, часто —
азбуку, чтобы малые дети учились чцтать; а на чистых листах-
форзацах отец семейства обычно записывал свадьбы, рождения,
кончины.
Кроме того, с первых печатных
1©тан<О№
шшнЬмм,
тысячами
сходили учебники, Донат
15,
Servandis» [Как держать себя за столом], весь набор грамматик
для детей, моральных прописей, а также наивных и бесхитрост-
ных «правил хорошего тона». Сотнями, тысячами печатали стан-
ки королевские ордонансы, собрания эдиктов, своды обычного
права, «кодексы» (как мы сказали бы теперь) для судей и де-
ловых людей. Сотнями, тысячами печатаются и распространяют-
ся эти небольшие книжки для широкого круга читателей, недо-
рогие, писанные по-французски; они проникают в кордегардии
при дворцах и замках, в гостиные купцов, не притязающих на
ученость: истории о богатырях и великанах, собрания фацеций
и забавных историй, альманахи, предсказания на будущее, «Па-
стушеский календарь» с его полезными советами, народные ле-
Первым шагам книгопечатания на греческом языке посвящен очерк
Омона (см.: Mémoires de la Société d'histoire de Paris. 1892. T. 18).
Главные аспекты одной цивилизации
303
генды о Гаргантюа и Мерлине-Волшебнике или Амадис (для чи-
тательниц) ".
Конечно, печатались и классики. В Париже они были (по
воле случая) изданы в самом начале книгопечатания. Но их пе-
чатают не спеша, осторожно, позже других. Иными словами, не
книгопечатание создает контингент для Возрождения; оно только
будет его обслуживать, когда он возникнет. Так что, по правде го-
воря, великая услуга книгопечатания — не в этом.
1420 год: человеку, который хочет учиться, нужен учитель.
Учитель говорящий, который диктует ученикам. Сидя перед учи-
телем у подножия его кафедры, ученики записывают. Они пишут
под его диктовку — в спешке, со множеством ошибок, описок и
искажений — слова, которые они ловят на лету. Они сами со-
ставляют себе книги. Других у них нет. Манускрипты — это
предметы роскоши, более того, предметы драгоценные. Самые
редкие приковываются цепями к пюпитру, на котором они лежат
в бдительно охраняемой библиотеке принца, аббатства, универ-
ситета. Эта цепь символична. Книгопечатание ее сбросило, вот в
чем была его роль. 1500 год: за несколько су одинокий бедняк,
желающий учиться, может обзавестись грамматикой, словарем
греческого или древнееврейского языка; он может самостоятель-
но в свободное время, в часы досуга познать самые трудные язы-
ки, проникнуть в самые закрытые для непосвященных области
знания. Нет теперь нужды в учителях, ведущих урок с высоты
деревянной кафедры. Книгопечатание породило несметные тыся-
чи странствующих «учителей», всегда готовых учить повсюду,
всех, в любое время, и любой может заполучить такого учителя,
какого захочет, по своему выбору. Вот какую великую револю-
цию породило новое искусство — книгопечатание.
И только тогда во Франции, наслаждающейся миром, во Фран-
ции, где все общественные слои жаждут возвыситься, во Фран-
ции, где все увеличивается число типографий,— тогда в
1490—
1520 годах начинает чувствоваться мощный рывок Гуманизма.
Тогда действительно античная мысль начинает пробуждаться,
и ослепительное, как флорентийская Примавера, восходит Воз-
рождение "*.
Оно приходит вовремя. Несомненно, в конце XV века повсюду
царит бесплодный и засохший формализм. Поистине это была
болезнь века. И люди, которые впервые за долгое время дышали
легко, глубоко и свободно; люди, которые жили вольготно и
счастливо и испытывали ненасытное желание объять, ухватить
жизнь во всех ее проявлениях — жизнь, а не ее тень, не ее при-
зрак, не ее лишенный плоти иссохший скелет,— эти люди с от-
вращением, с неким инстинктивным и непреодолимым ужасом от-
22*
За иллюстрациями ко всему изложенному выше советуем обратиться
к прекрасной книге: Renaudet A. Pré-Réforme et Humanisme à Paris
guerres d'Italie (1494-1517). P., 1916.
