Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория
Подождите немного. Документ загружается.

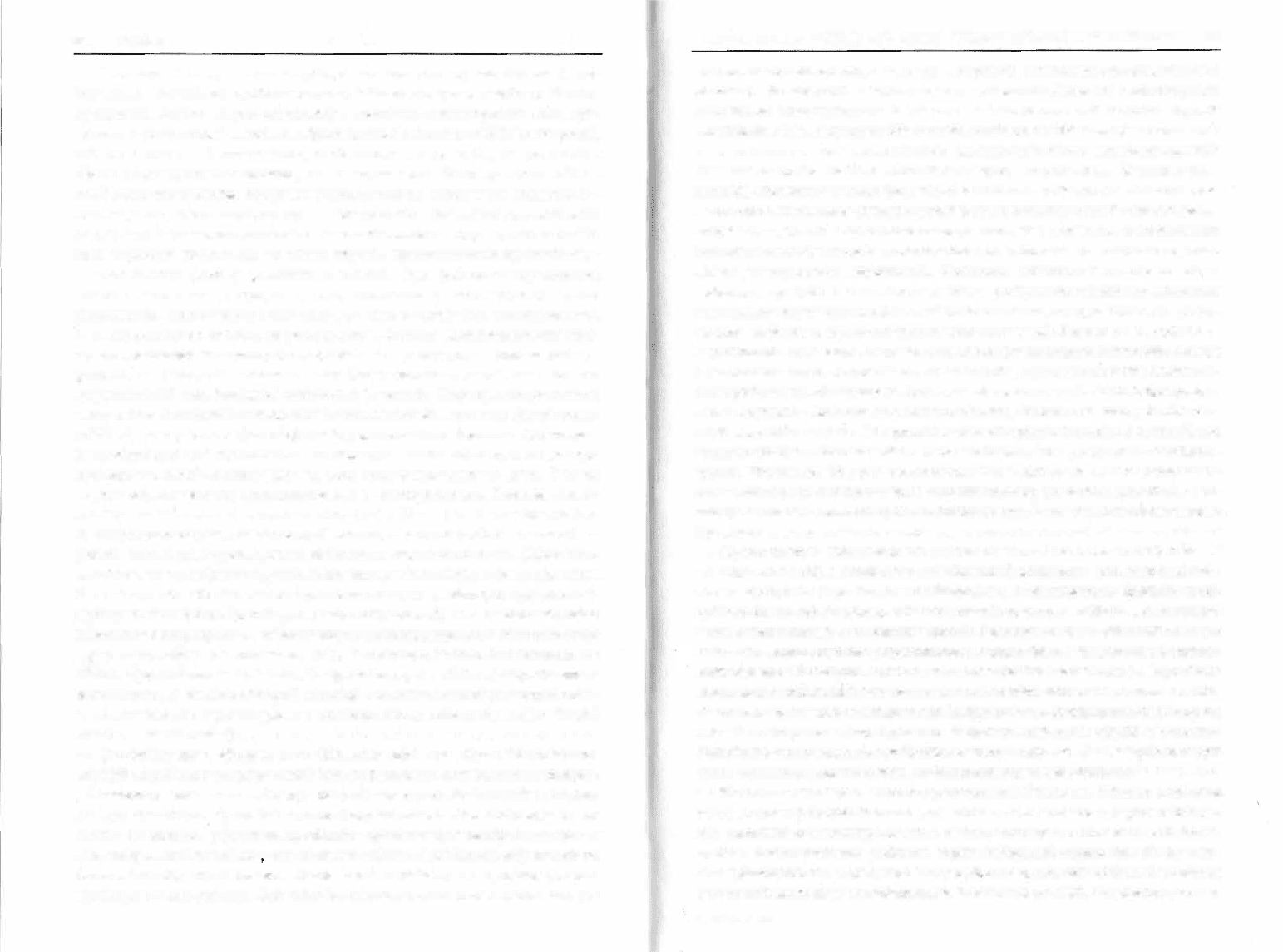
320
ГЛАВА 5
Согласно Шмидту (использующему в качестве модели Англию), ли
беральная партийная система поначалу базировалась на свободной кон
курентной борьбе (осуществляемой с помощью таких средств, как дис
куссия и убеение) за голоса образованной и независимой (элитарной)
общественности. В самом деле, либеральные партии формировались в
сфере общественного мнения, т.е. в парламенте. Этот принцип нашел
свой социологический коррелят в относительно небольших коллегиаль
ных партиях, состоящих из знати. По причине отсутствия зависимости
как от фиксированных интересов, так и от определенных организацион
ных структур избранные от таких партий представители предположи
тельно имели свободу еЙствиЙ и мнений при работе в парламенте;
отсюда возникает допущение, что, составляя вместе единый орган
управления, они генерировали единую волю государства, рождающуюся
в дискуссиях и во взаимном убеждении87• Однако демократизация при
вела к появлению совершенно нового типа партии, основанной на конку
ренции, - партии с массовым членством, социологичес связанной с
определенной комбинацией интересов и сильно бюрократизированной
вследствие большой численности нанимаемых ею платных функционе
ров88• Такая партия не практикует нейтралитета в отношении сво енов
и склонна глубоко проникать в социальную, экономическую и культур
ную жизнь своей «клиентуры>, на всех этапах жизненного пути. Она не
терпит образы жизни, представляемые ее конкурентами. Каждая «демо
кратическая>, партия в теенции является тоталитарной, так как облада
ет склонностью к борьбе за полный контроль над государственным аппа
ратом, видя в нем орудие реализации своих социьных задач. Многочис
ленность таких партий сдерживающе влияет на каую в отдельности, а
все вместе они составляют плюралистическое партийное государство (в
противоположность однопартийному государству), или «лабильное коа
лиционное государство>,. Шмт особо подчеркивает, что этот тип госу
дарства приобрел тотальный характер (в отличие от своего предшествен
ника), представляя собой по сути фрагментированную, раздробленную
тотальность, в рамках которой каждый организованный властный ком
плекс пытается актуализировать тотальность «в себе и для себя>, (in sich
selbst und fi ir sich selbst).
То объяснение, которое дает Шмт смене характера политических
партий в процессе политической демократизации, отличается от консер
вативного и социалистического понимания этого явления. В 'то время
как консерваторы подчеркивали кажущуюся им неизбежной бюрократи
зацию политики, учитывая проблемы организации необразованных и
атомизированных «масс>" социалисты главное внимание обращали на
тенденцию создания новых механизмов исключения идеполитизации,
примиряющих практику «участия>, эксуатируемых с императивами со-
ИСРИЦИСТС
Я
КРИТИ: Л ШМ
,
рЕй
К
ЕЕК
и
Ю
321
хранения существующей эксплуататорской социально-экономической
системы. Несмотря на целый ряд черт, роднящих Шмидта с некоторыми
сторонами консерватизма, а также с элементами авторитарных версий
марксизма, он игнорирует оба эти объяснения, направляя свое внимание
на прекращение под воздействием демократического паРментаризма
полемических взаимоотношений государства и общества. Единство раз
личных социологических формаций деполитизированного общества за
висело от выживания авторитарной формы государства. Возникновение
государства, понимаемого как самоорганизация общества, и ослабление
исполнительной власти ведет к дроблению общества по линии плюрали
зации интересов и верований. Попытки политических призывов к
обществу вразрез с социологическими разграничительными линиями
оказываются невозможными, и политические партии должны теперь ор
ганизовываться в пределах застывших категорий. Кроме того, успех из
бирательных призывов отныне зависит от удовлетворения выдвигаемых
в разных секторах общества экономических, культурных и идеологичес
ких требований. Соответственно, парламентская арена снова превраща
ется в зеркало общества во всем его объеме. Однако на этот раз общест
во, которое она отражает, организовано плюралистически, и каждый его
сегмент требует особых действий в экономической, социальной и куль
турной политике. Как раз коа государство превращается в nарламенm
ское, сам парламент становится выразителем враждебных друг другу раз
нообразных сил общества, способного к выработке стратегических ком
промиссов, но не к достижению подлинного согласия.
Кроме того, к компромиссу уже нельзя прийти путем дискуссии об
истинности и справедливости той или иной политики, как нельзя прий
ти к нему путем открытости и публичности, поскольку компромисс и от
крытое обсуение нарушают принципы политической партии нового
типа с тенденцией к тоталитарности. Реальная парламентская дискус
сия - это лишь пустая формальность, лишь фасад «гигантской прихо
жей, ведущей в отделы и комитеты невидимых правителей ... Малочис
ленные эксклюзивные комитеты партий и партийных коалиций прини
мают свои решения за закрытыми дверями, и те соашения, к которым
приходят представители крупных капиталистических групп в этих не
больших комитетах, пожалуй, оказываются гораздо более важными для
судеб миллионов людей, чем любые политические решени,89.
В отличие от марксистских критиков плюрализма, Шмидт озабочен
не тем, что в результате внепарламентского нажима закулисных сде
лок постоянно доминируют одни и те же интересы. Поскольку партий
ные комитеты должны работать через выборный парламент, их правле
ние приводит к противоречивым результатам, завися от исхода выборов
и от складывающихся коалиций, способных оказывать поддержку то од-
11. Заказ 832.
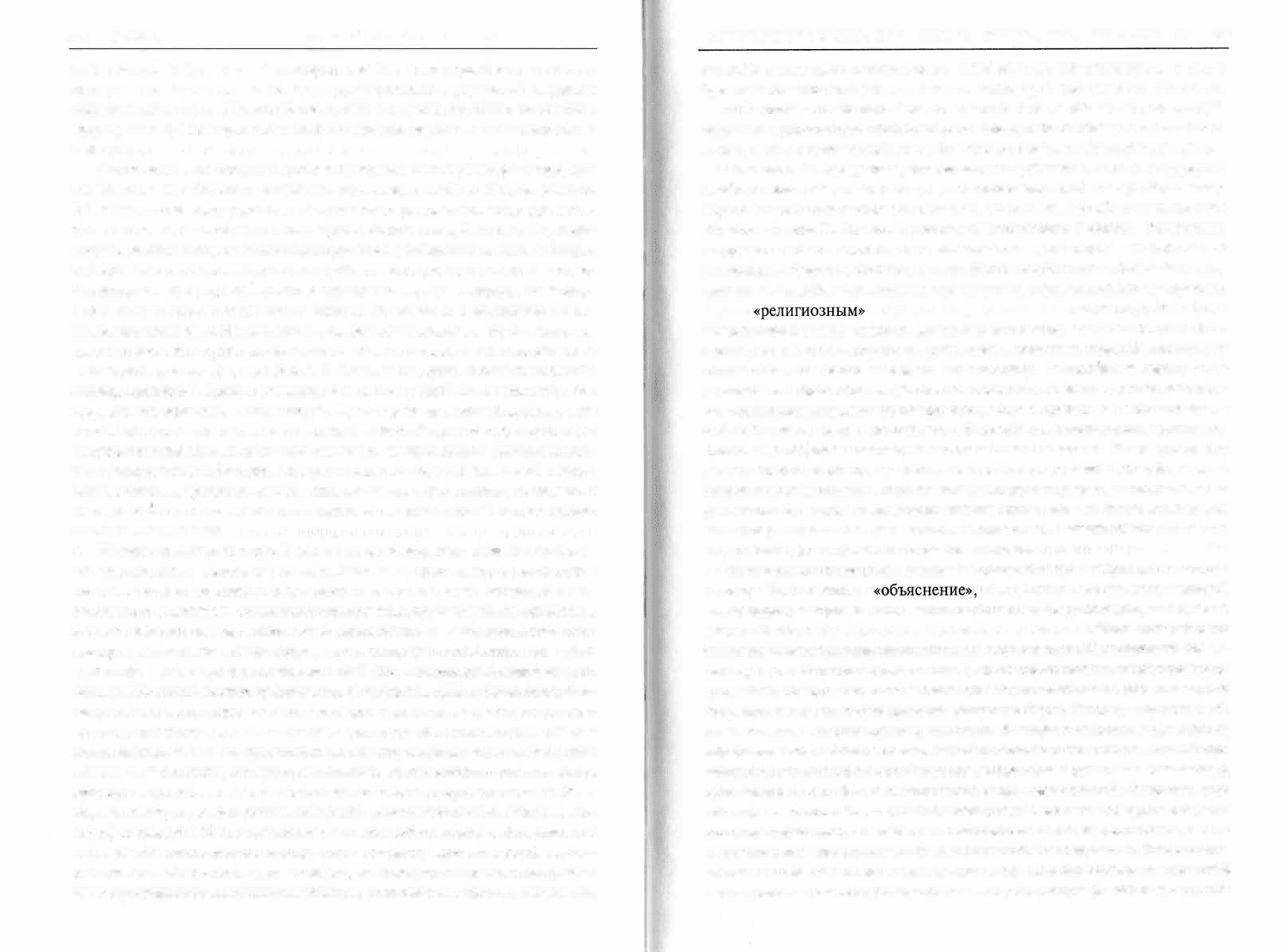
322
ГЛАВА 5
ной, то другой фракции. Реальной угрозой, вызывающей его опасения,
является не олигархия, а то, чему впоследствии присвоили название
«неуправляемость», ибо он убеен, что плюралистическое партийное
государство дробит оба возможных источника единства - государство и
общество.
Фактически эта фрагментация происходит одновременно с тем, как
государство и общество начинают составлять единое целое. Однако
Шмидт в своем утверждении о слиянии исходит не только из актуализа
ции программы государства как самоорганизации общества. Действи
тельно, данная идея, основанная на просто м обобщении опыта Веймара,
неубедительна - несмотря на всю диалектическую виртуозность, потре
бовавшуюся для перевертывания гегелевской аргументации. Но реаль
ность современного государства отнюдь не исчезает с завершением де
мократической трансформации парламентской демократии. Разумеется,
это не относится к президентским системам, но даже в парламентских
системах усиление исполнительной власти исторически сопровождается
демократизацией. Данное усиление исполнительной власти является од
новременно 'и условием конституирования гранского общества, и уг
розой его независимости и самостоятельности90• Таким образом, если
СЛНе государства и общества является предпосьmкой упадка парла
ментской публичной сферы, то это слияние должно иметь в своей основе
нечто большее, чем формальные процессы демократизации, и это нечто
должно быть связано скорее с экспансией, нежели с ослаблением совре
менного государства.
Шмт ввигает и второй ряд аргументов в пользу слияния государ
ства и общества, имеющих более общие следствия в плане выявления
самих корней независимой социальной жизни. Эту аргументацию, каса
ющуюся в основном взаимопроникновения гocyдap
�
TBa и общества,
трудно отделить от первоначальной ориентации на социализацию госу
дарства, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что речь
здесь идет конкретно о двунаправленной функциональной дедифферен
циации. Соответственно либеральное государство XIX в. бьmо обособле
но от общества не только в смысле обретения независимости от сеен
тарных группировок с устойчивыми социальными интересами, но и в
плане нейтралитета по отношению к крупным функционьным сферам
общества - религии, культуре, экономике, праву, науке, - означающего
де политизацию этих сфер91. Здесь модель Шмидта представляет собой в
первую очередь модель неограниченной экономической свободы, в ко
торой государственное вмешательство допускается самое большее для
того, чтобы восстановить нарушенные условия экономической конку
ренции. С этой точки зрения мы получаем несколько измененный пере
чень либеральных фундаментальных прав и свобод (свобода личности,
ИСРИЦИСТС КРИ
:
Л
ш
мт, РЕй
нТ
КОЗЕЕК И ЮР
Г
ЕН
323
свобода выражения собственного мнения, свобода договоров, свобода
предпринимательства, право собственности), в который не включены
даже ключевые свободы коммуникации (собраний и ассоциациЙ)9
2
.
Функция прав состоит здесь в сохранении дифференциации и деполити
зации, а не в гарантировании предпосылок публичной кщtмуникации.
Согласно Шмидту, либеральная модель функциональной дифферен
циации является уязвимой в двух отношениях. Постлиберальное госу
дарство - это «тотальное государство, потенциально охватывающее все
области жизни»93. Это утверждение имеет двояй смысл. Во-первых,
государство нового типа уже не является нейтральным по отношению к
различным сферам общества и становится по сути экономическим, под
держивающим благосостояние, культурным, образовательным, научным
и даже
«религиозным»
государством, т. е. оно становится Sozialstaat (:ло
во, которое Шмидт, кажется, не использует в этой связи) - социальным
государством94. Во-вторых, государство нового типа вмешивается во все
сферы общества и политизирует их. Как следствие различия между госу
дарством и обществом устраняются столь радикально, что частная сфе
ра, стабилизированная правами, смоделированными по образцу права
собственности, сама оказывается объектом проникновения, политиза
ции и упразднения в качестве независимой области. В то время как
модель становления плюралистически сегментированной дифференциа
ции делает политически нерелевантными, по-вимому, лишь некоторые
(а именно связанные с коммуникацией) права, модель функциональной
дедифференциации действительно подтверждает вывод Шмидта о том,
что либеральные права как таковые устарели.
Взаимосвязь этих двух моделей в аргументации Шмидта довольно
сложна. Единственное
«объяснение»,
которое он дает функциональной
дедифференциации, сводится опять-та к демократизации, которая по
каким-то неясным причинам «должна покончить ... С формами деполи
тизации, характерными для либерального девятнадцатого века»95. На де
ле этот аргумент, по-видимому, зависит от той степени, в которой про
грамма «либеральной демократии» может способствовать формированию
государства как самоорганизации общества. Здесь Шмидт, вероятно, хо
тел бы заставить нас думать, что идея Sozialstaat как экономического,
обеспечивающего благосостояние, культурного и Т.Д. государства и ея
общества, становящегося государством (zum Staat gewordene sellschaft) ,
суть одно и то же. Но, согласно его же аргументации, высшее развитие
государства как самоорганизации общества ведет только к фрагментации
(т.е. к разделению на сегменты по интересам и идеологии) общества, по
мере того как оно начинает подменять собой государство. Результатом
этого, как мы показали, оказывается раздробленное плюралистическое
партийное государство, суверенитет которого распределен между состав-
11*
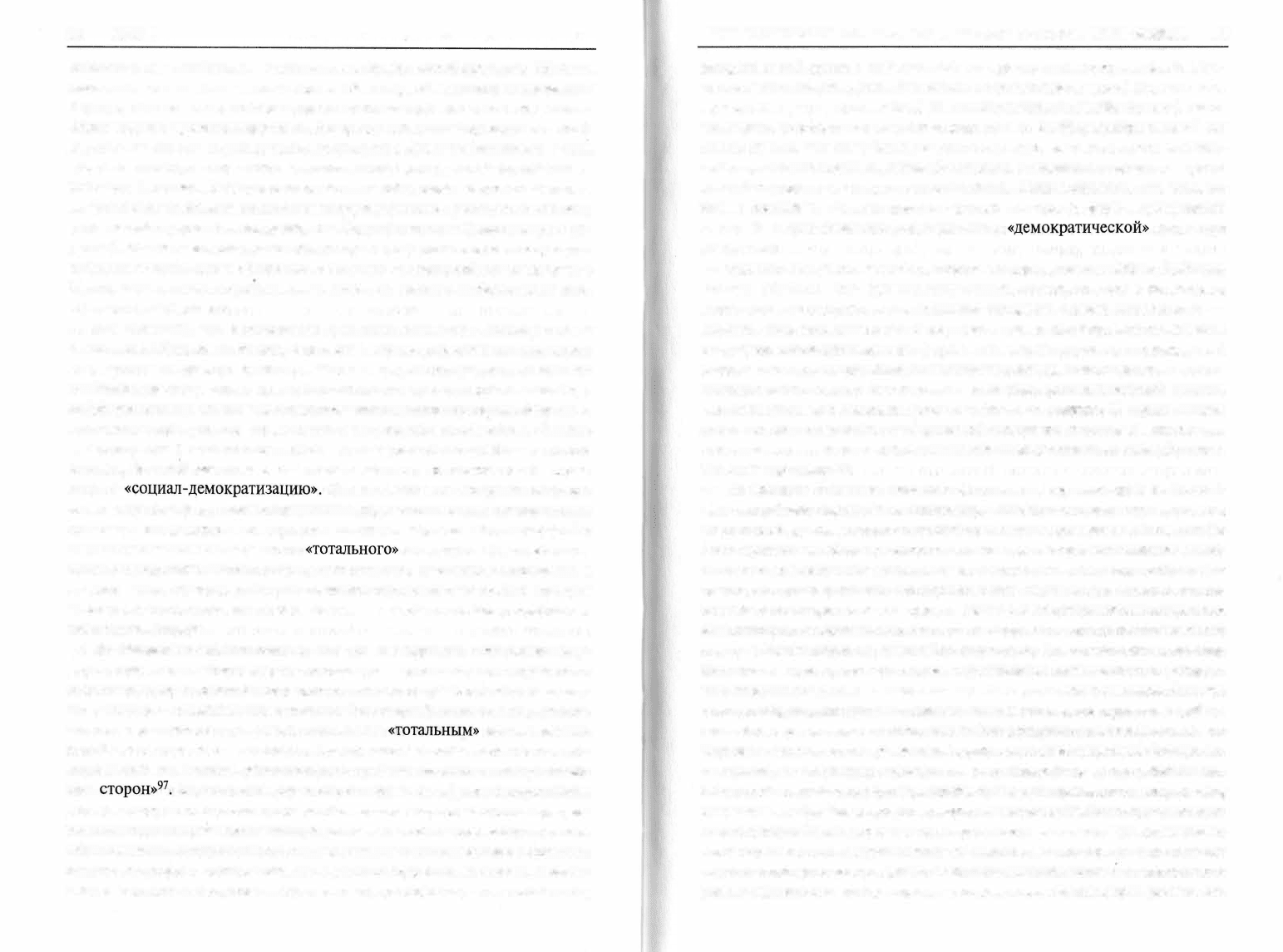
324
ГЛ 5
ляющими его единицами. Этот так и не проясненный аргумент Шмидта
вновь возвращает нас к теме массовой демократически-идеологической
партии, вовлеченной во все аспекты социальной жизни своих членов.
Та кая партия предположительно будет стремиться сформировать госу
дарство по своему образцу; такое государство будет вмешиваться в дела
общества как представитель экономических, культурных и прочих инте
ресов этой партии. Совершенно неясно, почему новая партийная систе
ма (если только Шмидт не имеет в виду конкретные примеры отношения
социал-демократов к экономике или Католической партии центра к ре
лигии) должна направлять всеобщий процесс функционального разгра
ничения государства и общества. Ведь даже однопартийное государство
Муссолини смогло сосуЩествовать какое-то время с либеральным эко
номическим строем.
Мы полагаем, что источником путаницы является в данном случае
нежелание Шмидта признать, что если в случае сегментации все дело в
социальных комплексах, пытающихся завладеть государством или по
крайней мере расчленить его по сегментам, то при функциональной де
дифференциации мы имеем дело с мощным административно-бюрокра
тическим государством, стремящимся вторгнуться в общество. Оцени
вая все с точки зрения опыта Веймарской республики, Шмидт считал
движущей силой политического кризиса не государственное вмешатель
ство, а
«социал-демократизацию».
Тем не менее он допускал возмож
ность двух исходов, соответствующих двум тенденциям, которые нам
пришлось рассмотреть в качестве оельных направлений его мысли. Из
двух описываемых им вариантов
«тотального»
государства фрагментиро
ванное плюралистическое государство является продуктом тенденции к
сегментации; авторитарный же вариант представляет собой продукт
функциональнойдедифференциации, зависящей от лог
�
ки развития са
мого государства96.
По-вимому, Шмидт считает, что эти два варианта тотального госу
дарства проистекают из смыслового различения «социальное государство»
и «государство-общество»: первое предполагает первичность социально
го, а второе -политического начала. Он утверает, что «плюралисти
ческое партийное государство становится
«тотальным»
не вследствие
своей силы, а вследствие своей слабости; оно вмешивается во все сферы
жизни, так как должно удовлетворить требования всех заинтересован
ных
сторон»97.
Те м не менее он также полагает, что фрагментированная
разновидность тотального государства является не столько альтернатив
ным результатом реполитизации общества, сколько неким искусственным
образованием, которое уже по определению всегда находится в кризисе,
будучи результатом сохранения устаревших юридических и парламент
ских институтов. В частности, он считает, что кульминация тенденции,
ИСРИЦИСТС
ИТИ: Л ШМ
,
К
И
Ю
C
325
направленной против либеральной нейтрализации государства и депо
литизации общества, уже обусловила появление еше одной формы авто
ритарной власти, основанной на демократическо-плебисцитной леги
тимности. Его аргументация наводит на тот несформулированный им
самим вывод, что подобный результат мог бы даже совпа?ть с логичес
кой самоликвидацией партийной системы, с заменой правления многих
партий господством партии-монополиста. Та ким образом, обе тенден
ции к слиянию, сегментации и функциональной дедифференциации
могли бы найти совместное выражение в «демократической»
диктатуре
нового типа.
Однако, опираясь на собственную интерпретацию опыта Веймара,
Шмидт убежден, что функционирование парламентской законности,
даже если оно и не позволяет больше создавать законодательное госу
дарство, тем не менее способно полностью заблокировать появление
подлинно политического по форме, т.е. авторитарного, государства98.
Парламент, гарантирующий политические права многим партиям, в со
стоянии полностью заблокировать решения исполнительной власти,
возникающие вне системы формирования коалиций. К этому можно
добавить, что сохранение либеральной структуры правовой защиты вне
парламента делает почти невозможной замену многопартийной систе
мы однопартиЙноЙ99.
По мнению Шмидта, альянс либерализма и демократии (в настоя
щее время) абсолютно невосстановим. Инструментарий правления по
принципу парламентского большинства теряет все шансы на то, чтобы
быть приняты м общественностью, если высокоорганизованные поли
тические группировки начинают предопределять все возможные ре
зультаты, устанавливать не подлежащие пересмотру преимущества
определенных должностей, строго фиксировать имеющуюся структуру
большинства и меньшинства и даже полностью лишать политического
участия: Таким образом, каждый из партнеров былого тесного союза ли
берализма и демократии -и демократическая легитимность, и прин
цип парламентаризма -ныне находится в состоянии кризиса. Эти два
кризиса порождают третий - кризис самого государства, причем глубина
этого кризиса зависит от того, насколько успешно удается блокировать
решения, выходящие за рамки либерализма и существующей формы де
мократии, и регулярно сводить на нет возможности их реализации.
Шмидт, по-видимому, предусматривает два пути развития словшейся
ситуации: дальнейшее существование антиполитического, плюралисти
ческого партийного государства, находящегося в состоянии перманент
ного кризиса, но защищенного и замаскированного либеральными
принципами; или же создание подлинно политического и уже не плю
ралистического, а авторитарного государства, легитимированного НО-
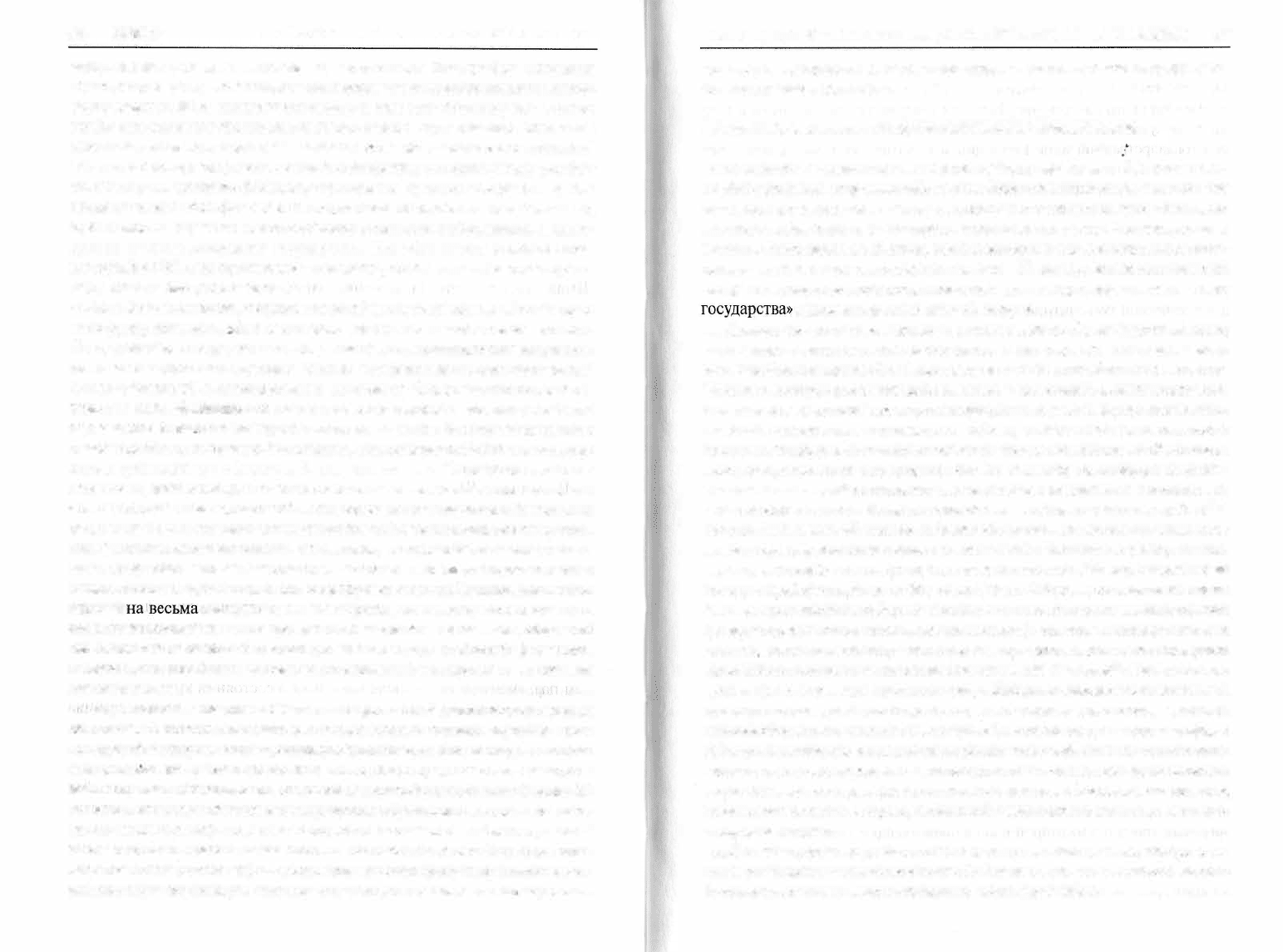
326
ГЛАВА 5
вой, плебисцитарной версией «демократии». Бесполезно пытаться
отрицать тот факт, что Шмидт останавливает свой выбор именно на вто
ром варианте. Ведь именно этот выбор и позволил Шмидту так востор
гаться итальянским фашизмом и сделал его поворот к национал-социа
лизму интеллектуально аутентичным, если не неизбежным. Никакой
возврат к консервативному, неплебисцитарному авторитарному режиму
не может, по мнению Шмидта, преодолеть кризиса государства, по
скольку такая альтернатива, восстанавливая прежних полемических
противников, ведет и к восстановлению альянса либерализма и демо
кратии и вновь подрывает государство. Подобно левым и обожаемым
им правым, Шмидт предлагает альтернативный союз - союз между де
мократией и авторитаризмом.
Как бы там ни было, с приходом тотального государства оба эти вари
анта (плюралистический или авторитарный) оказываются несовместимы
ни с дуализмом государства и общества, ни с парламентским посредни
чеством между тем и другим. Шмидт совершенно не замечает одной
(столь очевидной в американском контексте) возможности: объедине
ние этих двух принципов - этатистского и плюралистического, стабили
зированных в системе либеральных прав, - моо бы положить начало
новому дуалистическому образованию, являющему собой союз государ
ства и ажданского общества. В том, что он не смог увидеть этой воз
можности, повинны три момента: его нежелание признать тот факт, что
в эпоху плюрализма продолжают существовать государства, обладающие
тенденцией к авторитаризму; неспособность увидеть полную гамму при
чин (включая экономические), из-за которых происходит вмешательст
во государства в дела общества; невнимание к появлению нового типа
политической партии - партии с неопределенными .ункциями, осно
ванной
на'весьма
пестрых слоях поерж, не заинтересованной ни в
тотальном господстве, ни в дроблении политической системы, обладаю
щей большей гибкостью при выступлении на парламентской арене, спо
собной на нечто большее, чем стратегический компромисс со своими
противниками.
То , что в нарисованной Шмтом картине либеральной демократии
не нашлось места для государства, вряд ли можно считать случайностью:
он стремился укрепить авторитарную администрацию, которую изобра
жал ослабленной; чтобы добиться этого, ему пришлось затушевать ее
роль в кризисе политического строя Веймарской республики. Ссылка на
то, что авторитарный элемент государства обречен на гибель - несмот
ря на мощь армии, су администрации и связанной с ней прав о вой
системы (не говоря уже о заложенных в конститионной системе пре
зидентских прерогативах), - позволила ему подвергнуть критике плюра
листическую партийную систему, создавшую новые связи меу демо-
ИСТОРИЦИСТС КРИТИ: РЛ ШМИДТ
,
РЕйн КОЗЕЛЛЕК И
Ю
Н
327
кратией и либерализмом и породившую новые источники напряженно
сти между тем и другим.
А
р
мент о слиянии:
Struuandel
Х
абермаса
.
Если принять во внимание довольно слабую маскировку Шмидтом сво-
их авторитарных устремлений, то тем более удивительным кажется тот
факт, что разработанная им аргументация в пользу слияния была вос
принята и воистину драматически обновлена членами Франкфуртской
школы. Отношение этой последней к либерализму, демократии и авто
ритаризму было противоположно подходу Шмидта, однако выдвинутый
им довод о слиянии стал существенной чертой «критики авторитарного
государства» тае и в рамках данной школы.
Достаточно последовательно в исследованиях Франкфуртской шко
лы не учитываются ни союз либерализма и демократии, ни предполагае
мое ослабление враждебной им авторитарной исполнительной власти.
Данная структура рассуждений заменена у них новой, а именно просле
живанием той великой трансформации, которую претерпела капиталис
тическая экономика, переходя от либеральной к монополистической
стии и, наконец, к стадии государственного капитализма. Этот аргу
мент, несмотря на то что впервые он бьm выдвинут в связи с возникно
вением авторитарных государств, оказался применимым и к послевоен
ному периоду, когда была восстановлена либеральная демократия 100.
Те ория Хабермаса об упадке публичной сферы, несмотря на оказанное
на нее серьезное влияние более ранних идей Шмта и Арендт, сложи
лась главным образом на основе различных аналитических направлений
внутри самой Франкфуртской школы 30-х г Хабермасу в конечном счете
удалось придать новую форму почти всем этим направлениям в рамках
новой теоретической схемы, внутри которой она стали весьма полезны
для разития демократической теории, ориентировнной на практику.
Но в 1962 г. , в период написания Stktandel der
O
e ntlichkeit (Струк
турная трансформация публичности»), Хабермас еще не подошел к этой
позиции. В результате он неудачно связал понятие трансформации пуб
личной сферы с негативной философией истории в духе Адорно и Хорк
хаймера и потому не смог выйти за рамки тезиса об упадке, если не счи
тать того, что он, в отличие от своих учителей, питал приверженность к
некоторым положениям классического марксизма. То гда еще не пришло
время использовать теорию публичной сферы применительно к совре
менной политике.
На данном этапе нам следует оаничиться лишь суммарным изложе
нием результатов осуществленного Хабермасом многогранного синтеза.
В его аргументации можно вьщелить шесть уровней:
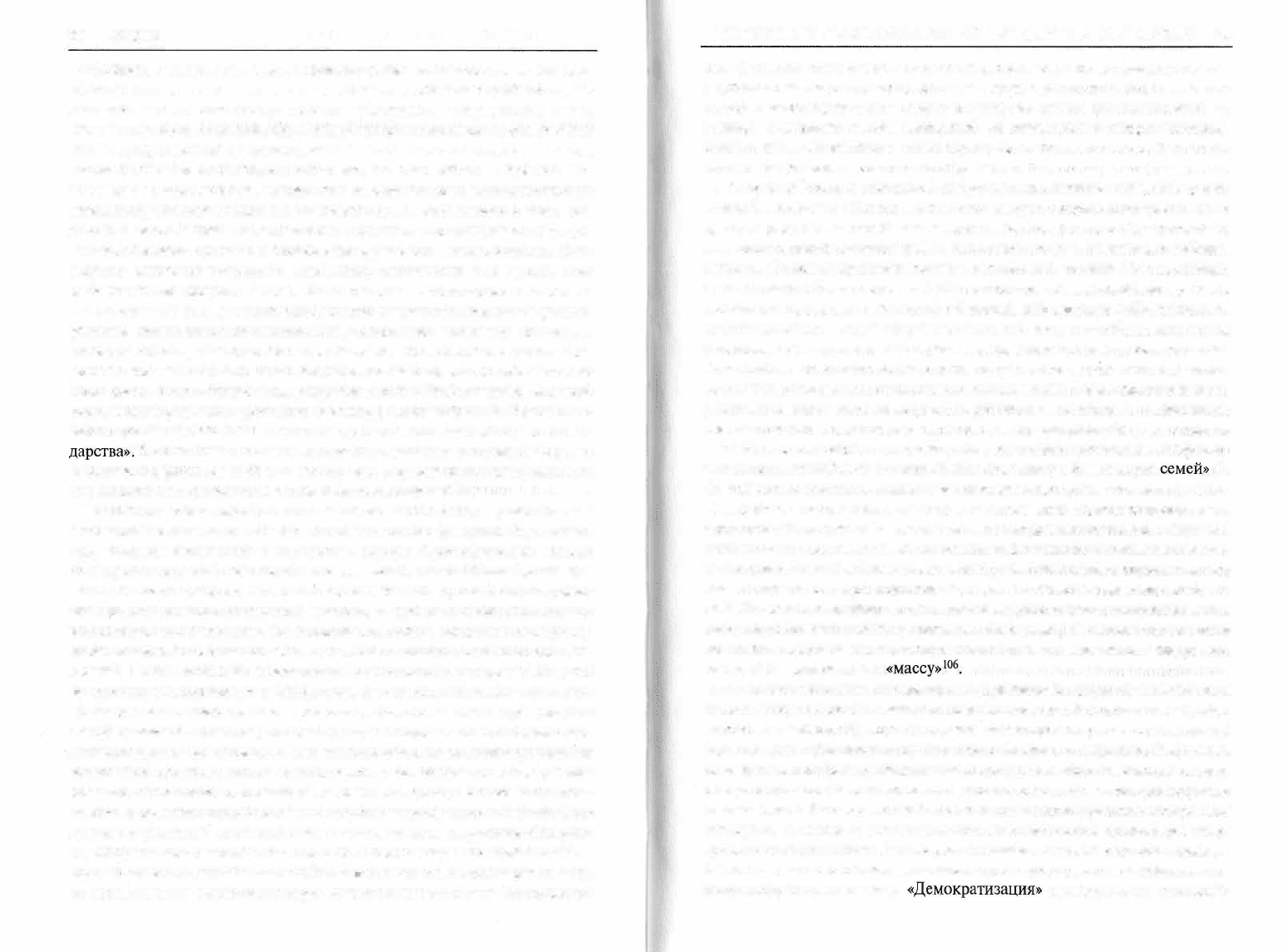
328
ГЛА 5
1. Те зис о государственном вмешательстве в капиталистическую эко
номи Это положение, почти полностью отсутствующее у Шмидта, яв
ляет собой нечто качественно иное по сравнению с утверждением о том,
что в эпоху абсолютизма и даже в эпоху либерализма имела место экспан
сия государственной администрации и политической бюрократии (эту
мысль подчервали и Маркс, и Токвиль, и - на свой лад - Арендт). Со
временное государство вмешивается в либеральную капиталистическую
экономику, стремясь защитить - ценой утраты собственного либераль
ного характера - капиталистическую структуру, находящуюся под уо
зой эндогенного кризиса и ослабления процессов саморегуляции. Го су
дарство пытается устрю
!
ить дисбаланс, вызванный как процессами
рыночного саморегулирования, так и явлениями несовершенной олиго
полистической конкуренции (фискальное и денео-кредитное ре гули -
рование циа деловой активности), обеспечить гарантии процессам
инвестирования, накопления и технического обновления, а тае под
держать совокупный спрос за счет расходов на социальное обеспечение.
Этот тезис, сравнительно мало разработанный в Stktuandel, бьm пол
ностью интегрирован в традицию Франкфуртской школы Ф. Поллоком И
его коллегами (1932-1941) в рамках проблематики «авторитарного госу
дарства». Этот же тезис получил дальнейшее развитие в трудах Хабермаса
и Клауса Оффе после 1963 г. - на этот раз в форме критики кризисного
управления в государстве всеобщего благосостояния
1
0
1
.
2. Положение о неокорпоративизме, соасно которому частные ас
социации присваивают себе публичные властные функции. Данный те
зис, впервые введенный в дискуссию внутри Франкфуртской школы
О. Киркхаймером
1
0
2
, бьm позаимствован 'из критики Шмидтом плюра
лизма Веймарской республики. В работе 1962 г. Хабермас распространил
эту критику на дополитический уровень. В процессе олигополистичес
кой конкуренции частные организации способны, в отличие от структур
либерального капитализма, сформулировать принципы публичной эко
номической политики
1
03. Коллективные соглашения, заключаемые меж
ду частными ассоциациями (например, меу ассоциациями нанимате
лей и профсоюзами), теряют здесь статус частного закона, превращаясь
в форму нормотворчества, которая прее входила в компетенцию пуб
личного права. По мере того как важные области администрирования
попадают в сферу действия частного права, само государство при регули
poBaHии отношений со своими социальными партнерами все чаще обра
щается к практике заключения договоров в рамках частного права. Этот
аргумент, ушедший на второй план в последующем творчестве Хаберма
са, полул дальнейшее развитие в 1980-х г в трудах Оффе
1
О4. Однако
следует отметить, что Оффе не просто хотел обратить внимание на один
из компонентов общей структуры государства всеобщего благосостоя-
ИСРИЦИСТСЯ КРИТИ
:
Л ШМ
Т
,
Рн К
ЕК И ЮР
329
ния (в любом случае не во всех государствах всеобщего благосостояния
данный компонент играет одинаково важную роль), но и (стремясь дать
отпор · неоконсерваторам) желал указать на ней потенциальный -
правда, внутренне проблематичный (и нормативно непривлекатель
ный) - путь облегчения административного-правового qремени, лежа
щего на интервенционистском государстве.
3. Те зис об упадке интимной сферы семьи. Данный тезис, фигуриро
вавший в качестве важного компонента анализа, осуществленного в свое
время Арендт (у которой и почерпнул Хабермас такую формулировку,
как «поляризация социальной и интимной сфер»), явился важнейшим
вкладом Хоркхаймера и его коллег в социальную теорию 30-х г Анали,
выполненный Хабермасом в 1962 с привлечением новой литературы,
вьщеляет разрушение приватной оболочки, обеспечиваемой буржуазной
собственностью, вокруг сферы интимности, чему способствовали такие
явления, как утрата семьей ранее выполняемых ею экономических
функций и ее постепенное превращение в клиента государства, взявше
го на себя роль гаранта социального страхования. Семья постепенно ут
рачивает некогда свойственные ей функции «воспитателя, защитника,
попечителя и наставника, и даже носителя традиций и обычаев ... утрачи
вает бьmую способность формировать стандарты поведения в сферах,
считавшихся наиболее интимной областью жизни буржуазных
семей»
1
05.
С этой точки зрения довольно двусмысленно выглядит ослабление авто
ритета отца: тем самым семья утрачивает не только репрессивные, но и
защитные функции. Новые формы, хаактеризующиеся еще большей
интимностью, рассматриваются в духе Арендт как безнадежные в аспек
те их способности обеспечивать защиту; частная жизнь становится все
более открытой для посторонних взглядов и делается насквозь прозрач
ной. Ложная интимность публичной коммуникации, подчерваемая и
Адорно, и Арендт, означает, согласно Хабермасу, не только подведение
интимой сферы под более общее понятие, но и деградацию обществен
ности, превращение ее в
«массу»10
6
.
4. Те зис об упадке литературной публичной сферы и становлении
массовой культуры. Связанная с этим тезисом аргументация представля
ет собой наиболее удачный и самый известный аспект теории ранней
Франкфуртской школы и прее всего Адорно. В варианте Хабермаса
подчеркивается факт сращивания литературной общественности со сфе
рой потребления и стандартизированного досуга. Подобное сращивание
связывается с распадом семейных институтов критического восприятия
культуры, а также с индустриально коммерческой трансформацией
средств коммуникации. Рынок уже не является предпосьmкой автоном
ности искусства, наличие рыночного спроса становится принципом ин
дустриализации искусства. «Демократизация» культуры есть псевдоде-
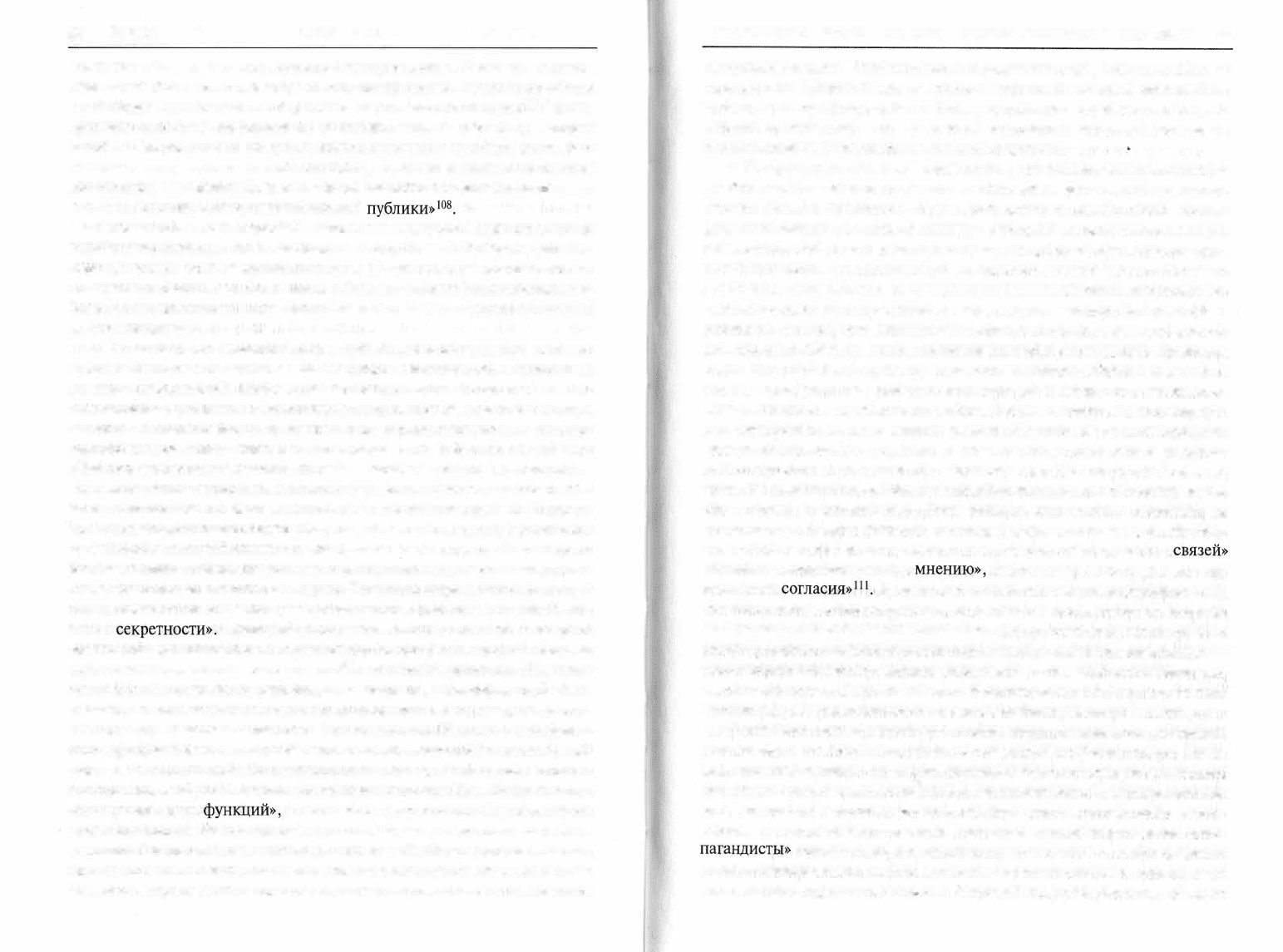
330
ГЛ 5
мократизация; то, что подверглось демократизации, более не является
культурой. Впечатляющее разрастание литературной публичной сферы
происходит одновременно с утратой ею критического настроя1
0
7• Новые
средства массовой информации поощряют только пассивную форму
участия. Сохранение авангардистского искусства и культуры лишь рас
калывает литературную публичную сферу на «меньшинство, состоящее
из знатоков, мыслящих людей, уже не являющихся публичными фигура
ми, и на огромную массу поебляющей
публики»1
0
8.
Эрозия интимной сферы и подлинной литературной общественности
ведет к исчезновению противостояния между homme и boueois, уничто
жая приватную основу независимости и не способствуя появлению но
вой публичной основы. Здесь тезис об упадке семьи и становлении мас
совой культуры связан с классическим тезисом Франкфуртской школы
об упадке индивида.
5. Те зис о трансформации сферы публичной политики представляет
собой выборочное развитие аргументации, касающейся до политических
аспектов публичности. Любопытно, что в этом анализе несколько мень
шее внимание уделяется этатистско-бюрократическому вмешательству в
экономику, трактуемому у Арендт главным образом как замена эгалитар
ной публичной интеракции патернализмом, хотя Хабермас все же упо
минает о разрастании и усилении независимости администрации, кото
рой даже в эпоху либерализма удавалось успешно сопротивляться требо
ваниям публичности. Еще большее значение имеет аргумент Шмидта,
подчеркиваемый тае Киркхаймером, согласно которому присвоение
публичной власти частными ассоциациями ведет к проявлениям корпо
ративизма при ведении переговоров, заключении сделок и компромис
сов, что исключает публичный надзор 1
0
9 и сводит парламентские дискус
сии и дебаты к легитимации post hoc решений, принятых под новой «за
весой секретности».
Представители народа уже не пытаются убеждать
друг друга, про износи мы е в парламенте речи теперь имеют своей целью
мобилизацию плебисцитного мнения за стенами парламента. Как дока
зывал Шмидт, парламентарии, будучи связаны партийной дисциплиной,
утрачивают независимость, как только возникает нечто вроде мандатов
обязательств. Хабермас признает, что концепция Шмидта о превраще
нии партийной системы из свободных коллегиальных образований, свя
занных единством мнений, в партии, имеющие вид застывших социаль
ных группировок, уже не отвечает действительности. Новый тип «партии
без определенных
функций» ,
отмеченный среди прочих Киркхаймером,
представляющий собой дальнейший этап «демократизации» И «масси
фикации» политической системы, только усугубляет деполитизацию,
еще сильнее снижая уровень политического дискурса и аргументации 1 1
0
.
Конечно,
партия нового типа уже не ассоциируется здесь с дроблением
ИСРИЦИСТС
: Л шмт
,
РН
К
ЕК И ЮРН
331
суверенной власти. Наиболее важный результат этого, выразившийся по
определению Киркхаймера в «исчезновении политической оппозицию),
вызвал, как подчеркивал Макс Вебер, ослабление публичного контроля
над администрацией, что привело к укреплению авторитарной власти
без применения авторитарных методов и средств.
6. Хабермас развил тезис Шмидта о том, что роль парла�ента как сфе
ры опосредования между усилившейся бюрократией и частными ассоци
aцияMи должна снижаться. Неменьшее значение имеет тезис Франк
фуртской школы о массовой кулуре, который он использовал для ра
зоблачения якобы демократического характера плебисцитных аспектов
новой ситуации, подчеркиваемых Шмидтом. Следуя традиции Адорно и
Левенталя, указывавших на авторитарный политический потенциал но
вой массовой культуры и средств массовой информации, Хабермас гово
рит о том, какое место занимает пропаганда в современном политичес
ком дискурсе. Современные манипуляции в области политики предпола
гают определенные формы коммерческой рекламы, которые становятся
господствующими по мере того, как ценовая конкуренция прекращает
быть механизмом координации действий олигополитических группиро
вок, борющихся за свои доли на рынках. Пропаганда (рекламирование
политических лидеров, партий и политических стратегий и торговля
ими) предполагает наличие уже сформировавшейся пассивной, некри
тичной и вместе с тем мобилизованно аудитории, и это хорошо знали
уже Адорно и его коллеги. Если реклама как таковая нацелена на
индивидов в их частной сфере, способствуя тем самым разложению ин
тимной сферы, то данная промежуточная форма «общественных
связей»
обращена к «общественному
мнению»,
деформируя его с помощью «ор
ганизации
согласия»l".
Именно эта задача становится центральной для
политических партий современного типа как в парламенте, так и в ходе
выборного процесса. Та ким партиям нужно не столько постоянное мас
совое енство, сколько аппарат, способный с заданной периодичнос
тью мобцлизовывать поержку электората - так, как это делают рек
ламные агентства. Хотя во время избирательных кампаний неизбежно
происходит восстановление своего рода публичной политической сфе
рыll
2
, авной целью партийного воздействия оказываются индивиды
(как правило, они не являются членами ассоциаций или групп с высо
ким статусом, которые не имеют доступа к тому, что представлено здесь
как остаточные формы мыслящей общественности. К потенциальным
избирателям обращаются не как к объектам просветительской деятель
ности, а как к потребителям, и делают это не агитаторы или даже «про
пагандисты»
старого типа, а специалисты по рекламеl13. Чтобы добиться
успеха, «организаторы выбров должны не только отдавать себе отчет об
исчезновении сферы подлинной публичной политики, но и совершенно
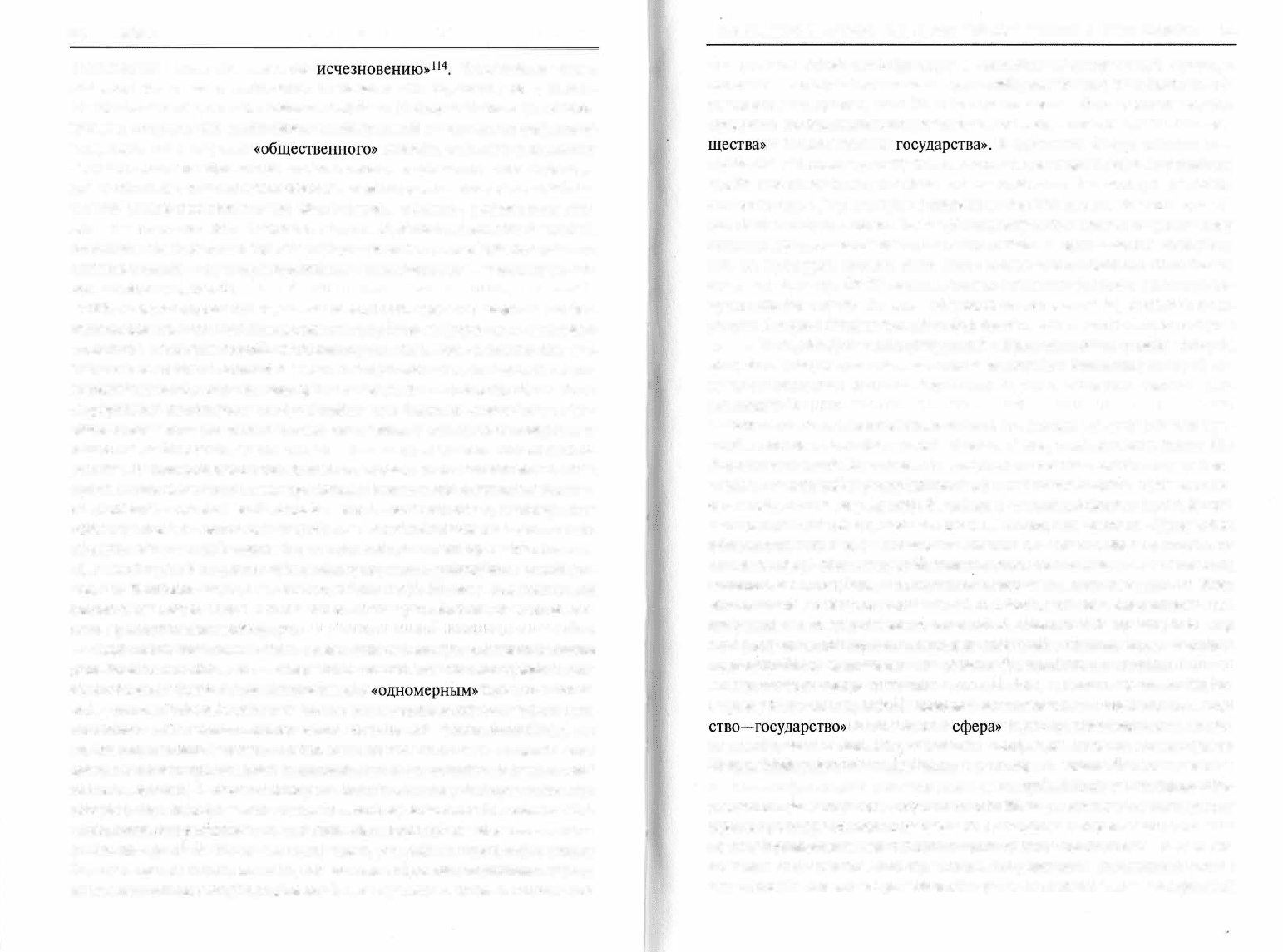
332
ГЛ 5
сознательно способствовать ее
исчезновению»
11
4.
Следствием этого
является не столько понимание политики и принятие ее, сколько
«символическая идентификация» с лидерами, которая вполне просчиты
ваема и открыта для дальнейших манипуляций посредством рейтингов
популярности и опросов
«общественного»
мнения, на деле отражающих
абсолютно атомизированные мнения, не имеющие ничего общего с мне
нием общественности. Даже если бы партии и правительства действи
тельно реагировали на это «необщественное мнение», результатом яви
лось бы нечто похожее скорее на просвещенный абсолютизм, чем на
подлинно демократическое волеобразование на основе трансформации
личных мнений - путем рационального рассмотрения - в подлинно об
щественное мнениеll5. •
Цель, преследуемая Хабермасом на всех этих уровнях анализа, заклю
чена не только в том, чтобы продемонстрировать деформацию и падение
принципа свободной публичной коммуникации. Еще важным для нас
является его дополнительный тезис о разрушении модели обособления
граанского общества и государства вследствие слияния уровней. Если
деформация институтов опосредования как таковых способствует де
дифференциации, то относительно тенденции к слиянию государства и
общества можно утверждать, что она ликвидирует то социальное прост
ранство, в котором могла бы функционировать либеральная публичная
сфера. Различие между двумя процессами в каком-то отношении являет
ся различием акцентов: Хабермаса интересует упадок и последующее
возрождение публичной сферы, которое он в 1962 г. все еще считал воз
можным без участия модели разделения государства и граанского об
щества. С другой стороны, нас интересует реконструирование такой мо
дели дифференциации, возможность или нормативная желательность
которой не представима без обновления либерального и демократичес
кого проекта публичной сферы.
Однако между этими двумя подходами существует некое системное
различие, состоящее в том, что модель упадка публичной сферы имеет
дело с гораздо более законченным и даже
«одномерным» процесс ом сли
яния, нежели процесс развития новых отношений между государством и
обществом. Это можно видеть в самой структуре аргументации Хаберма
са. Он справедливо утверждает, что модель реполитизации общества по
средством государственного вмешательства в экономику не может сама
по себе служить доводом в пользу слияния, поскольку частную экономи
ческую деятельность можно существенно ограничить и без такого вме
шательства, затрагивающего частный характер многих аспектов лично
стной интеракции. Но он не прав, когда утверждает, что вопрос может
быть исчерпан ссылками на то, что частные социации приняли на се
бя дополнительные публичные властные функции. Даже если эти оба
ИСРИЦИ
СЯ КРИ
l
И: Л шмт
,
Рн
К
ЕК И ЮР
333
процесса на самом деле приведут к созданию промежуточной сферы, к
которой уже неприменимы такие различия, как частное и публичное, об
щество и государство, сами по себе они не заставят эти различия исчез
нуть, что, по-видимому, подразумевается в выражениях «этатизация об
щества»
и «социализация
государства».
В частности, сферы интимного и
публичного этими двумя процессами непосредственно не разрушаются;
чтобы это произошло, необходимы овеществление и инструментализа
ция этих двух сфер, которые в конечном счете являются сферами кулу
ры. Если этим двум комплементарным, ведущим к слиянию процессам и
суждено достичь своей цели, то овеществление пространства меу ни
ми, Т.е. культуры, долЖно быть более или менее тотальным. Этот тезис,
впервые выдвинутый Шмидтом, можно защитить только с помощью те
ории культуры, разработанной Франкфуртской школой, особенно в ва
рианте Адорно. Однако такой выбор привел бы (в частности, и в случае
тезиса Хабермаса) к манипулируем ой общественности, агенты которой
являются совершенно пассивными и нынешняя динамика которой от
нюдь не указывает на возможное возроение ее первоначальных уст
ремлениЙl
1
6.
В подоБНЬ1Х обстоятельствах все еще возможны революционные про
рывы, как их понимала Арендт. В самом деле, рассмотрение книги Ха
бермаса следовало бы завершить вопросом о том, насколько ему удалось
отойти от античной республиканской модели публичной сферы, кото
рую он критиковал у Арендт. Исследуя возможные следствия своего те
зиса о слиянии, Хабермас внезапно заявляет, что «модель буржуазной
общественности была основана на жестком разграничении публичной и
частной сфер, поскольку публичная сфера, состоящая из частных лиц,
организованных в виде общественности, считается частной»
1 1
7. Хотя
юридически это верно, однако такой довод полностью расходится с бо
лее ранним и по духу более гегелевским аргументом Хабермаса, согласно
которому именно строгое разграничение меу публичным и частным
подвергалось релятивизации на разных уровнях опосредования.
Кроме того, следует отметить, что утопия, позаимствованная Хабер
масом у Маркса и предполагающая наличие дуализма «публичное обще
ство-государство»
и «интимная сфера» (при преимущественном поло
жении первого элемента), совпадает с республиканской моделью Арендт.
Теория Хабермаса об упадке тае постулирует появление некоего сме
шанного образования, не являющегося ни публичным, ни частным и ве
дущего к краху подлинной публичности. Если рассуждать с точки зрения
Арендт, то разработанная Хабермасом в модели либеральная публичная
сфера, предполагающая опосредование между государством и общест
вом путем регулирования предпосьmок рыночной экономики, уже и
есть такая смешанная сфера и поэтому она не может вести к подлинной
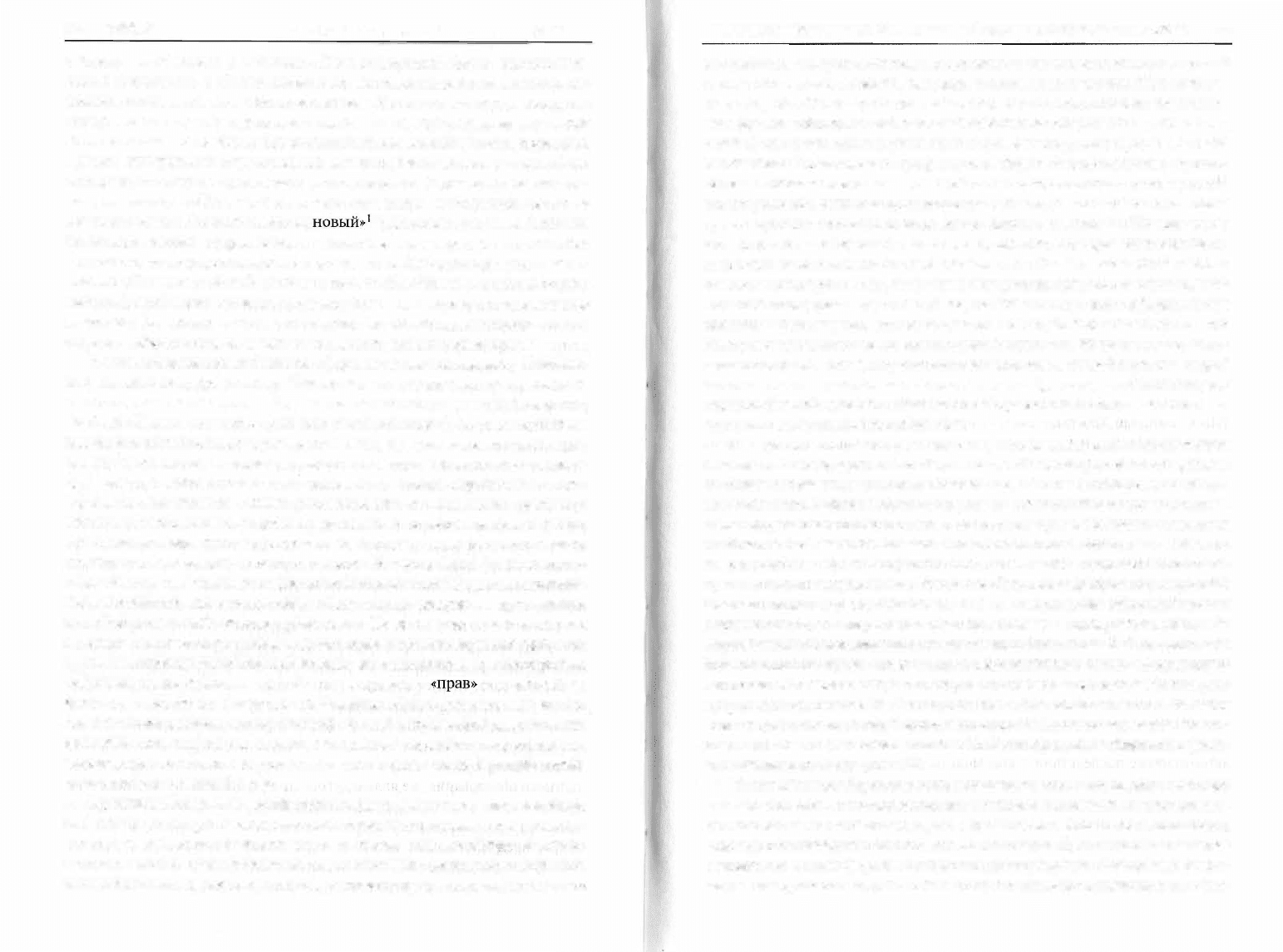
334
ГЛ 5
общественной жизни и действию. Идея публичной сферы, контролиру
ющей государство и влияющей на него, но не делящей с ним власть, ве
роятно, показалась бы ей бессмысленной. И все же можно показать, что
единственное реальное различие меу их аналитическими
выводами
состоит в том, что Хабермас устанавливает для модели упадка, принятой
Арендт, исторически определенный момент начала такого упадка.
В са
мом деле, по-видимому, возникновение смешанной формы Хабермас, хо
тя и не вполне последовательно, счел лишением «публичной
сферы ее
преего базиса без замены его на
новый»1 18. Конечно, это была
функция
не возникновения современного государства как такового, а постлибе
ральных
отношений государства и экономики. Хабермаса и Арендт несо
мненно
объединяет общий интерес в том, чтобы создать подобную
основу
заново. В этой связи, однако, следовало бы также вспомнить постоянные
заявления Хабермаса о том, что он хотел бы реинституционализировать
именно либеральную, а не античную модель публичной сферы.
Идеал либеральной публичной сферы непременно связан у Хаберма
са с идеалом демократизации. Как это ни парадоксально, исторический
процесс
демократизации, - будь то демократизация политики (в систе
ме партий) или культуры (как массовой культуры), - способствовал
упадку институтов, на которых, собственно, и держался этот идеал,
при
чем это происходило весьма противоречиво, через сведение идеала демо
кратизации к абстрактному принципу легитимации. Однако упадок ли
беральных
институтов можно рассматривать с двух точек
зрения: в
аспекте обособления государства и гражданского общества (что
выраже
но в правовом принципе) и в аспекте публичной сферы (что выражено в
принципе
рациональной коммуникации). Поэтому было бы весьма ДB
Y�
смысленным требовать реинституционализации либеральных
принци
пов,
не ссылаясь при этом на оба, либо на какой-то один из этих
вариан
тов. Очевидным намерением Хабермаса было прежде всего
защитить
принцип
коммуникации. Разумеется, в
классических перечнях прав этот
принцип
выражен целой серией хорошо известных прав (свободы
слова,
собраний, права голоса и т.д.). Но само значение
«прав»
В
этом случае,
ка и в других, предполагает нечто большее. Права, понятые как свобо
ды, вносят разделение между частной сферой и публичной властью, они
предполагают защиту не только опосредующей публичной
сферы от
государственной власти, но тае и частной сферы от публичной
и пуб
лично-государствеНОЙ сфер.
ПQСКОЛЬ Хабермас не хочет отказываться от этих переей, он призы
вает к их пересмотр В этой связи он не только утверждает, что
реальная
тенденция развития юриспруденции в государстве всеобщего благосо
стояния ведет к трансформации охранительных, негативных аспектов
доставшихся нам в наследство конституцш:шных прав, но и убежден, что
ИСТОРИ
Ц
ИСТС
Я
КРИТИ: РЛ шмт, РЕйн
КОЗЕЛЛЕ
К И ЮРГ
Е
Н
335
это развитие по сути является воплощением единственной имманентной
тенденции наших обществ, ведущей к реинституционализации публич
ной сферы1l9. Поэтому он не только говорит о сохранении на норматив
ном уровне принципа либеральной публичной сферы, но и утверает,
что и буква и дух конституционных норм, регулирующих переход от ли
берального Rechtsstaat к государству всеобщего благосостояния, предво
схищают появление новых форм реинституционализации этого принци
па, вступая тем самым в противоречие с институциональной практикой
существующих государств всеобщего благосостояния 1
2
0
. Но как раз в
этом пункте рассуждение, ранее усматривавшее в современной общест
венности и интимных сферах пассивные объекты экономических и
политичесх процессов, ведущих к дезорганизации того и другого, нео
жиданно обнаруживает, что нормы, сложившиеся в этих сферах, могут
служить ориентирами для альтернативной стратегии. Соответственно
Хабермас предлагает свою модель реконструкции. И не является боль
шим сюрпризом тот факт, что здесь мы получаем новый вариант старой
антиномии, присутствовавшей уже у Ге геля и Гр амши, - антиномии, со
держащей в себе две противоположные ориентации: одну - на этатизм,
другую - на гражданское общество.
Следует отметить, что рассуение, касающееся развития правовых
отношений в государстве всеобщего благосостояния, внезапно порывает
с общим направлением анализа Хабермаса, что объединяет его с вывода
ми негативной философии истории и социальной теории поздней
Франкфуртской школы, а также с ее теорией права. Хабермас ссылается
на Франца Неймана, утверждая, что при слиянии государства и общест
ва невозможно будет сохранить общезначимость правовых норм; что
право и администрирование будут все более дедифференцироватьсяl
2
l.
Нейман, однако, указал бы на то, что без сохранения общезначимости
норм нельзя будет сохранить и принцип основных прав, ибо без наличия
определенных ограничений этот принцип лишится связности, а если эти
ограничения не будут определены в соответствии с точно сформулиро
ванными общими критериями, осуществление данного принципа будет
просто невозможным. В то же время Хабермас заявляет, что в условиях
конституционализма государств всеобщего благосостояния под сомне
ние
поставлены только негативные аспекты прав, выполняющие функ
цию защиты от го
с
ударства1
22
.
Мотивации государства в этом контексте ясны: с его вмешательством
в жизнь общества самоограничения в плане социальной автономии мо
показаться устаревшими, и, что еще важнее, появится необходимость
в новых обоснованиях, способных придать законную силу и статус спра
ведливости новым формам деятельности государства. В условиях сохра
нения либеральных норм в качестве принципов легитимации такое уза-
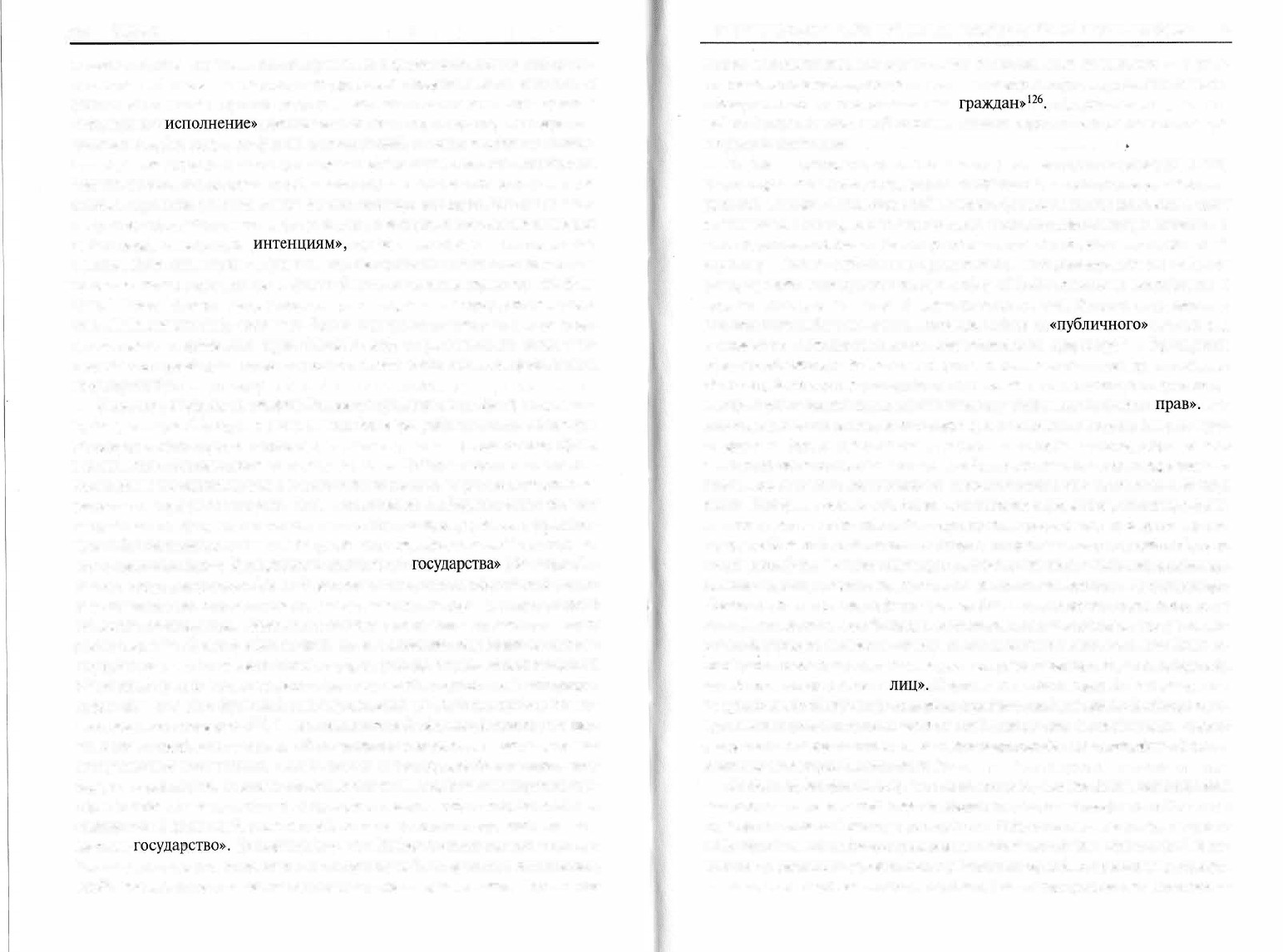
336
ГЛ 5
конение можно осуществить, опираясь на внутреннюю логику либераль
ных прав. В условиях упадка конкурентной экономической системы в
рамках государства, практикующего вмешательство и перераспределение,
«позитивное исполнение» негативных, оборонительных прав в плане реа
лизации свобод слова, собраний и ассоциаций, а тае свобод политиче
ского участия уже не может происходить более и менее автоматически.
Поэтому государство должно обеспечить позитивные и, по сути, матери
альные гарантии участия в виде новых социальных прав. Что же касает
ся самих либеральных прав, то коль скоро они должны «остаться верны
своим первоначальным
интенциям»,
их «нормативная интерпретация
должна быть изменена». При том что негативные права сохраняются в
конституциях государстВ' всеобщего благосостояния в качестве «свобод»
(Freiheitsrechte), они должны теперь рассматриваться как права на учас
тие (Teilnehmechte), которые будут интерпретироваться в терминах
позитивных социальных прав (Sozia/rechte), определяющих виды дея
тельности, а не формы самозащиты и самообособления по отношению к
государствуl23.
Конечно, здесь не обошлось без некоторой натяжки. Даже те консти
туции, которые Хабермас считает наиболее разработанными, содержат,
по его признанию, негативные права, права участия и социальные права
в комплексе. Отсюда возникает вопрос, то ли Хабермас признает потреб
ность как в негативных, так и в позитивных правах, то ли он выступает за
переход от первых ко вторым. Хотя в изложении Хабермаса ответ на этот
вопрос выглит неоднознаым, сам он, по-видимому, рассматривает со
хранение негативных прав как свидетельство присутствия некоторых черт
не до конца изжитого буржуазного «налогового
государства»
(Steuetaat) в
рамках государства всеобщего благосостояния, как свидетельство невы
полнения последним в полной мере задачи создания унифицированного
общества-государства, берущего на себя управление экономическими
процессамиl24. В свете этой задачи, по его мнению, необходимо заново
определить даже права интимной сферы, уже не защищенной внешней
оболочкой (ранее представленной частной собственностью), интерпре
тируя их в качестве функций или порождений публичных процессов де
мократического участия125. В этом контексте Хабермас, кажется, полно
стью подтверает положение В. Абендрота о том, что предполагаемые
авторитарные последствия такой модели сведутся для большинства ин
дивов всего лишь к замене зависимости от частной власти партикуляр
ных интересов зависимостью от процессов коллективного контроля, где
«наивысшей единицей, наделенной правом принятия решений, являет
ся само
государство».
Единственное, что Хабермас находит нужным до
бавить к этой явно этатистской и авторитарной модели, это пожелание,
чтобы государство в качестве единого органа планирования и контроля
ИСРИЦИСТС КРИТИ: Л шм
т
, РН КОЗЕЛЛЕК И ЮР
Н
337
над всеми социальными процессами было бы само подчинено - в рам
ках единого общества-государства - процессам «формирования общест
венного мнения и волеизъявления
граждан» 126. Предполагается, что по
добный демократический этатизм сделает негативные права индивидов
и групп излишними.
Хабермас тае отмечает и подтверждает наличие в юриспруденции,
ориентированной на государство всеобщего благосостояния, конкури
рующей модели. Согласно этой модели, функция опосредования меу
социальными интересами и государственными решениями не исчезнет и
в государстве всеобщего благосостояния, изменится лишь ее публичный
характер. Частно-публичные организации, которые возьмут на себя эту
роль, продиктованную как частной сферой (общественные ассоциации и
организации), так и сферой публичной (партии), будут сотрудничать с
администрацией государства, пытаясь добиться «публичного»
признания
с помощью манипулятивных, иерархических процедур127. Рудименты
сферы публичной политики окажутся во власти этих структур, в числе за
дач которых будет оказание влияния на перераспределительную деятель
ность, предоставляющую позитивные гарантии «социальных
прав».
Ре
альные процессы заключения сделок, в контексте которых все это про
исходит, не будут публичными, а требования публичности, обращенные
к государственным учреждениям, не будут затрагивать структуру перего
воров, юридически относящуюся к компетенции частного права. В этой
связи Хабермас особо отмечает возникшую в конституционном разви
тии государств всеобщего благосостояния тенденцию к распростране
нию требований публичности (ранее затрагивавших только действия
государства) на соответствующие общественные ассоциации и полити
ческие партии, а тае на процессы их взаимодействия с государством.
Только такое законодательство могло бы оживить публичную дискуссию
в этой жизненно важной сфере, поставив «на место общественности, ко
торая больше не является совокупностью частных лиц, взаимодействую
щих лишь на индивидуальном уровне, общественность, состояшую из
организованных частных
лиц». Именно эту тенденцию Хабермас счита
ет равнозначной проекту создания критической публичной сферы в со
временных условиях, отмеченных глубоким и еще не нашедшим своего
разрешения конфликтом с явно доминирующей ныне тенденцией к ма
нипулированию публичностью 128.
Хабермас, по-видимому, не осознает того, что эта плюралистическая
модель критической публичной сферы находится в конфликте также и с
идеалом единого общества-государства. Без сомнения, он отоествляет
действующие сы (государственная законодательная активность) и ко
нечные результаты (полностью публичный процесс принятия решений
по всем социально значимым вопросам) этих двух процессов. Те м не ме-
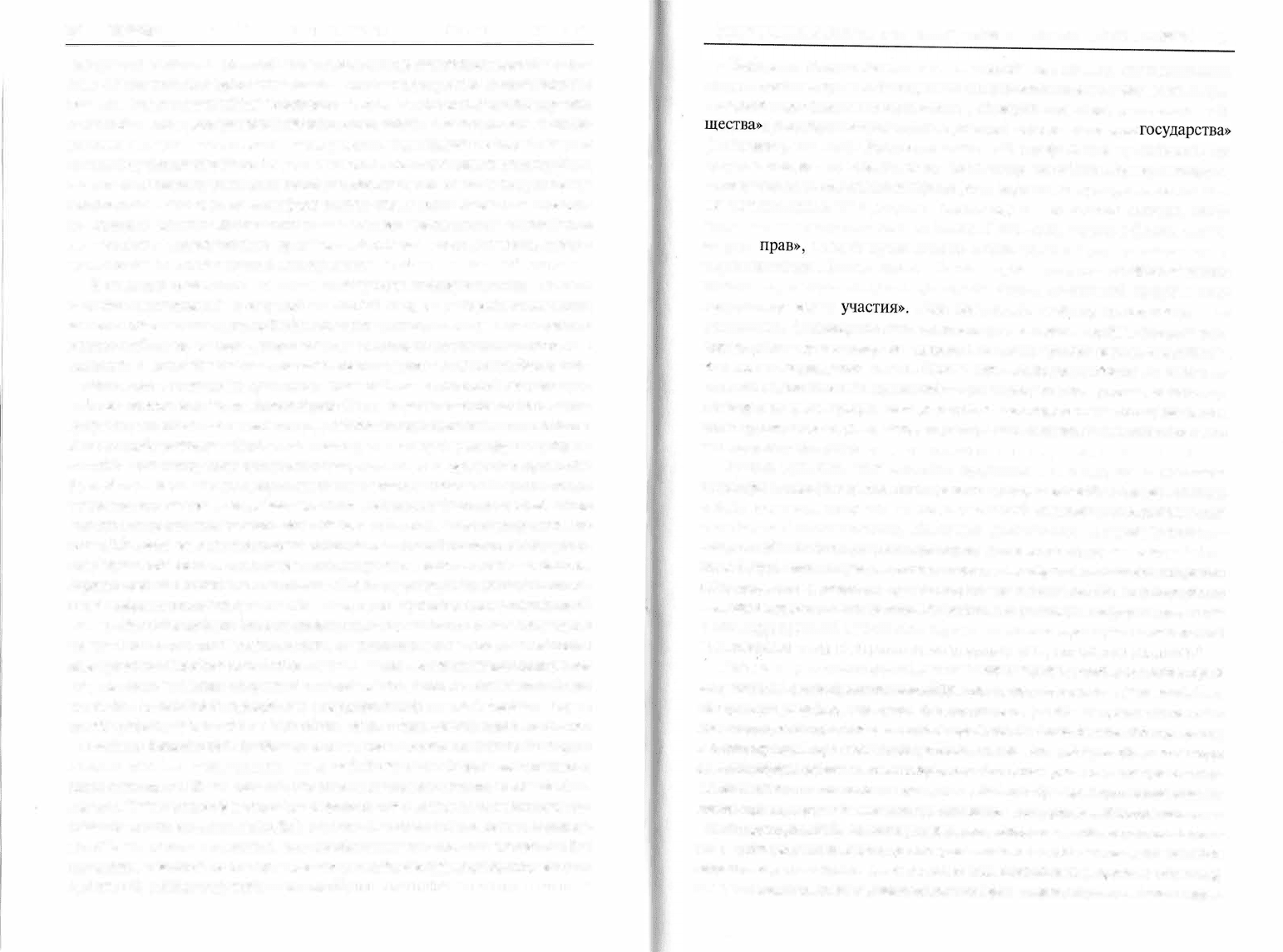
338
Г
ЛАВА 5
нее проект создания единого общества-государства, выраженный в пере
ходе от негативных прав, ограничивающих государство, к позитивным
правам, предполагающим государственную активность, ориентирован
на монолитное демократическое общество, обладающее единым коллек
тивным актором, обеспечивающим участие индивидов в единой социе
тальной публичной сфере. В данном контексте меньшинства как группы
и даже ассоциации, имеющие особые интересы и идентичности, не будут
защищены; под защитой окажутся только отдельные члены как гражда
не единого целого. Даже если такая модель не является маской для
этатистского авторитарного правления, у нее нет инструментов, предо
храняющих от тоталитарной демократии.
В порядке сравнения отметим, что проект демократизации сущест
вующих ассоциаций и партий является скорее плюралистическим,
нежели коллективистским. Хотя его цель состоит в том, чтобы восста
новить публичную сферу, осуществить подобное предполагается путем
создания в каждой ассоциации небольших групп общественности, свя
занных друг с другом посредством более общих и, опять же, более пуб
личных процессов взаимодействия. Если в реизации этой модели
будут играть какую-то роль государственные законодательные органы,
былое полемическое отношение к авторитарному характеру государст
венной администрации неизбежно возродится, и государство будет вы
нуждено не только гарантировать существование новой общественнос
ти материально, но и ограничить свои собственные полномочия. Если
только мы не считаем возможным полное исчезновение государственно
го управления, это двойственное отношение общественности к государ
ству придется как-то институционализировать, и это требование явно
отражено в факте неоднозначности общей структуры прав, заложенных
в современных конституциях. Новые формы публичности с очевиднос
тью требуют не только материальных импульсов со стороны государст
ва, но и тех или иных форм защиты от вмешательства государства. Ма
лые группы общественности, представленные ассоциациями и партия
ми, которые должны сохранять автономность даже в отношении более
широких публичных процессов, регулирующих их взаимодействие, не
могут существовать и действовать без прав - как негативных, так и по
зитивных. Однако это требование по сути восстанавливает обе норма
тивные основы либеральной публичной сферы: дифференциацию и
коммуникацию. Дело, однако, не сводится только к праву на коммуни
кацию. Точно в такой же двойной защите нуждаются и члены демокра
тизированных ассоциаций. Для того чтобы иметь возможность высту
пать в качестве участников, им необходима позитивная поддержка и
гарантии, а чтобы иметь возможность свободно функционировать, им
нужны негативные права и свободыJ
2
9.
ИСРИЦИСТСЯ КРИ1И: Л ШМИ, РН
КЕЛЛЕК И ЮРГЕН
339
Хабермас, безусловно, полагал, что обе его модели конкурировали
друг с другом лишь постольку, поскольку обе были нацелены надемокра
тизацию двух отдельных процессов, ведущих к слиянию: «этатизации об
щества»
(государственное вмешательство) и «социализации
государства»
(неокорпоративизм). Допуская мысль об окончательном слиянии он
.
,
предполагал также возможность конвергенции обоих демократизирую-
щих процессов. Но он не понимал, что первый из предусмотренных им
демократизирующих процессов продуцирует социальные условия, необ
ходимые для осуществления публичной свободы, только в форме «соци
альных
прав» ,
а такие права вполне совместимы с просвещенным и па
терналистским абсолютизмом. Лишь второй процесс способен оживить
конституирующую интеракцию внутри самой публичной сферы в виде
подлинных «прав
участия».
Эти процессы, однако, конвергируют не
полностью, фактически они даже воспроизводят ту дифференциацию,
которая была поставлена под угрозу как государственным вмешательст
вом, так и корпоративизмом. Кроме того, они проистекают из двух раз
личных теоретических традиций - из марксистской утопии общества
государства и из предлагавшегося То квилем проекта восстановления в
демократической форме опосредующих ассоциаций граанского и по
литического обществ.
Вторая причина, позволяющая представить обе модели как конвер-
. гирующие, состоит в том, что их институционализация осуществляется
в ходе единого процесса законотворческой деятельности государства
всеобщего благосостояния. Хабермас фактически постулирует сохра
нение публичности как либеральной ценности, служащей норматив
ным фоном для государственных акторов, добивающихся легитимнос
ти в условиях усиливающегося интервенционизма. Но эти нормы не
связаны с другими акторами, потому что в условиях деформированной
и манипулируемой публичной сферы подобное оказывается почти не
возможным.
Наконец, по логике вещей государственная деятельность может быть
нацелена на самоограничение. И тем не менее есть основания полагать,
что модели дифференциации, базирующиеся на правах, никогда не осу
ществлялись без участия акторов, внешних по отношению к государству
и даже враждебных государству. Однако модель деформированной пуб
личной сферы предполагает общество без оппозиции и пассивность по
тенциальных социальных акторов. Выбор Хабермаса определяется
характером осуществленного им анализа. Подразумеваемое отождеств
ление двух моделей, нацеленных на возобновление общественной жиз
ни, - это не только плод его социалистических убеждений, но также и
следствие сделанного им вывода о необратимости поворота к этатизму,
происходящего по ходу становления современных обществ. Та ким обра-
