Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория
Подождите немного. Документ загружается.

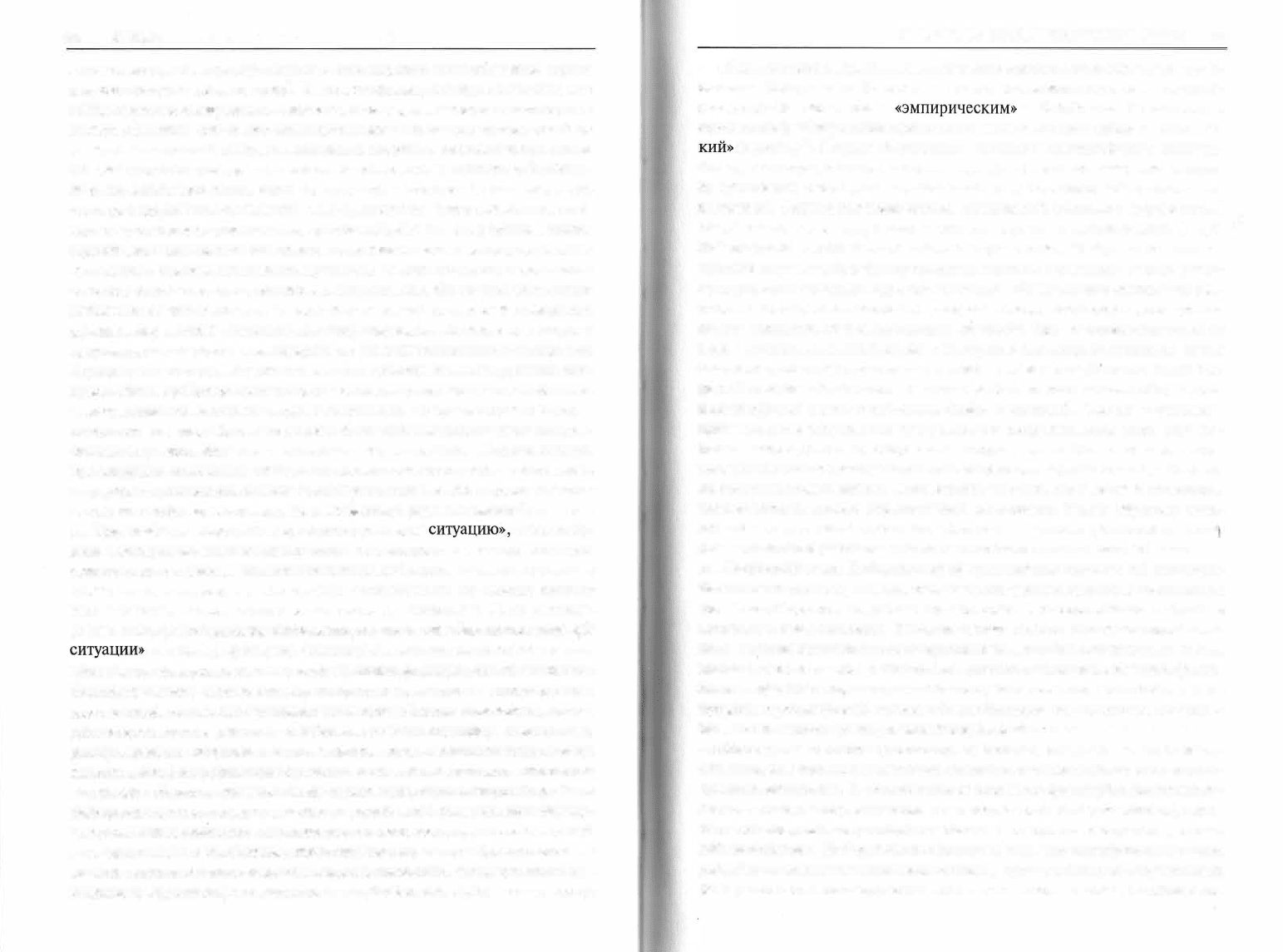
Г 8
нально мотивированному) согласию относительно введенИя такой нормы
или сохранения за ней ее силы9. То , что пони мается под рационально мо
тивированным согласием, обставлено, однако, довольно жесткими усло
виями. Для того чтобы все заинтересованные стороны имели «реально
равную возможность сыграть в диалоге свою роль», между любыми двумя
его участниками должно существовать обоюдное и взаимно обязываю
щее, не вызванное принуждением признание каждого из них независи
мым рациональным субъектом, чьи притязания будут признаны, если
они подкреплены весомыми аргументами 1
0
. Но получения в таком
диалоге действительного результата он должен иметь характер полностью
публичного коммуникативного процесса, не испытывающего давления
со стороны политических' или экономических сил. Он должен быть также
публичным в чисто практическом смысле: всякий способный говорить и
действовать; всякий потенциально затрагиваемый обсуждаемой нормой
индивид должен иметь возможность на равных участвовать в дискуссии.
К тому же участники должны иметь возможность изменять уровень дис
курса, когда требуется подвергнуть сомнению молчаливо подразумевае
мые традиционные нормы 11. Другими словами, в рациональном обсужде
нии ничто не может быть и не должно быть табу или исключительным до
стоянием власти, богатства, традиции или авторитета. Короче говоря,
процедурные принципы, определяющие возможность достижения раци
онального соасия по поводу валидности какой-либо нормы, долы
включать в себя симметрию, рециnроктность и рефлексивносты
•.
Эти свойства образуют «идеальную речевую ситуацию», позволяю
щую дискурсивно выявить притязания на валидность, имплицитно при
сутствующие в любом коммуникативном действии. Следует, однако, с
самого начала оговорить, что теорию легитимности не следует смещи
вать с теорией организации практической деятельности. Если рассмат
ривать подвергающуюся частой критике концепцию «идеальной речевой
ситуации» как набор критериев (метанорм), позволяющих провести раз
личие между легитимными и нелегитимными нормами, это позволит из
бежать путаницы, производимой такими толкованиями, которые отож
дествляют формальные правила доказательной речи или обсуждения с
некоей конкретной утопией. «Идеальная речевая ситуация» имеет в виду
только правила, которым должны следовать участники дискурса, если
они стремятся к достижению согласия, основанного единственно на си
ле доводов. Если же эти условия не соблюдены, если, например, дебати
рующие стороны не имеют равных возможностей говорить и подвер
гать сомнению исходные посылки, если на них оказывается силовое или
манипулятивное воздействие, тогда стороны не станут серьезно воспри
нимать аргументы как аргументы и, следовательно, не могут считаться
участниками речевой ситуации, построенной на доводах.
ДИСКИВ
Я
Э И
СКОЕ ОБЩО
1
Ясно, что не все процессы достижения согласия отвечают этим требо
ваниям. Хабермас (и Карл-Отто Опель) постоянно проводят различие
меу «рациональным» И
«эмпирическим»
консенсусом. Большинство
процессов формирования консенсуса имеют «только лишь эмпиричес
кий»
xapaKTepl
3
. Нормы обсуждения, являющиеся ИСТОЧНОМ валидно
сти других норм, сами не являются продуктом соглашений; они, скорее,
представляют собой условия возможности достижения действенных со
ашений. Результаты конкретных соглашений обладают нормативной
силой лишь в той мере, в какой они согласуются с метанормами. С дру-
;
гой стороны, и это может казаться парадоксом, Хабермас настаивает
именно на реьном, а не виртуальном диалоге, поскольку только реаль
но осуществленный дискурс обеспечивает обмен ролями каждого из уча
стников со всеми остальными и, следовательно, подлинную универсали
зацию взглядов, не исключающую нИкогоl4. Так он отмежевывается от
всех подходов, в соответствии с которыми согласие достигается путем
монологического утверждения истины, а равно и от большей части тра
диций теории общественного договора (в которых модель обсуждения
постулируется лишь в терминах мифа о началах). То лько в реальном ·
практическом обсуждении при участии и сотрудничестве всех, кого по
тенциально затрагивает обсуждаемая норма, может быть достигнут раци-
0HaльHый консенсус относительно валидности данной нормы, ибо толь
ко при таких условиях мы можем знать, что мы, все вместе, а не каждый
в отдельности, имеем определенные убеения. Таким образом, мета
нормы дискурсивной этики специфичны в том смысле, что их нормати'
ное наполнение раскрывается только в контексте реального диалога.
Соответственно, Хабермас переформулировал кантовский категори
ческий императив применительно к процедурным правилам достижения
согласия: «Вместо того, чтобы предписывать всем остальным в качестве
валидного свой принцип, который Я хочу видеть универсальным зако
ном, я олжен поставить этот принцип на всеобщее обсуждение с тем,
чтобы в его ходе про верить претензию этого принципа на универсаль
ность. Ударение перемещается с того, что каждый может хотеть, не
встречая противоречий, видеть общим законом, на то, что все по согла
сию желают иметь универсальной нормоЙ»
1
5.
Идея рационального консенсуса, однако, содержит в себе нечто
большее, чем просто участие всех заинтересованных сторон в соответст
вующей дискуссии. В дополнение к процессу формирования согласо
ванной воли, наше утверждение, что норма является легитимной, озна
чает, что она, на наш взгляд, nравuльна, а не просто соответствует кол
лективной воле. Хабермас настаивает на том, что дискурсивная этика,
подобно всем когнитивистским этикам, предполагает, что притязания
на нормативную силу имеют когнитивный смысл и могут, с определен-
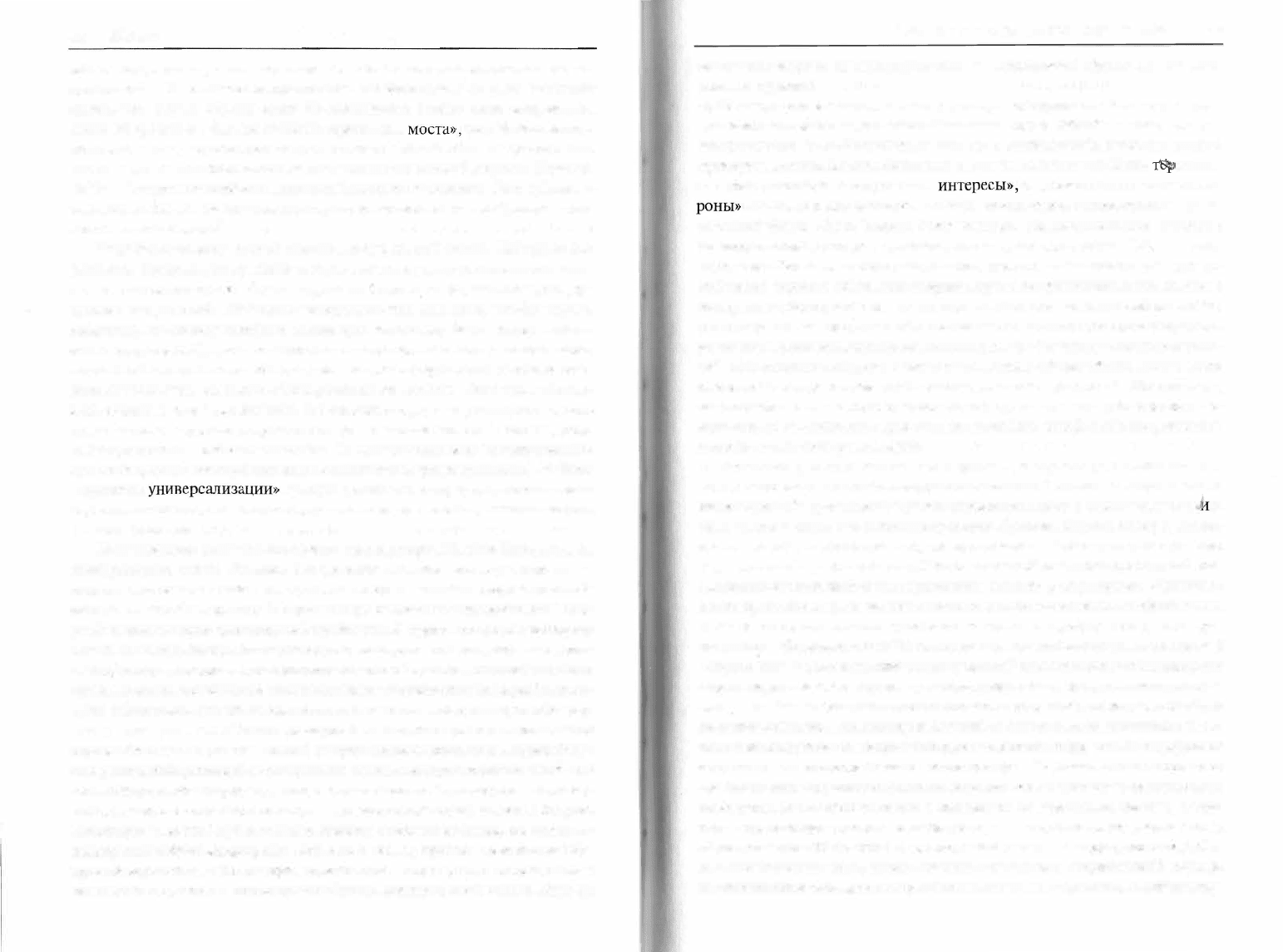
2
ГЛД 8
ными поправками, рассматриваться как когнитивные претензии на ис
тинносты.. Фактическое признание сообществом нормы означает
лишь, что норма обрела силу. Ее валидность может быть закреплена
лишь
посредством
использования «принципа
моста» ,
устанавливающе
го
связь между процессом формирования общей воли и критериями
оценки суждений относительно приемлемости данной нормы. Unpartei
lichkeit (беспристрастность) суждений должна дополнять Un beinussbar
keit (способность не поаваться чужому влиянию) при формировании
коллективной волиl7.
Разрабатывая этот второй аспект дискурсивной этики, Хабермас об
ращается к упомянутому выше содержательному измерению. Оно подво
дит нас ко второму аспеКту дискурсивной этики - формальному содер
жанию соглашений. Хабермас утверждает, что для того, чтобы нормы
действия, по поводу которых достигнуто согласие, были беспристраст
ными (unparteilich), рациональными и легитимными, они должны выра
жать обобщаемый интересl8: каждая валидная норма должна удовлетво
рять следующему условию: «Каждая заинтересованная сторона в состоя
нии принять все последствия и побочные эффекты, которые можно
предвидеть в качестве результата о
б
щего соблюдения этой нормы, ради
удовлетворения интересов каж
д
ого (и последствия эти предпочтитель
нее
последствий альтернативных возможностей регулирования)
1
9. Этот
«принцип
универсализации»
требует реального обсуждения, если заин
тересованным сторонам нужно различить то, на чем можно сойтись как
на универсальной норме.
До настоящего момента мы просто суммировали взгляды Хабермаса на
дискурсивную этику. Однако, как указали недавно некоторые критики,
остается непроясненным статус этой теории или ее предметная об
ласть2О• С одной стороны, Хабермас явно считает ее универсальной тео
рией
морали в духе кантианской традиции. С другой стороны, он пред
ставляет дискурсивную этику как центральную часть теории демократи
ческой легитимности и ядро универсалистской концепции человеческих
прав, противопоставляя ее традиционным теориям и новым версиям те
ории
общественного договора. Дело осложняется еще и тем, что Хабер
мас утверает способность дискурсивной этики как принципа леги
тимности преодолеть очевидный разрыв между законом и моралью пу
тем раскрытия лежащей в основании закона политической этики2
1
. Он
ставит перед собой цель представить связь между моралью и законом та
ким
образом, который, в отличие от марксизма, стремящегося стереть
между ними грань, предполагает сушествование различия, но вместе с
тем приспосабливает формальный закон к моральным принципам. Та
ким образом, первый стоящий перед нами вопрос - это вопрос о том,
какова
же в точности предметная область дискурсивной этики. Есть ли
ДИСИВЯ Э
И СКОЕ
ОБЩТВО
это теория морали или политической легитимности? Может ли она быть
и тем, и другим?
Нам предстоит защитить дискурсивную этику как политическую эти
ку и как теорию
д
емократическо
й
легитимности и основных прав. Мы ут
верждаем, что она обеспечивает стандарт, посредством КООРОГО можно
проверятьлегитимность социально-политических норм. Та кие мины,
как «публичный диалог», «общие
интересы»,
«все заинтересованные сто
роны»
И «социальные нормы», по сути соотносятся с категориями поли
тической философии. Те ория дискурсивной этики становится излишне
перегруженной, если не ограничивается этими понятиями. Действитель
но, два наиболее значимых возражения против возможности дискурсив
ной этики служить в качестве теории морали сосредоточивались на тех ее
измерениях, которые делают из нее вполне возможного кандидата на
роль теории демократической легитимности, а именно на переформули
рованном принципе универсализации и на требовании реального диало
га22• Мы оставим в стороне вопрос о том, какая общая теория лучше всего
работает в сфере индивидуальных моральных суждений. Но считаем,
вместе с тем, возможным отстаивать дискурсивную этику как политиче
скую этику, не становясь при этом на позицию какой-либо из разновид
ностей моральной философии.
Это значит, что мы мыслим построение дискурсивной этики как по
пытку использовать интуиции деонтологической этической теории глав
ным образом в противовес правовому позитивизму и правовому реал з
му, а равно и системному подходу в духе Лумана. Короче говоря, задача
состоит в том, чтобы показать, что в законах и в политике наличествует
нормативный и рационально обосновываемый компонент, который, не
зависимо от санкций и эмпирических мотивов, определяет обязатель
ность правовых норм и легитимность социально-политической системы.
Однако сушествующая дифференциация между общей теорией мора
ли и теорией политической легитимности ставит перед нами ключевой
вопрос: как провести границу между ними? Недостаточно объявить, что
мораль предполагает индивидуальную рефлексию нравственного созна
ния, в то время как законность касается социальных норм и требует
реального диалога, поскольку и мораль, и закон имеют отношение к со
циальным нормам, и вопрос как раз и состоит в том, чтобы определить
пределы вмешательства закона в эти нормы. Неубедительны и попытки
провести такую границу путем вьщеления отдельных сфер жизни: одни
по определению суть частные и находятся за пределами закона, а дру
гие - публичные и, следовательно, открыты нормативно-юридическому
регулированию. На наш взгл, этот подход неправомерен, так как пони
мание обществом того, какие институциональные установления и отно
шения долы оставаться за рамками юстиции и отдаваться на ииву-
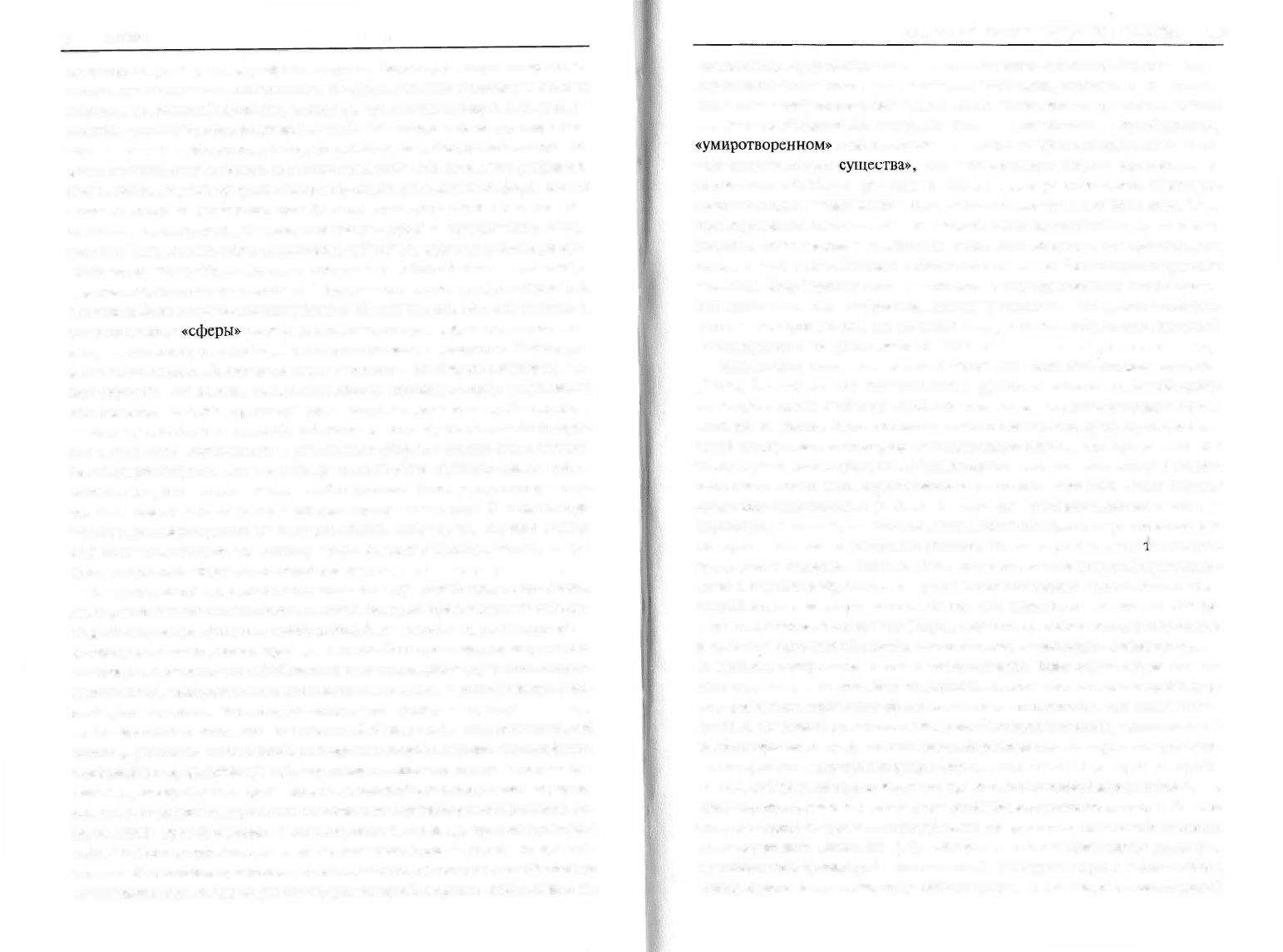
ГЛ 8
альное усмотрение, со временем меняется. Более того, определение «ча
стные» применительно к институтам и отношениям не изымает их из-под
действия требований юстиции, а, скорее, предполагает иную форму нор
мативно-юридического регулирования2
3
. Для определения границы ме
жду частным и публичным, между тем, что оставляется на личное усмот
рение индивидов и является их моральным выбором, и тем, что регулиру
ется законом, нельзя отправляться от пространственной метафоры или от
межинституциональных делений. Вместо этого мы должны начать с до
пушения, что индив действует как частное лицо в определенном своем
качестве (как автономного морального субъекта), при определенных сто
ящих перед ним выборах (затрагивающих потребность в ентичности) и
в рамках определенных отношений (дружеских, интимных), которые мы
и должны быть готовы анализировать и обосновьmать. На деле частная и
даже интимная
«сферы»
всегда устанавливались и регулировались зако
ном, даже в тех случаях, когда то, что установлено, включает и область не
зависимых сдений, которые могут вступать в конфликт с законом. Та
ким образом, мы настаиваем на сохранении аналитического различения
области независимой моральной рефлексии или суждения и области пра
вовых норм, но отвергаем любые попытки ввести однозначное соответст
вие между этим различением и реальными сферами жизни или совокуп
ностями институтов. Скорее, закону должно быть присуше самоограни
чение в том, что касается независимых сений индивидов, коль скоро
это не влечет нарушения основных принципов юстиции. Именно таким
образом действуют права на частную жизнь, хотя то, что именно в част
ной жизни подпадает под защиту права на неприкосновенность, - во
прос, открытый дискуссии и пересмотра.
С другой стороны, наше толкование дискурсивной этики как теории
демократической легитимности и основных прав предполагает социоло
гическое видение процесса становления позитивного права и соответст
вующего разделения сфер права и морали. И все же наша версия теории
отвергает тот взгляд, что неизбежным следствием этого процесса являет
ся тотальная денормативизация политики и закона и деполитизация мо
рали. Как же может быть разрешен этот очевидный парадокс?
Совершенно ясно, что, на взгляд Хабермаса (и наш собственный
взгляд), развитие автономной универсалистской морали, равно как и
становление формальной дифференцированной системы позитивных
законов должны рассматриваться как величайшие исторические дости
жения. К тому же эти процессы связаны с появлением специфически со
временных представлений о демократии и правах, представляющих
собой конституирующие условия современной версии гражданского об
щества. у этого процесса есть, однако, еще одна сторона: осособление
позитивных правовых норм от сферы частной морали, основанное на
ДИСК
ИВ
Э И СКОЕ ОБЩО
принципах, сопровождавших возникновение конституционных госу
дарств и капиталистических рыночных экономик, влечет за собой потен
циальный конфликт меу лояльностью граждан к абстрактным прави
лам правовой системы (которые имеют силу только в пространстве,
«умиротворенном»
определенным государством) и «кос6политичнос
тью человеческого
существа»,
чья персональная мораль претеует на
всеобщность24. Еще более важно, что со времени упадка теорий естест
венного права и возвышения правового позитивизма все чаще оспарива
ется претензия на то, что у законов есть иное нормативное содержание,
помимо соблюдения надлежащих законодательных и процессуальных
норм, и что они обладают обязующей силой и без соответствующих
санкций. Дифференциация законности и морали состояла как в отделе
нии политики от повседневной жизни граан, так и в денормативиза
ции самой законности, по крайней мере, с точки зрения значительной
части правовых теорий начиная с XIX в.25.
Более того, когда право понимается как воля или приказ суверена
(Гоббс, Остин) и коа конститии и фуаментальные права объявля
ются всего лишь особыми случаями позитивного права, резулат этого
выходит за пределы разделения морали и закона. По сути, правовой по
зитивизм провозглашает денормативизацию закона, его превращение в
класс эмпирических фактов. Обязанность и долг превращаются в осмот
рительное поведение перед лицом возмоых санкций. Даже внутри
правового позитивизма ( л. А. Харт) такие крайние выводы часто от
вергаются, и идеи- права как приказа и долга как расчета решительно от
метаются. Тем не менее удно увидеть, каким образом предс 'авление о
прав е как о системе, чисто юридические элементы которой нуаются
лишь в подгонке друг к другу и удовлетворяют только требованиям логи
ческой непротиворечивости (Келсен) или валидности в терминах «вто
ричного» правового порядка (Харт), может вести к появлению чего-либо
подобного подлинной политической этике, на которую может опирать
ся правовая или политическая легитимность. Еще труднее представить
себе это, когда имеешь дело со взглядами, согласно которым право сво
дится к социологическим прогнозам относительно того, что захотят вне
дрить с помощью санкций суды, легислатуры, общины, политические
деятели или другие держатели власти (правовой реализм; некоторые вер
сии критических правовых разработок).
В своей полемике с Вебером и Луманом относительно оснований ле
гально-рационального господства Хабермас неустанно указывал на не
возможность выведения легитимности современной право вой системы
в целом только лишь из формального и систематического характера
юридических процедур26. Легитимный авторитет права покоится на
внеюридических источниках обоснования. Отсылки к конституциям
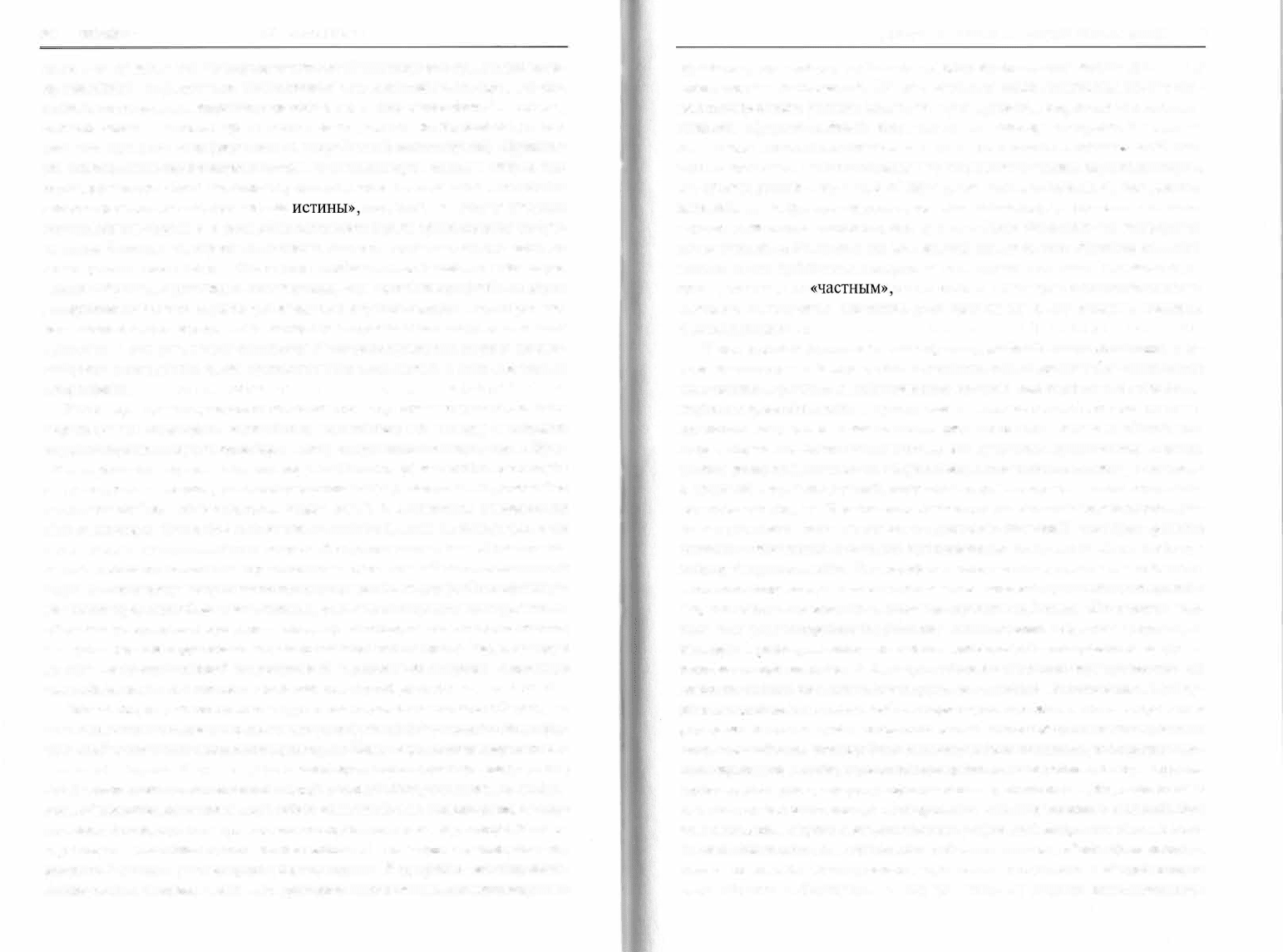
466 ГЛА
В
А 8
как к первичному источнику права, по крайней мере в формально демо
кратических государствах, показывают, что легитимность права в ко
нечном счете nаразumuруеm на принципах демократии и основных прав,
воплощенных в конституциях и в тех демократических процессах, кото
рые, как принято считать, стоят за разработкой конституций. Принци
пы демократической легитимности и основных прав лежат в основе ав
торитета закона. Эти принципы, однако, уже невозможно отстаивать
как священные, «самоочевидные истины»,
как это делалось в теориях
естественного права и в республиканских теориях гражданских добро
детелей. Задачей дискурсивной этики является создание современного
эквивалента таких теорий без содержащихся в них исходных посьmок.
Та ким образом, принципы демократии, ею отстаиваемые, не должны
восприниматься как данные раз и навсегда; в них следует видеть резуль
тат изначального и затем постоянно повторяемого коммуникативного
процесса, в котором подтверждается общность принятых норм и их спо
собность подтвердить свои притязания на валидность в ходе все новых
обсуждений.
Мы предлагаем определить легальность в терминах старых отсылок к
формальным санкциям, способным привлекать на защиту валидных
норм исполнительную и судебную власть современного государства. Пра
вила морали не взывают к такого рода силовой поержке. Соответствен
но дискурсивная этика, как мы ее понимаем, применима к правовой и
политической системе в целом, равно как и к отдельным комплексам
правовых норм, которые зависят как от санкций, так и от интерпретации
и согласия заинтересованных сторон. В первом случае мы рассматрива
ем дискурсивную этику как принцип демократической легитимности, во
втором - как часть теории основных прав, которые могут быть институ
ционализированы. Как мы покажем, эти два измерения дискурсивной
этики подразумевают существование области независимого морального
суждения, находящейся вне ее досягаемости, но являющейся, несмотря
на это, ее предпосьmкой и требующей гарантии со стороны основных
прав. Обратимся сначала к этой последней проблеме.
Мы исходим из того, что дискурсивная этика относится к сфере пра
ва в двух взаимозависимых, но все же различных измерениях - демокра
тической легитимности и основных прав. Каждое из этих измерений за
трагивает мораль. Однако даже если эмпирически мы можем указать,
ссьmаясь на формальные санкции, где начинается сфера закона и конча
ется область независимых моральных суений, это еще не решает нор
матвного вопроса о том, где должны пролегать такие границы. Конеч
но, все современные гражданские общества проводят границу между
этими областями, но делают это по-разному. В спорных случаях неиз
бежно встает вопрос, отдать ли преимущество легальности или индиви-
ДИСИВ
Э
И
СКОЕ ОБЩО
7
дуальному суждению, публичному обсуждению или индивидуальному
нравственному сознанию. На наш взгляд, в таких ситуациях дискурсив
ную этику нужно считать имеющей преимущества перед любой моноло
гически сформированной моральной позицией, по крайней мере на
начальном этапе. Это объясняется тем, что только в ходе реqльной дис
куссии со всеми, кого потенциально затрагивает данная правовая норма,
мы можем узнать, что у нас общего (если таковое имеется), что должно
быть областью правового регулирования, какие формы принятия полити
ческих решений легитимны, что должно быть оставлено на усмотрение
независимых субъектов и где необходим компромисс. Другими словами,
только после публичной дискуссии по спорным вопросам мы можем ре
шить, что считать «частным», Т. е. таким, где решение оставлено на неза
висимое усмотрение индивида в соответствии с его личным идеалом
благой жизни27.
у дискурсивной этики, таким образом, двойной статус. Ее специфиче
ская предметная область - это институционализированные социальные
отношения, правовая и политическая система как целое и отдельные за
коны и права. Она также предоставляет возможность решить вопрос о
границе между независимым индивидуальным суждением и сферой юс
тиции. Вряд ли стоит сомневаться, что граница, проведенная с точки
зрения реальных процессов обсуждения, может оказаться неприемлемой
с позиций моральных убеждений или потребностей в идентичности ин
дивидов или групп. Большинство может постараться подвести под пра
вовое регулирование те участки принят ия решений, которые раньше
считались частными и которые меньшинство не хочет отдавать на откуп
такому регулированию. В этом случае возражения, продиктованные го
лосом совести, и гражданское неповиновение являются легитимными с
моральной точки зрения способами противодействия. Их следует ува
жать как усилие признать публично установленные границы, предпри
нимаемое 9дн6временно с попыткой обойти их или изменить ввиду их
непривычной жесткости. Однако в таких ситуациях приоритет все же
должен отдаваться юстиции в следующем смысле. Никого нельзя прину
дить отказаться от своего образа жизни, идентичности ил моральных
убеждений, и все же моральное сознание, если оно не желает оказаться
несправедливым, должно быть самоограничивающимся, Т. е. принмаю
щм принцип демократической легитимности и основные права, если
те, в свою очередь, характеризуются самоограничением. Другими слова
ми, они должны оставлять пространство для выражения различий. Это
означает, что в случае конфликта между представлениями о благой жиз
ни и законностью не должно считаться неэтичным, если индивид будет
следовать своей совести, своим моральным суждениям и соответствую
щим образом действовать. И тем не менее он должен находиться под
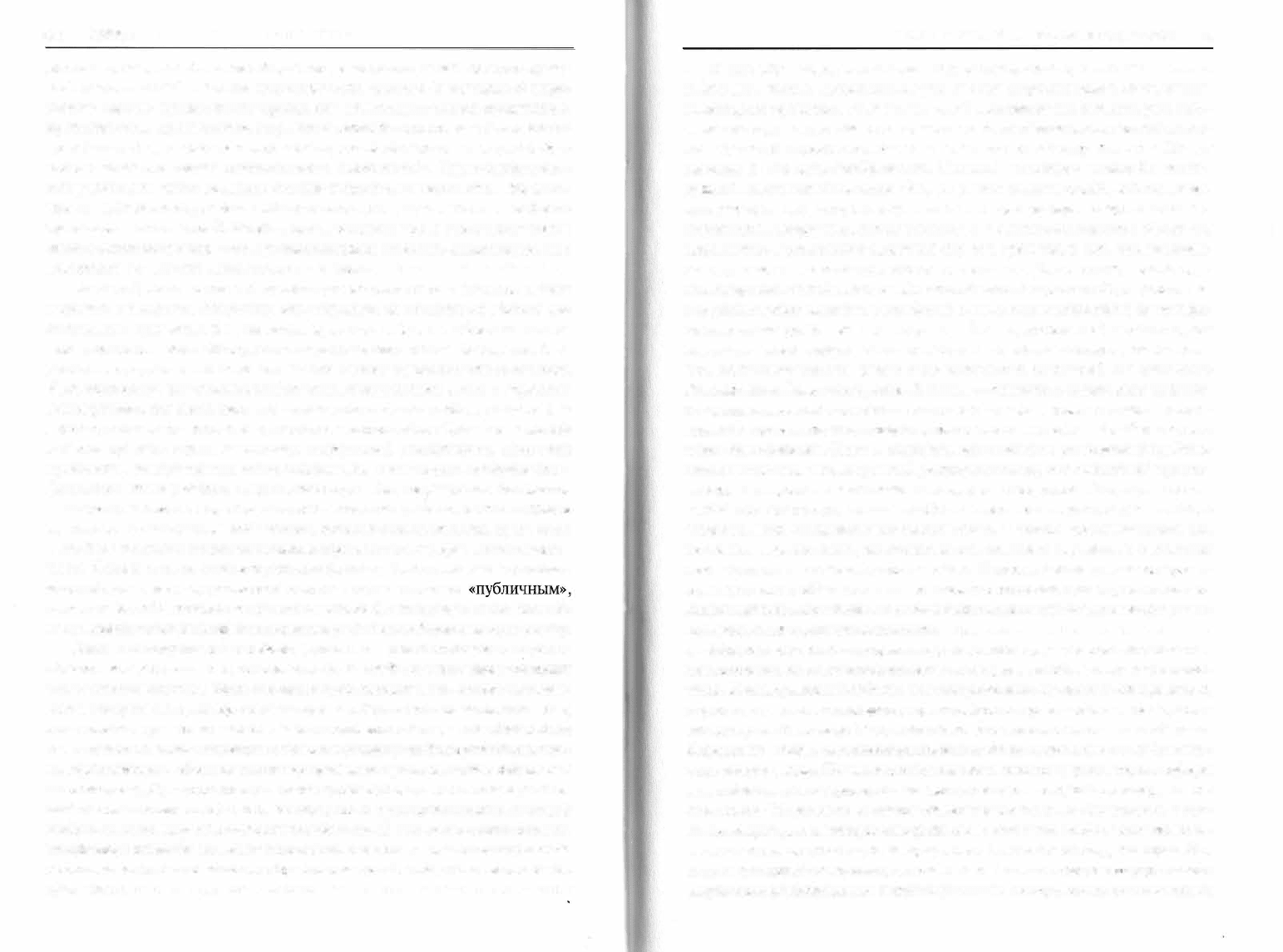
8
ГЛА
В
А 8
диктатом самоограничения. В рамках демократической конституцион
ной политической системы морально оправданное (легитимное) нару
шение закона предполагает признание конституционных принципов,
принятие демократического порядка и символическую направленность
действия на то, чтобы повлиять на общественное мнение и подтолкнуть
его к выработке нового нормативного консенсуса
2
8• Правоохранитель
ная реакция на такое действие дона исходить из понимания его отли
чия от обычного нарушения общественного порядка и потому избегать
чрезмерной жесткости29. На этих идеях основываются все значительные
акции неповиновения - от продиктованных совестью индивидуальных
поступков до тактики социальных движений.
Таким образом, наша интерпретация не уничтожает границу меу
моралью и законом. Напротив, она сохраняет за индивом область не
зависимого суждения. В то же самое время она оберегает позитивный за
кон от потенциально обезоруживающего вмешательства абсолютных мо
ральных суждений, но и не отдает его в руки правовых позитивистов.
Ведь коль скоро мы ограничили область дискурсивной этики вопросами
демократической легитимности и прав, мы открыли простор разнообра
зию моральных принципов, культурных ценностей и образов жизни. Не
посягая на роль судьи в вопросах внутренней адекватности всех этих
предметов, дискурсивная этика занимается ими только в случае кон
фликта по поводу общих социальных норм. Так, независимость совести
и множественность образов жизни пользуются уважением со стороны
принципов демократической легитимности и основных прав, пусть даже
подобное означает вторжение данных принципов в сферу закона и поли
тики. Хотя и в этом случае процессы формирования волевых решений
через обсуждение определяют границу меу «частным» И
«публичным» ,
они не могут полностью устранить частное (понимаемое здесь как об
ласть независимых индивидуальных моральных выборов или суждений).
Сами метанормы обсуждения, даже если они и не могут служить
обоснованием независимости индивидуальной совести, предполагают
такую независимость. Если все заинтересованные лица имеют возмож
ность выступить в диалоге, если дискуссия ведется без оказания давления,
если каждый участник может сменить уровень обсуждения и выразить
свои представления о лежащих в основе противоречий потребностях, тог
да практическое обсуждение подразумевает существование независи
мых индивидов, способных не только рефлексировать по поводу своих
собственных ценностей, но и оспаривать с принципиальных позиций
любую данную норму. Процессы необходимой для этого социализации
индивидов были бы невозможны без институционализации моральной
независимости и взаимного признания различий, обеспечиваемых
правами.
ДИСКИВН
А
Я Э И
Г
РСКОЕ ОБЩО
9
Таким образом, сами правила, регулирующие дискуссию и совместный
поиск консенсуса, предполагают различение морали и права. Формулируя
метанормы принципа демократической легитимности и некоторых клю
чевых прав, дискурсивная этика предполагает обоснование независимос
ти моральной сферы и как бы свое собственное самоогранич�ние. Но тут
уместно и еще одно соображение. Никакой консенсус, каким бы едино
душным и длительным он ни бьm, не может заявить о себе, что он вечен,
поскольку не существует автоматического совпадения между законным и
моральным, между тем, что представляется данной солидарной общности
нормативно правильным в данный отрезок времени, и тем, что неизмен
но морально приемлемо для каого индивида. Даже если правовая нор
ма вержала самый идеальный испытательный процесс обсуждения, она
все равно может вступить в конфликт с личными ценностям и идентифи
кационными требованиями индивида. Ни моральная независимость, ни
индивуальная идентичность не могут приноситься в жертву коллектив
ной идентичности или групповому консенсусу, поскольку это нарушило
бы сам raison d're дискурсивной этики - слуть формальным принци
пом легитимности норм в плюралистическом обществе, состоящем из ин
дивидов, придервающихся отчетливо разных представлений о том, что
такое благая жизнь. Даже в ситуации, максимально отвечающей требова
ниям пощ:юстью симметричной реципроктности, нет оснований предпо
лагать и отсутствие разлий, и отсутствие перемен. В конце концов,
любой консенсус представляет собой эмпирический факт и должен быть
открытым для оспаривания и пересмотра3О• С точки зрения юстиции, мы
не можем заранее знать, не станет ли сегодняшняя перемена в ценностях
меньшинства завтрашней общей волей. Поэтому индивуальное сде
ние, различные образы зни и эксперименты с новыми образами жизни
долы иметь автономию по отношению к существующему консенсусу по
поводу того, что считать законныI •.
Могут ,тем не менее возразить, что с точки зрения морального созна
ния нет нужды в отдельной этической теории для области права и поли
тики. Как моральный субъект я повинуюсь закону, покуда он правилен,
а когда делать это становится нравственно неприеемым, я вынужден
его ослушаться, какие бы последствия это для меня не влекло. Мораль,
безусловно, шире, чем законность, как с объективной, так и с субъектив
ной точек зрения. Формальный закон не может регулировать все сферы
деятельности, в то время как мораль, на субъективный взгляд, должна
это делать. Моральное сознание должно допускать необходимость зако
на и санкций, поскольку мы не боги, не всегда ведем себя морально и по
тому в определенных случаях нуждаемся во внешнем сдерживании. Но,
если моральный компонент закона эквивалентен тому, к чему приводят
моральные размышления индивидуального актора, тогда для полити
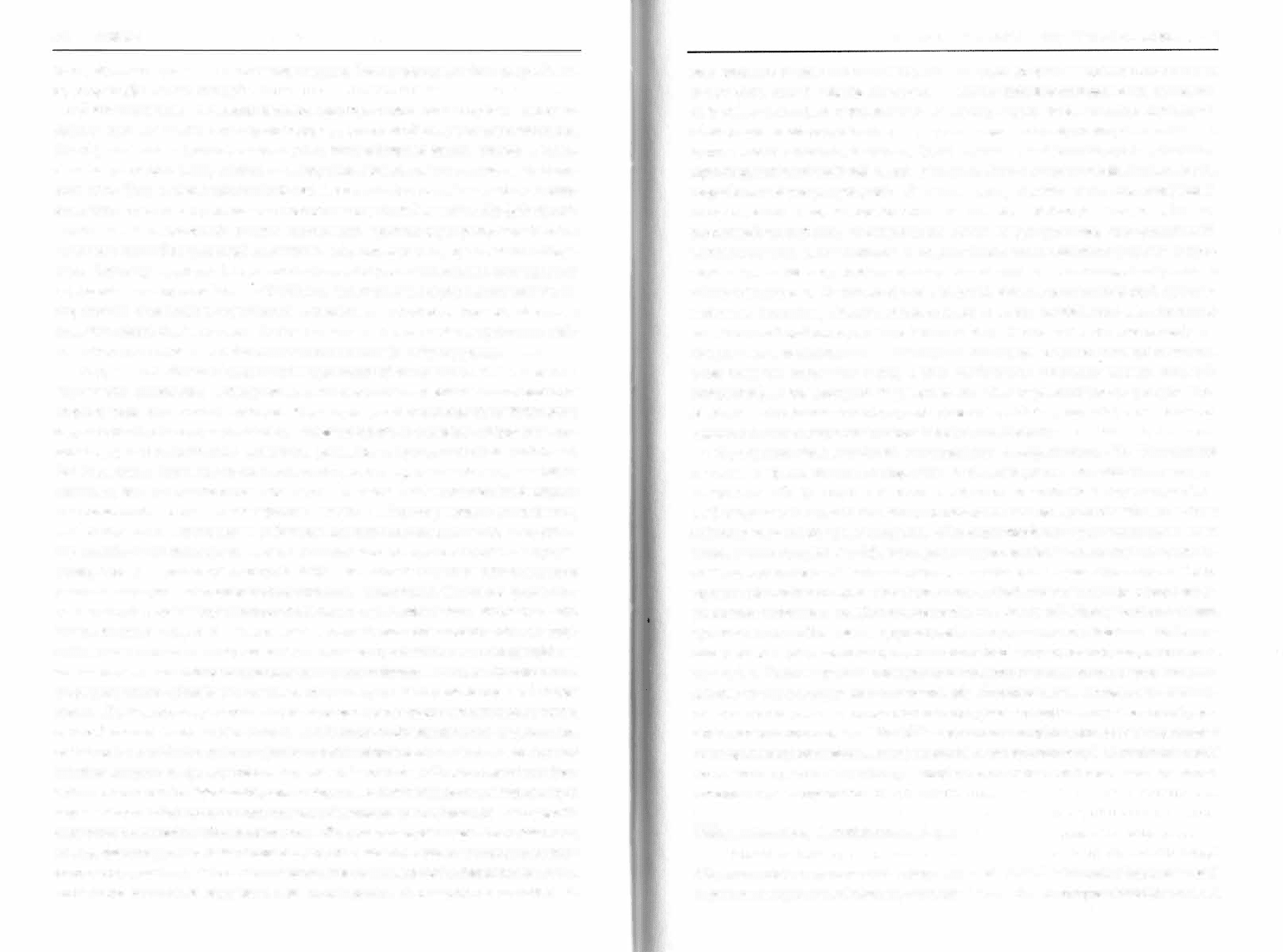
470
ГЛАВ
д8
не требуется отдельная этическая теория. Зачем тогда вообще разрабаты
вать дискурсивную этику?
В современном контексте имеется две причины, по которым мы не мо
жем двигаться прямо от морали к праву или как бы их ресинтезировать.
Во-первых, как хорошо известно, мы, современные люди, живем в усло
виях морального плюрализма - плюрализм ценностных систем, жизнен
ных устройств и идентификаций был бы нарушен, если бы законы и поли
тические решения принимались на односторонней основе. Любой насто
ящий либерал поэтому может выступить против превращения любой
отдельно взятой моральной позиции в абсолютную норму для всего обще
ства. Та кое превращение привело бы и к подчинению индивидуального
достоинства и прав заботам об общем благе или к деформации личности
тех, кто не разделяет получивших господство в обществе представлений о
том, что такое благая жизнь. Не все действия, даже не все моральные дей
ствия могут или должны быть институционально регулируемы.
Вторая, еще более убедительная причина, почему не можем поста
вить знак равенства между обязательностью социально-политических
норм и тем, что лет в основе мотиваций даже постконвенционального
морального субъекта, - это то, что генезис права, в отличие от морали, мо
жет и должен в принципе включать реальное обсуждение. Сам Хабермас,
без сомнен, склонен смешивать мораль и право, поскольку справедливо
замечает, что моральное вопрошание включает в себя вненний диалог,
подчиняющийся правилам ведения спора3l. Поэтому может показаться,
что, следуя этим правилам и учитывая потенциальное побочное воздейст
вие какой-то из максим на все остальные, можно прийти к тем же сужде
ниям, что и в реальной дискуссии. Те м не менее остается кардинальное
разлие между виртуальным и реальным диалогами. То лько в реальном
диалоге, е на равных условиях взаимного признания участвуют все заин
тересованные стороны, происходит действительное сопоставление пер
спектив и возникает и вновь подтверается значение МЫ, солидарного
коллектива, имеющего коллективную идентичность и способность четко
формулировать общий или совместный интерес. Как давным-давно опре
делила Ханна Арендт, только в публичном пространстве может возникнуть
общественное мнение. Даже если вообразить себе идеального морального
субъекта, способного рассмотреть все возможные доводы всех заинтересо
ванных сторон, результат не совпадет автоматичес с политичесм суж
деем долым образом организованной общественности, поскольку в
первом случае будет отсутствовать необходимая и возникающая в данной
ситуац коллективная ентиость. В лучшем случае идеализированное,
саморефлексирующее моральное суждение может предполагать толерант
ность к другим лицам и к отличающимся от наших собствеых доводам,
но оно не позволяет получить или подтвердить солидарность коллектива
ДИСКИВЯ Э И
Г
Р
СКОЕ ОБ
О
471
или понять, в чем эта солидарность состоит и, следовательно, каковыми
могут быть наши общие интересы. Однако именно это является предмет
ной областью институционализированных норм. Не даст такое индивиду
альное моральное суждение и представления о совершео отличных от
наш точках зрения, а значит, будет упушена возможность соларности
при сохранении различий и при ограничениях, которые это накладывает на
нормативное регулирование. В самом деле, вполне возможна ситуация,
когда суение бывает моральным, но при этом несправедливым. Соглас
но нашей трактовке, дискурсивная этика подразумевает, что справеи
вость юстиции, легитимность и нормативная сила закона в прииле про
истекают из демократичности волеизъявления и из воплощения в норме
общего интереса. С точки зрея морали закон, установлеый просве
щенным деспотом, может быть моральным на взяд каждого и может даже
выражать общий интерес (всеобщее благо). И все же - и здесь находится
граница индивуального морального созна - даже если он морален,
даже если он совпадает с тем, в чем сообщество соасно видеть свой об
щий интерес, он не будет справеивым, ибо справедливость требует, что
бы все заинтересованные стороны решали это сами себя в ходе коллек
тивного дискуссионного процесса волеизъявления.
Просуммируем все вышеизложенные соображения. (1) Разделение
морали и права является крупным и характерным достижением совре
менности. (2) Дискурсивная этика представляет собой ядро норматив
ной теории политической легитимности и теории прав, но она не может
служить общей теорией морали, объясняющей выбор индива во всех
жизненных сферах. (3) Мы интерпретируем значение юстиции в поняти
ях демократической легитимности и основных прав. Соответственно,
предметная область дискурсивной этики охватывает институционализи
рованные нормы и сопутствующие им санкции. (4) Дискурсивная этика
предполагает автономию других видов морального суждения. (5) Осно
вываясь на теории коммуникативного действия, дискурсивная этика
способна брать в расчет обязующие аспекты социальных норм, незави
симые от сопутствующих санкций. (6) Политические и правовые инсти
туты могут нести ответственность перед моралью, и это не ведет к краху
законности или морали. Фактически в конституционных демократиях с
граанскими обществами принципы демократической легитимности и
основных прав являются первичным источником обоснования полити
ческих норм и процессов.
Обвинение
в авторитаризме
Обвинение в авторитаризме, предъявемое в особенности хабермасовской
версии дискурсивной этики, состоит в том, что ее сосредоточенность на
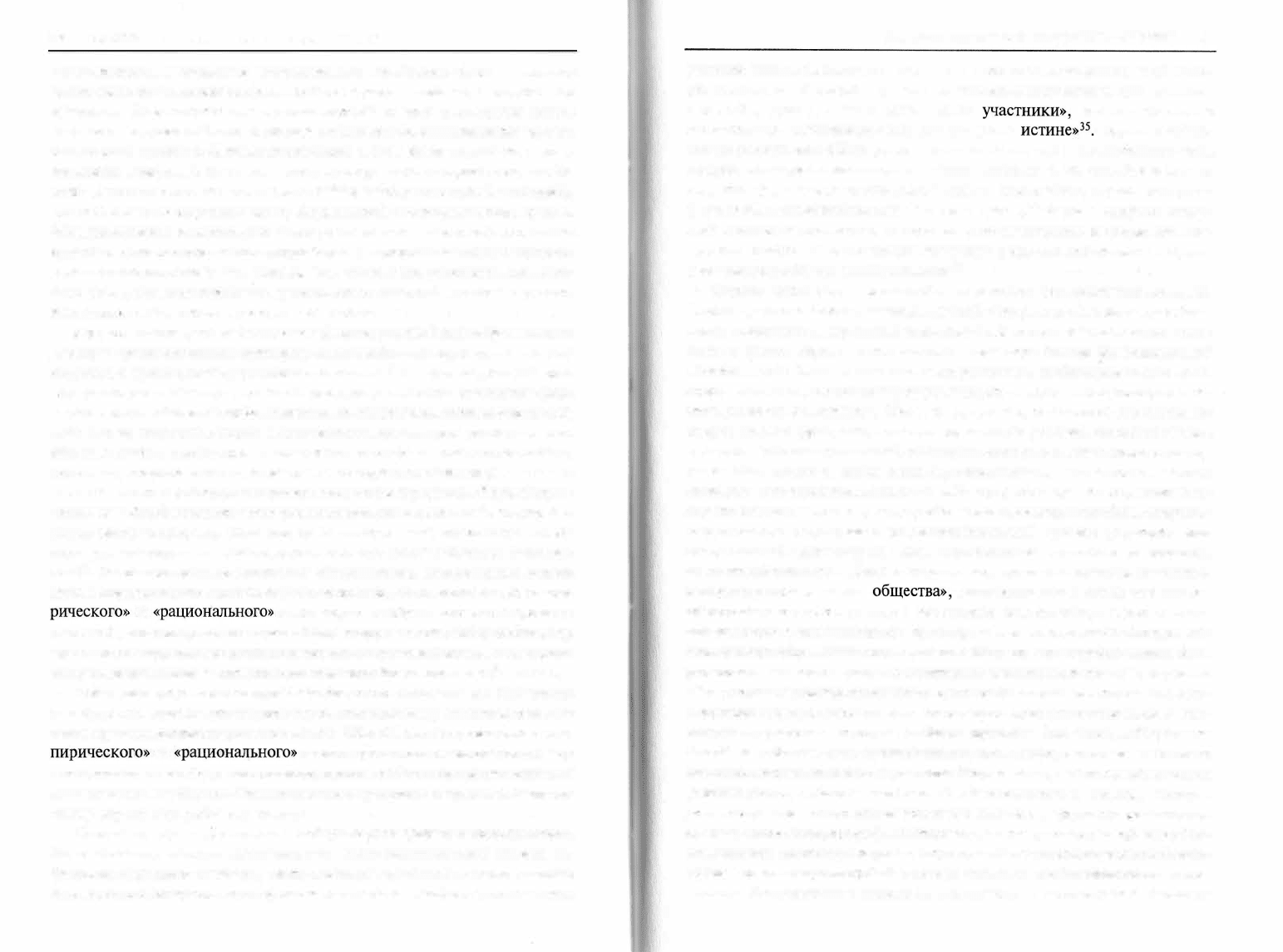
472
ГЛ 8
рациональном консенсусе подразумевает якобинско-большевистское
подавление независимых образов жизни и, следовательно, граанского
общества. Сначала мы опровергнем это обвинение и построим такую
версию дискурсивной этики, которая обладала бы иммунитетом против
такого рода критики. Нашим следующим шагом будет отрицание суще
ствования непременной связи между дискурсивной этикой и каким бы
то ни бьmо конкретным этосом, или Sittlichkeit (нравственной системой),
что не делает ее при этом чисто формальной и содержательно пустой.
Мы постараемся показать, что дискурсивная этика имеет избирательное
сродство с таким социальным устройством, которое позволяет сосущест
вовать различным образам жизни. Те м самым мы рассчитываем дока
зать, что среди всех вариантов аанского общества только современ
ные имеют отношение к дискурсивной этике.
Представляется, что хабермасовской дискурсивной этике предъявляют
два явно противоречащих друг другу обвинения - авторитаризм, с одной
стороны, и чрезмерный формализм - с другой. По-видимому, эти обвине
ния можно скомбинировать: либо дискурсивная этика настолько фор
мальна, что не влечет за собой никах институциональных последствий,
либо последствия существуют и неизбежно имеют авторитарный характер.
Мы предпочтем разбираться с кым из этих обвинений в отдельности,
поскольку поднимаемые здесь вопросы совершенно различны.
у обвинения в авторитаризме есть несколько вариантов. Первый пред
ставляет собой буквальное повторение гегелевской критики Канта, привя
зывая абстрактную мораль и террор к дискурсивной этике в целом. На
этом уровне возражения бьmи ус пешно отвергнуты Альбрехтом Веьме
ром32. Более конкретные претензии обнарували авторитарный потен
циал в двух предложенных Хабермасом противопоставлениях: (1) «эмпи
рического»
и
«рационального»
консенсусов и (2) «частных» и «универ
сальных», или «общих», интересов. Например, согласно Роберту Спемену,
при таких различениях «утопическая цель устранения господства служит
как раз легитимации господства самозванных просветителеЙ»33.
1. Безусловно, очень неверно адресовать эти возражения Хабермасу,
как будто он просто принлежит к романтическому антикапиталисти
ческому поколению марксистов начала хх в. И все же различение «эм
пирического»
и
«рационального» консенсусов, если интерпретировать
его в духе отказа от одного в пользу другого, действительно напоминает
классическое якобинско-большевистское презрение к просто эмпириче
скому народу или рабочему классу.
Хабермас, однако, достаточно осторожен и избегает такого поворота.
Даже отклонив полную применимость психоаналитической модели ре
флексии в критике общества, он продолжает держаться за то положение,
что «только техника дискурса (дола использоваться) для установления
ДИСКИВ
Э
И СКОЕ ОБ
ТВО
473
условий начала возможных дискурсов. Он выходит за рамки этой моде
ли, настаивая, что в обсуждении, имеющем целью начать или возобно
вить обсуждение, «могут быть только
участники»,
так как никто не
может иметь «привилегированного доступа к
истине»35.
Другими слова
ми, из рассуений Хабермаса вытекает не то, что условия.Одного типа
обсуждения нужно насильно заменить другими, а то, что бок о бок со
старыми формами надо создавать новые и, может быть, оживлять старые
формы общественной жизни. И в самом деле, Хабермас открыто отвер
гает привилегированные дискуссии интеллектуалов и политических
организаций, как бы играющих «ведущую роль» по отношению к эмпи
рическим процессам коммуникации36.
Однако дальше всех ушел в антиавторитарном направлении Альбрехт
Велльмер, откровенно провозгласивший, что реьный консенсус обяза
тельно означает фактический консенсус37. Как же тогда мы можем отли
чить, в каком случае эмпирический консенсус бывает рациональным?
Сомневаться в рациональности эмпирического консенсуса значит либо
предлагать конкретные контраргументы, либо ставить под сомнение ра
циональность участников. Последнее, однако, не может быть уловлено
посредством структурных условий идеальной речевой ситуации. Та кое
сомнение остается гипотезой, проверить которую можно, лишь проведя
новое обсуждение и придя к новому соглашению, - участники должны
признать свое прежнее недомыслие. Как удачно выразась Агнеш Хел
лер, нормы дискуссии наряду с требованием реального диалога, открыто
го для каого, предполагают демократический процесс формирования
воли - такой, при котором общая воля только и может быть в конечном
счете волей каог038. Даже если консенсус является продуктом «рацио
нально организованного
общества», допускающего в своих публичных
пространствах и обсуждение, и несогласие, нам не следует принимать за
аксиому, что рациональность процедуры гарантирует абсолютную ис
тинность или правильность результата. Истинность норм не может быть
установлена раз и навсегда. Содержание рационального консенсуса не
обязательно истинно; мы считаем его рациональным на основании про
цедурных норм, истинным - на основании предложенных нами в дис
куссии аргументов, которые и бьmи приняты как таковые39. Но мы
можем ошибаться или, лучше сказать, те доводы, которые мы готовы
принять, могут меняться со временем. В лучшем случае мы можем достичь
рационального обоснования нашей убежденности в истине, которое
должны трактовать как истинное, и тем не менее, будучи современными
людьми, склонными к рефлексии, мы должны рассматривать это обос
нование как фальсифицируемое и открытое новым дискуссиям. Поэто
му ея рационального консенсуса не означает достижения абсолютной
истины. Возможность согласия по поводу норм включает в себя возмож-
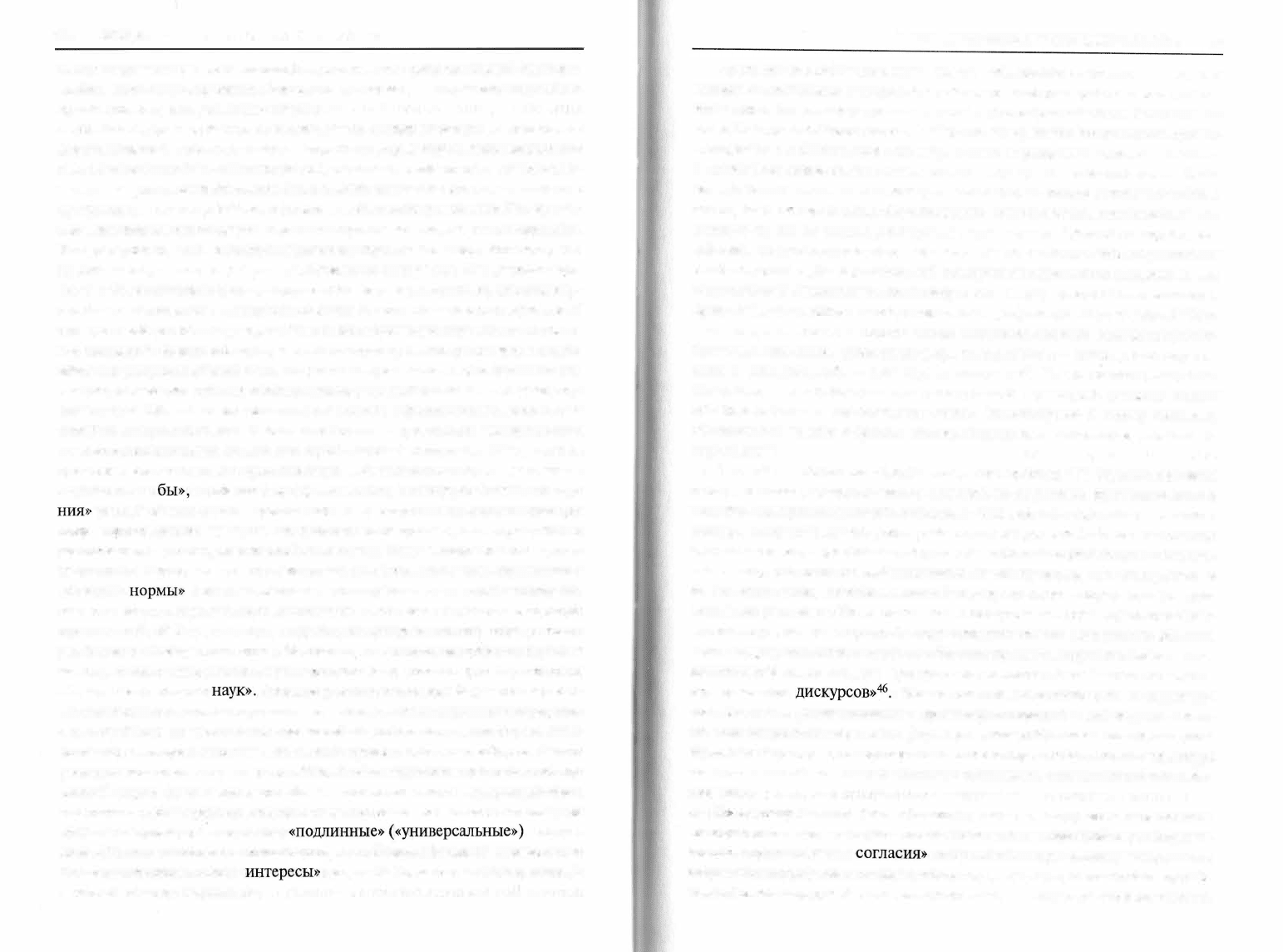
474
ГЛА 8
ность рационального несогласия! Короче говоря, рациональный эмпири
ческий консенсус, продукт обсуждения, открыт дальнейшему изучению
и, конечно же, отступлению от него.
2. Если различение рационального и эмпирического консенсусов
(привязанное к процедурному измерению формулирования коллектив
ной воли) может быть описанным образом защищено от элементов авто
ритаризма, то различение частных и общих интересов (отталкивающееся
от принципа универсализации) снова позволяет предъявить Хабермасу
эти обвинения, на этот раз уже по вопросам не формы, а содержания.
Как уже указывал ось, дискурсивная этика проверяет валидность норм по
признаку выраженности в них обобщенных интересов. И в ранних сво
их, и в более поздних форМулировках Хабермас утверждает, что дискур
сивная этика вводит в дискуссию о нормах истолкование потребностей,
так что свободный от принуждения консенсус допускает только то, чего
все желают
4
0
. Только в том случае, если нормы, помимо того что они яв
ляются продуктом общей воли или соасия, выражают обобщенные ин
тересы, их можно считать основанными на рациональном и подлинном
консенсусе. Однако, отправляясь от тезиса, что в формально демократиче
ских, капиталистических, классовых обществах резулаты эмпирических
процессов обсужде ния подавляют (бобщенные интересы», Хабермас все
время при бегает в своих предписаниях к сослагательному наклонению:
«согласились
бы»,
«если бы [они] участвовали в дискурсе без принуе
ния» И т.д.41 Таким предписаниям он определяет статус исключительно
социально-научных гипотез, требующих проверки и подтверждения в
реальном процессе практической дискуссии. Тем не менее на этом уров
не теория представляется противоречивой. В то время как «приняты е В
дискурсе
нормы»
или поающиеся универсализации общие интересы
должны «и формироваться, и выявляться в процесс ах практического об
суждения»4
2
, Хабермас тае, кажется, подразумевает, что, строго гово
ря, модель обобщенных интересов может критическим образом приме
няться только «под углом зрения третьего лица, скажем, специалиста в
области социальных
наук» . В более ранних текстах Хабермас говорил о
«подавленных общих интересах», желая тем самым направить теоретиче
скую критику на те социальные системы, которые мешают созданию
условий, необходимых для появления практического дискурса. Выиг
рышную позицию в смысле возможной объективности он отводит соци
альной науке (место неучастника, «монологически» формулирующего
подлинные общие интересы), что похоже, перекликается со взглядами
Ленина и Лукача, различавших
«подлинные» «<универсальные»)
И «лож
ные» (эмпирические» частные) интересы. Непроясненный статус поня
тия «подавленные общие
интересы» делает Хабермаса уязвимым для об
винений в авторитаризме.
ДИСКИВ
Я Э И
СКОЕ ОБЩЕСО
475
Один из способов избежать такого обвинения - это показать, что
модель обобщенных интересов не является центральной для дискурсив
ной этики, как это представляют некоторые ее толкователи, включая са
мого Хабермаса. Естественно, Хабермас утверждает, что уд овлетворение
интересов не обязательно есть игра в одни ворота и что неiФторые инте
ресы во всех обществах действительно могут становиться общими. И все
же можно утверждать, что дискурсивная этика вполне жизнеспособна в
эмпирических ситуациях. Предположив существование только частных
интересов, все же можно усматривать проявление общего в дискурсе, не
обходимом для достижения согласия по поводу правил координации
этих интересов. Даже устойчивый компромисс нуждается в нормативном
основании и покоится на консенсусе по поводу своей обязательности,
будь то традиционном или достигнутом в результате обсуждения. Хабер
мас всеа тяготел к интерпретации множественности в индивидуалис
тических терминах, групповых форм плюрализма - как партикулярист
ских и компромисса - как стратегическог043. Те м не менее теперь он
настаивает на необходимости дискурсивно проводить границу между
обобщенностью и множественностью, консенсусом и компромиссом,
обеспечивая таким образом коммуникативное основание всем этим
терминам44.
В своей самой недавней публикации на эту тему45 Хабермас поправил
свою раннюю формулировку, в которой компромисс приравнивался к
неудаче коммуникативного действия. Он все еще проводит различие
между попытками заинтересованных сторон прояснить, в чем состоит их
общий интерес, и усилиями ищущих компромисса установить равнове
сие между частными конфликтующими интересами. Но он пришел к
пониманию того, что обязывающий компромисс тоже нуждается в опре
деленных условиях. Участники такого компромисса полагают, что спра
ведливое равновесие может быть достигнуто только при равном участии
всех заюцересованных сторон. «Но эти принципы установления ком
промисса в свою очередь требуют для своего обоснования реальных
практических
дискурсов»46.
Нестратегическое отношение к структуре
компромисса, предполагающее признание сокрытой в ней нормативнос
ти, есть непременное условие формирования устойчивых компромиссов.
Правила игры должны восприниматься всерьез. Если сама структура
компромисса обладает сп'особностью обязывать, значит это общая забо
та всех.
Коммуникативные основания компромисса между множеством част
ных интересов можно упрочить, если толковать типичный случай «раци
онального достижения
согласия»
как рациональную защиту плюрализма
точек зрения, образов жизни и интересов, ведущую к компромиссу. Со
гласно Велльмеру, печать партикуляризма, лежащая на всех человечес-
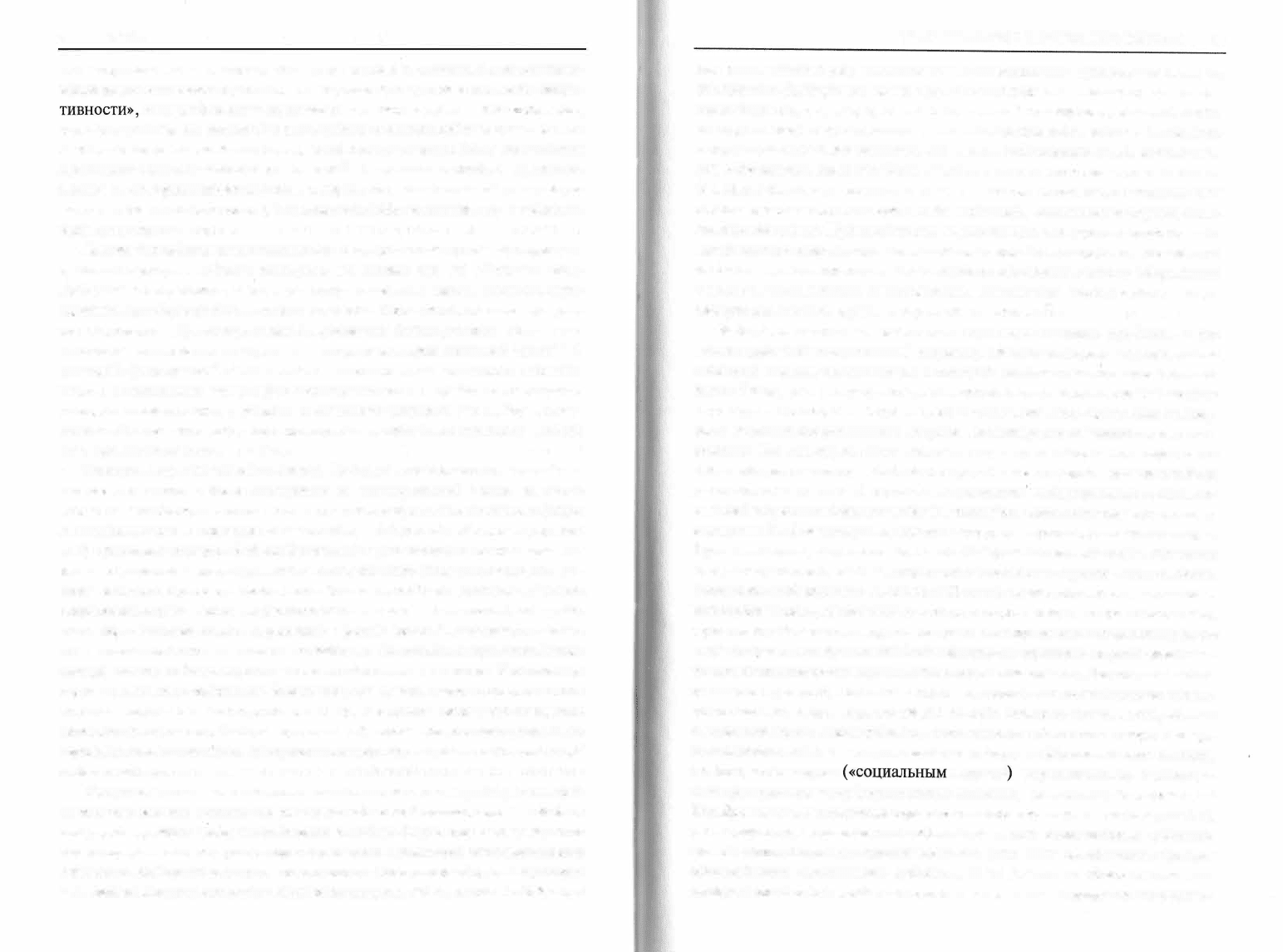
476
Г 8
ких ситуациях, должна восприниматься не как «возможная помеха раци
ональному самоопределению и коммуникации,), а как «момент ситуа
тивностИ», который следует привнести в понятие разума. «Именно там,
где объединение не может быть достигнуто, каая сторона должна, по
меньшей мере, иметь право на то, чтобы ее аргументы были выслушаны
и решение принималось с ее участием»47. Тем самым общность приписы
вается не содержанию интересов, а структуре, позволяющей всем выра
жать свои частные интересы, и именно это ведет к валидному и обязыва
ющему компромисс
Каким бы соблазнительным ни было это решение проблем, порожда
емых концепцией общего интереса, до конца оно не убеает. Ведь
Хабермас специально рассмотрел одну из версий такого подхода, при
надлежащую Эрнсту Ту гендхату, и отверг ее. Последний пытался прирав
нять процесс аргументирования к процессам формирования воли и ис
ключить когнитивное измерение из теории коммуникативной этики48. С
позиций фактической эмпиричностtf всякого «рационального соглаше
ния» он доказывает, что вопрос состоит только в разработке принципов
равного симметричного участия в акциях коллективного выбора. А во
просы обоснования сюда не относятся - акции коллективного выбора
суть проявления воли, а не разума.
Выступая против такой позиции, Хабермас указывает, что ценой ис
ключения когнитивного измерения из дискурсивной этики является
потеря способности различать общественное принятие нормы де-факто
и ее валидность49. Если мы на место «Unparteilichkeit,) (беспристрастно
сти) суения ставим «Unbeinflussbarkeit,) (способность не поддаваться
чужому влиянию) формирование воли, мы даже не можем сказать, по
чему продукт единодушного коллективного выбора должен обладать
обязательностью, раз за минутным согласием не стоит какой-то прин
цип. Это классическое возражение против теорий демократического
волеизъявления и правления большинства. Простой эмпирический кон
сенсус сам по себе не порождает легитимных обязательств. Не является
он тем самым и устойчивым. Более того, он не обладает авторитетом, ес
ли его можно волевым способом менять, и зависит он только от нашего
минутного согласия. Хабермас, таким образом, вновь подчеркивает то
центральное положение, которое занимает в дискурсивной этике идея
общего интереса.
Упорное отстаивание когнитивного компонента в нормах рассматри
вается так же как основа ответа на неизбежный волюнтаризм, обычно
сопровождающий веберовский тезис о войне богов, Т. е. о неискорени
мом плюрализме и даже непримиримости ценностей в современном
обществе. Хабермас утверждает, что интерсубъективное признание при
тязаний на валидность может быть рационально обосновано без обраще-
ДИС
ИВ
Э
И
СКОЕ ОБЩ
4П
ния К метафизике или догматизму. Соответственно, притязания норм на
валидность базируются не на иррациональных волевых актах договари
вающихся сторон, а на «рационально мотивированном признании норм,
которое в любое время может быть поставлено под вопрос,)5
0
. Наличие
плюрализма вовсе не означает, что в ходе дебатов интерес, поающи
еся обобщению, не могут быть отделены от тех, что остаются частными.
Он настаивает, что «когнитивный компонент норм не ограничивается
пропозициональным содержанием ожиданий, связанных с нормирован
ным поведением. Притязание на нормативную валность само по себе
когнитивно в смысле предположения, каким бы контрфактическим оно
ни было, что это притязание может быть обосновано в ходе обсуждения
с приведением доводов и углублением понимания, Т. е. укоренено в кон
сенсусе участников аргументированного спора,)55.
Хабермас смешивает несколько отдельно стоящих проблем. В ут
верждении, что когнитивный характер общего интереса порождает ва
ЛИДНОСТЬ нормы, смешивается несколько значений понятия «когнитив
ныЙ». Одно дело утверждать, что ПРИНЦИПЫ аргументации могут создать
метанорму, к которой могут апеллировать участники, когда они подвер
гают испытанию резулаты (нормы) достигнутого эмпирического кон
сенсуса. Совсем другое дело помещать критерий валидности норм в по
нятие общего интереса, как бы по самой своей природе могущего быть
раскрытым социальной наукой или внешним наблюдателем. В этой по
следней стратегии оживает ложный натуралистический подход, отожде
ствляющий объективную общность интересов с универсальностью норм.
Представляется, что на самом деле Хабермас смешивает два значения
«рациональности,), чего он тщательно избегает в других своих работах.
Рациональный процесс достижения согласия предполагает использова
ние принципов аргументации, которые когнитивны в том смысле, что их
можно опробовать в дискурсе. Те м не менее процессы вьщвижения норм
и обосноания их притязаний на валидность отличны от рациональнос
ти или когнитивности притязаний на истинность, содержащихся в кон
статациях факта. Относиться к притязаниям на нормативную валид
ность так же, как к притязаниям на когнитивную истинность, значит
смешивать предметные области, исследуемые, соответственно, в пор
ке практического и теоретического дискурса. Практический дискурс
имеет дело с миром
«<социальным
миром,» , переживаемым и даже ре
конструируемым с перформативных позиций, Т. е. с позиций участников.
Это проявляется в двойной герменевтике и всеа зависит от притязаний
на валидность, вьщвигаемых соответствующими социальными субъекта
ми. Те оретический дискурс, даже когда речь идет об обществе, ебует
объективации социальных субъектов и их действий. Язык общих или
поающихся обобщению интересов в этом смысле является теоретиче-
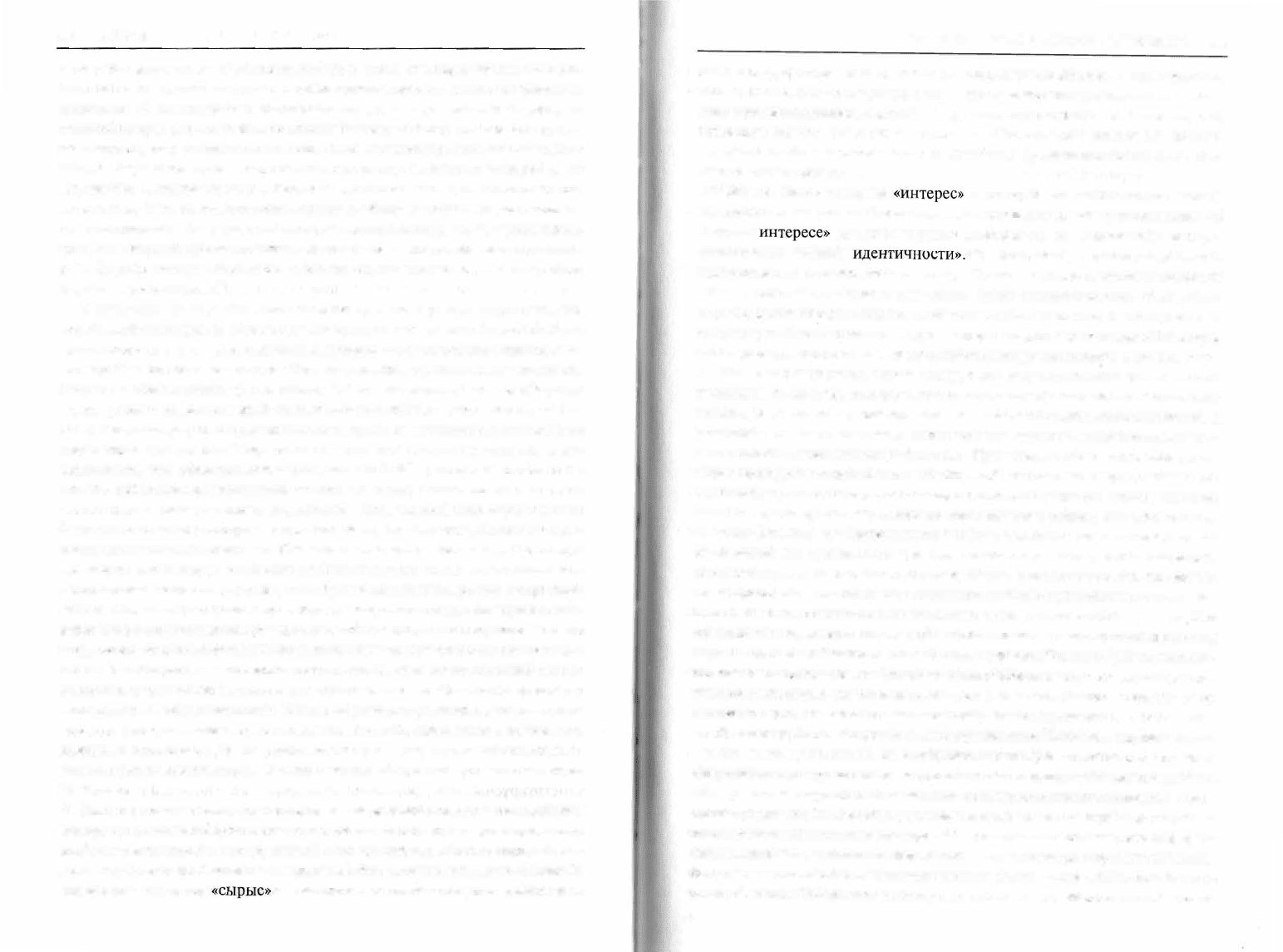
478
ГЛА
В
А 8
ским. На место мнений участников о том, в чем они нуждаются, чего хо
тят и к чему стремятся, ставятся объективные (основанные на анализе)
суждения об их интересах. Таким образом, делая ударение на критерии
общих интересов в ответ на отрицание Тугендхатом притязаний на раци
ональность, содержащихся в метанормах аргументированного обсужде
ния, Хабермас совершает ошибочную подмену. Общность интересов не
порождает валидности норм. Ведь идея, согласно которой легитимность
нормы покоится на том, что она отражает общий интерес, делает консен
сус излишним, ибо он автоматически должен следовать за признанием
того, что норма отражает такой интерес (а как это установлено, неваж
но). Короче говоря, консенсус в таком случае вытекает из валидности
нормы, а не наоборот52.
.
Отрицание Тугендхатом какой-либо значимости метатеоретических
оснований дискурса и убеждение Хабермаса в том, что общий интерес
может служить критерием валидности норм, - это два ошибочных реше
ния проблемы обязательности. Первое решение предполагает произвол,
второе - объективизм. К его чести, Хабермас осознает, какие ловушки
подстерегают рефлексивный способ обоснования в контексте ценност
ного плюрализма, посттрадиционного права и постконвенциональных
моральных суждений. Уб едительная часть его полемики состоит в ут
верждении, что объективность (Unpaeilichkeit) суждения коренится в
самой структуре аргументации - она не привносится извне как цен
ность, произвольно нами выбранная53. Хотя любой консенсус может
быть только эмпирическим, это не означает, что нам остается лишь про
извольная коллективная воля. Рациональные основания могут быть под
ведены не под истинность ценностей как таковых, а под их встроенность
в социально-политические нормы. Принципы аргументации могут пре
доставить метанорму (симметричную реципроктность), к которой участ
ники могут адресоваться, когда подвергают испытанию резулаты (нор
мы), полученные в эмпирическом диалоге. Рациональность консенсуса
может быть апробирована только путем возвращения притязаний на ва
лидность к тем метапринципам, которые только и придают консенсусу
валидность и обязательность. Таким образом, принципы ведения дис
курса, подразумевающие рассмотрение любого рационального довода и
уважение к каждому, кто способен его предъявить, позволяют нам гово
рить
о правильности норм. В этом состоит убедительная часть позиции
Хабермаса.
Но при этом все еще остаются невыясненными роль понятия «общий
интерес», а тае вопрос о том, что добавляет «принцип универсализа
ции» К имеющимся в дискурсивной этике процедурным принципам ве
дения аргументированной дискуссии. Если «поддающиеся обобщению
интересы» означают
«сырые»
заявления о потребностях, тогда законны-
ДИСК
ИВ
Я Э И
СКОЕ ОБЩО
479
ми выглядят возражения, впервые выдвинутые Юмом и повторенные
Хеллер, о том, что дискуссия вокруг интересов и потребностей не может
дать окончательных выводов54. С другой стороны, мы уже показали, что,
если под общим интересом пони мать объективные интересы группы,
тогда его нельзя использовать как критерий правильности юрм, не впа
дая в авторитаризм.
Тем не менее понятие
«интерес»
представляет важность для нашей
интерпретации дискурсивной этики. Мы полагаем, что представление об
«общем
интересе»
должно уступить место или, во всяком случае, при
оритет идее «общей
идентичности».
В обществах, характеризующихся
плюрализмом ценностных систем, образов жизни и индивидуальных
идентичностей, дискурсивная этика предоставляет способ раскрытия
или укрепления того общего, если оно вообще существует, которое име
ем между собой мы, люди, вступающие в контакт друг с другом и затра
гиваемые одними и теми же политическими решениями и законами.
Как уже говорилось, через дискурс мы подтвераем и частично оп
ределяем по-новому, кто мы такие и по каким правилам мы хотим жить
вместе, отвлекаясь от наших личных или особенных идентичностей и
различий, Т.е. устанавливаем нашу коективную и
д
ентичность как чле
нов единого гражданского общества. При таком толковании обнаруже
ние в дискурсе поддающихся обобщению интересов подразумевает не
что этому предшествующее, а именно, что, несмотря на наши различия,
мы обнаружили, подтвердили или создали нечто общее, что соответству
ет единой социальной идентичности (которая сама открыта переменам).
Публичная дискуссия дает нам возможность увидеть, что в конечном
счете у нас действительно есть нечто общее, что мы - это МЫ, что мы го
товы признавать наличие определенных общих принципов, составляю
щих нашу коллективную идентичность, и соглашаться им следовать. Эти
принципы становятся параметрами содержания легитимных правовых
норм и фундаментом социальной солидарности. Та ким образом, коллек
тивная идентичность сообщества может обеспечить, когда речь идет о
содержании норм, минимальный критерий легитимности норм в нега
тивном смысле, как того, что не может
б
ыть нарушено.
В своих работах по проблемам легитимации Хабермас прямо указы
вал на связь притязаний на легитимность с социально-интегративным
закреплением нормативно определенной социальной идентичности.
«
Л
егитац служит обоснованием этих притязаний, показывая, как и
почему существующие (или рекомендуемые) институты пригодны в пла
не использования политической власти реализации ценностей, фор
мирующих идентичность общества»55. Социальная интеграция, социаль
ная солидарность и коллективная идентичность - это «социетальные» (в
употреблении Хабермаса этот термин означает «принадлежащий К жиз-
