Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория
Подождите немного. Документ загружается.

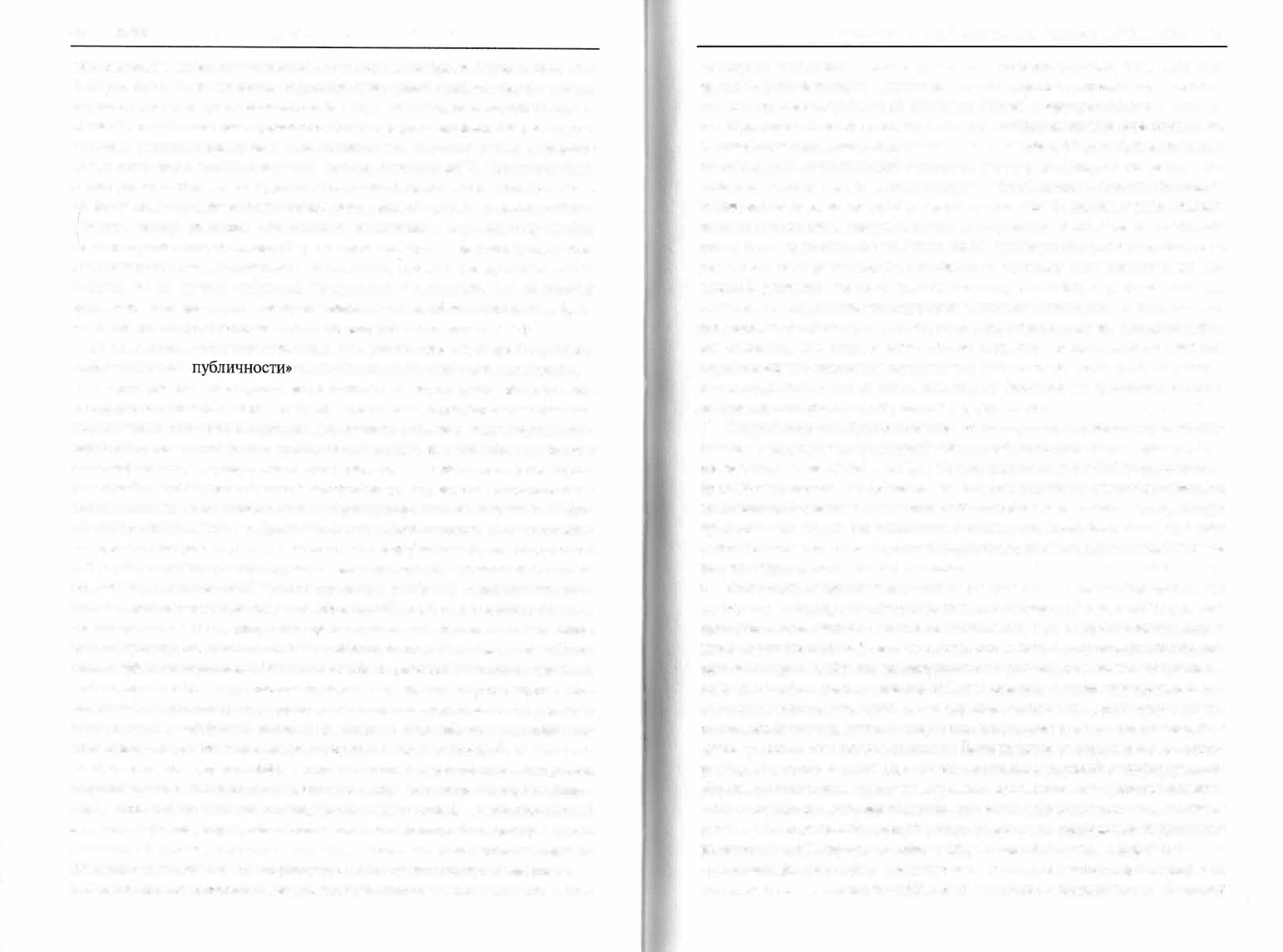
420
Г 7
кую систему в качестве одной из ее подсистем. Теперь нейтрализация ста
новится особой интеативной функцией политической системы в целом;
ее роль состоит в установлении особой формы коммуникации, не опреде
ляемой неполитическими ролями в обществе (семейными, деловыми, на
учными, религиозными) или даже отдельными политическими интереса
ми (партийно-политичесми или бюрократическими)63. Это может быть
воспринято как подача либеральной нормы в
Ф
унионалистской упаков
ке, но тут имеются два существенных различия. Во-первых, целью нейтра
лизации теперь является обособление политики, и особенно процессов
принятия решений, от общества, а не создание новой формы обществен
ного контроля над государством. Во-вторых, процесс нейтрализации на
ходится не на уровне открытой интеракции участников, а в плоскости
формирования неявных тем политической коммуникации, разнообраз
ные формы которой соответствуют составу ее участников.
В самом деле, общественное мнение определяется здесь не в терминах
«недостижимой
публичности»
всякой политической коммуникации, а
как структурирование даже непубличной коммуникации посредством
институционализированных тем. Именно темы, определяемые феноме
нологически как «предпонимания, затвердевающие в ходе коммуни,ка
ции в ве более или менее прочных системных аниц общепринятого
жизненного мира, наличие которых подразумевается в той неартикули
рованной манере.), посредством которой структурируется политическая
коммуникация, а не выраженные и артикулированные мнен4. Обще
ственное мнение таким образом не только отсылается к институциона
лизированным темам, Т.е. к подтекстам коммуникации, но именно из
них, а не из обобщения артикулированных мнений, черпает свое единст
во. Эти темы вносят свой вклад в принятие решений, ограничивая про
извол в области политически возможного. Но они также вносят вад и
в демократию, в ее принято м здесь определении, сохраняя те или иные
возможности в соответствии с логикой, отличной от применяемой при
самом принятии решений. Однако они не являются частями механизма
демократии в любом другом ее определении; общественное мнение «бе
рет на себя функцию напраяющего механизма, который хотя и не де
терминирует исполнение власти и генерацию мнений, но в каждый дан
ный отрезок времени устанавливает границы возможного.)65.
Охватывая такие вопросы, как приоритетность различных ценностей,
значение и восприятие кризисных ситуаций, статусы различных лично
стей, играющих важные коммуникативные роли, (относительная)
новизна событий, определение социально болезненных точек или их за
местителей (угроз, стрессов, потерь), ючевые темы общественного
мнения в конечном счете понимаются как правила, определяющие - в
контексте недостаточности ресурсов внимания - то, чему именно в дан-
К
С ПОЗИЦИЙ СИСНО
Г
О ПО НИ
Л
421
ное время внимание может и даже должно быть уделено. Эти темы или
правила распределения внимания видятся как контингентные и меняю
щиеся в русле потребностей сложных систем в определении своего кур
са. Их пороение и логика их развития оставляют некоторые сомнения.
С одной стороны, институционализация тем определяется �K зависящая
от структуры политической системы, которая регулирует общественное
мнение, жестко его не детерминируя66. Такой взгляд, соответствующий
задаче определения политической системы как полностью автономной,
похоже, в основном подразумевает, что структура политической системы
определяет возможность той или иной институционализации тем, а не
реальный объект институционализации. Однако, если исходить из на
личной функции общественного мнения, это следует понимать в том
смысле, что структура политической системы определяет, какие возмож
ны темы, а эти последние, в свою очередь, определяют то, какие возмож
ны решения. По сути, в этом случае структура политической системы
определяет, что является политичес возможным, а общественное мне
ние представляет собой лишь зависимый процесс, посредством которо
го происходит реализация данной возмоости.
Сдрй , Луман хочет е скать, щнн ее о
зы на у пкой симы тн е, с
ней ратю связь (icingen). Но писхт в й рме развит
спосв ори и пцессов, на которые изме тем не оказ
воеЙия. В ч спв M B, нрер, пце
нь и неН по оше к ценн. о,
в вы и поддери форм, позволщ поческой сиеме
не на щ ее.
Та е откровенные заявления тае важны в данном контексте, так
как из них следует, что отгораживание политической системы от публич
ности является частью защиты ее автономии, как если бы общественное
мнение .все же имело какое-то касательство к неполитическому окруже
нию политики. И Луман действительно называет поспешным сение о
том, что общественное мнение сегодня сведено к роли внутреннего по
средника в политической системе, не имеющего какой-либо широкой со
циальной фунии, языка интераии политиков в рамках полеской
системы, полностью обособленной от диффузного соального зненно
го мира повседневности67. В этом контексте он вынужден переформулиро
вать и, по си дела, чао отменить свою готезу о нейтрализации.
Если все же верно, что неполитические роли нейтрализуются в политиче
ской системе посредством публичной сферы, это неверно по отношению
к политической коммуникации за пределами публичной сферы68.
Но может ли вообще существовать поеская коация вне
политической системы, которая сама получает определение в терминах
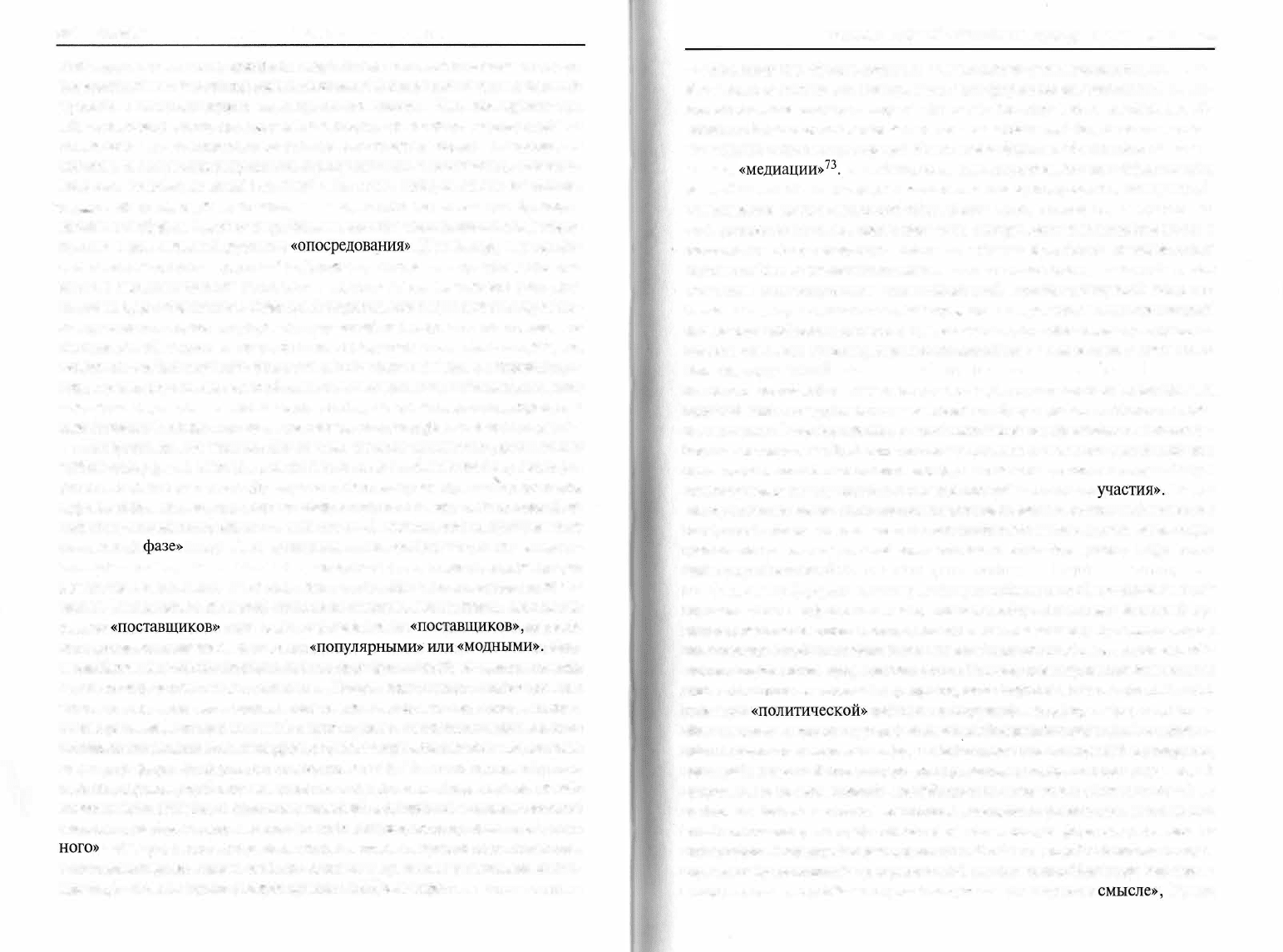
422
ГЛА
В
А 7
особых коммунационных процессов? Луман настаивает на том, что диф
ференциация не означает разрыва социальной ткани коммуникации и вы
деления самодостаточных замкнутых подсистем. Та к, коммуникация
общественного мнения не может быть приписана исклютельно полити
ческой подсистеме; его темы имеют относительно свободный от контекста
характер и могут стррировать коммуникацию в контекстах, осознаю
щих свой неполитичесй характер69. Но тоа нейтрализация неполити
че_QКИХ привходящих факторов не может определяться как функция
публичной сферы. Вместо этого Луман довольно-та неоданно возвра
щается к ассической фунии
«опосредования» (Veitt/ung) , определяе
мой в терминах одновременной дифференциации и интеграции политиче
ского и неполитического контекстов. Пред ставлена, однако эта медиая
на удление обедненным образом. Го ворится, что возмоость перенесе
ния тем из политического в неполитический контекст и активизация раз
лиых ролей одного и того же лица, политических и неполитичес,
помогают стабилизировать различие между политичесм и неполитичес
ким. Целью же остается обособление и автономия политической системы;
медиация осуществляет это не путем нейтрализации, а загоняя процессы
межсистемной коммунации в узкие политичес управляемые каналы7О.
Несмотря на все усилия, Луману не удается предложить концепцию
публичной сферы, в которой политическое было бы полностью изолиро
вано от неполитического. Причина этой неудачи выявляется его второй
модели происхождения и логи общественного мнения, основанной на
понятии «жизненный ци». Согласно этой модели, темы, которые в их
«латентной фазе»
могут быть артикулированы кем угодно, становятся по
литическими темами только тогда, когда попают в руки тех, кто делает
политику, меняя темы, т.е. в руки политиков. Но станут ли политики это
делать (и насколько активно) зависит от энергии, как правило, неполити
ческих «поставщиков» этих тем и от успехов этих «поставщиков», стремя
щихся сделать определенные темы
«популярными» или «модными».
Если
это действительно происходит, власти предержащие утрачивают возмож
ность с этими темами не считаться. Теперь политикам остается только
соревноваться в продвижении этих тем для включения их в процесс при
нятия решений исполнительной властью или в оттягивании этого вклю
чения на как моо больший срок. В любом случае важность тем, связан
ная с их новизной, убывает, и им на смену приходят новые темы7l. Весь
этот ход рассений указывает на то, что привязка Луманом модели об
щественного мнения к предполитической обстановке в смысле восста
новления либерального смысла не идет дальше воссоздания «либераль
ного» топоса и, скорее, увязывает неполитические моменты публичности
с механизмами коммерческой, по существу манипулируемой, коммуни
кации. В этом он тае следует традиции Шумпетера.
кр
и
с
п
оз
и
ц
и
й СИС
н
ог
о
п
о
о
:
н
и
С
Л
423
Казалось бы, Луман отрицает обязательную роль манипуляции, опре
деляемой, в отличие от интеракции, как форма не рассчитанной на по
лучение ответа коммуникации72. Но когда он допускает возможность об
ходить общественное мнение или пользоваться им в тактических целях,
его анализ становится гораздо более подробным и убедитеЬНЫМ, чем в
случае
«медиации»73.
В техническом смысле, согласно его дефинициям,
манипулятивными являются только те методы, посредством которых об
щественное мнение можно обойти. Более того, и эти методы, и способы
превращения общественного мнения в инструмент политики подаются в
качестве методов регулирования внутренних процессов политической
системы. Тем не менее упоминаемые им технические приемы, такие как
создание псевдокризисов, псевдоновостей, псевдовыражений воли из
бирателей, представляют собой приемы из арсенала манипулятивной
коммерческой рекламы, что на деле ведет к дедифференциации полити
ческой системы путем превращения одной из ее подсистем в коммерче
ское предприятие74.
Несомненно, Луман не считает, что манипулятивными механизмами
любого типа исчерпываются возможности формирования общественно
го мнения. И все же именно в этом контексте он приходит к следующе
му заключению: «При описанных условиях в области политики мы
должны считаться с умножением вариантов возможного поведения при
одновременном ограничении возможностей активного участия». Ввиду
того, что тактическое использование общественного мнения нуждается в
особых технических навыках, то, что начинается как «управление, опре
деляемое участием», неизменно оборачивается «участием, определяе
мым управлением»75.
Модель дифференциации и манипулятивных связей пронизывает все
лумановское рассуение относительно выборов и законодательных ор
ганов, перенося анализ внутрь политической системы, чьи отношения с
собствещюй публичной подсистемой дублируют отношения последней с
неполитическими сферами общества. То чнее, электоральная политика и
партийно-политические структуры понимаются как составляющие соб
ственно
«политической» подсистемы политической системы, в то время
как законодательные органы относятся к административной подсисте
ме. В функцию первой входит обеспечение политической поддержки,
выстраивание механизмов рекрутирования долостных лиц, а тае
управление и поглощение конфликтов и протестов. Только второй из
упомянутых подсистем отводится определенная роль в принятии реше
ний, что понимается как особого ва комбинирование, размежевание и
повторное соединение реальных процессов принятия решений и про
цессов «презентации» продуктов этой подсистемы. Помещая законода
тельную власть в область администрации «в широком
смысле» , Луман
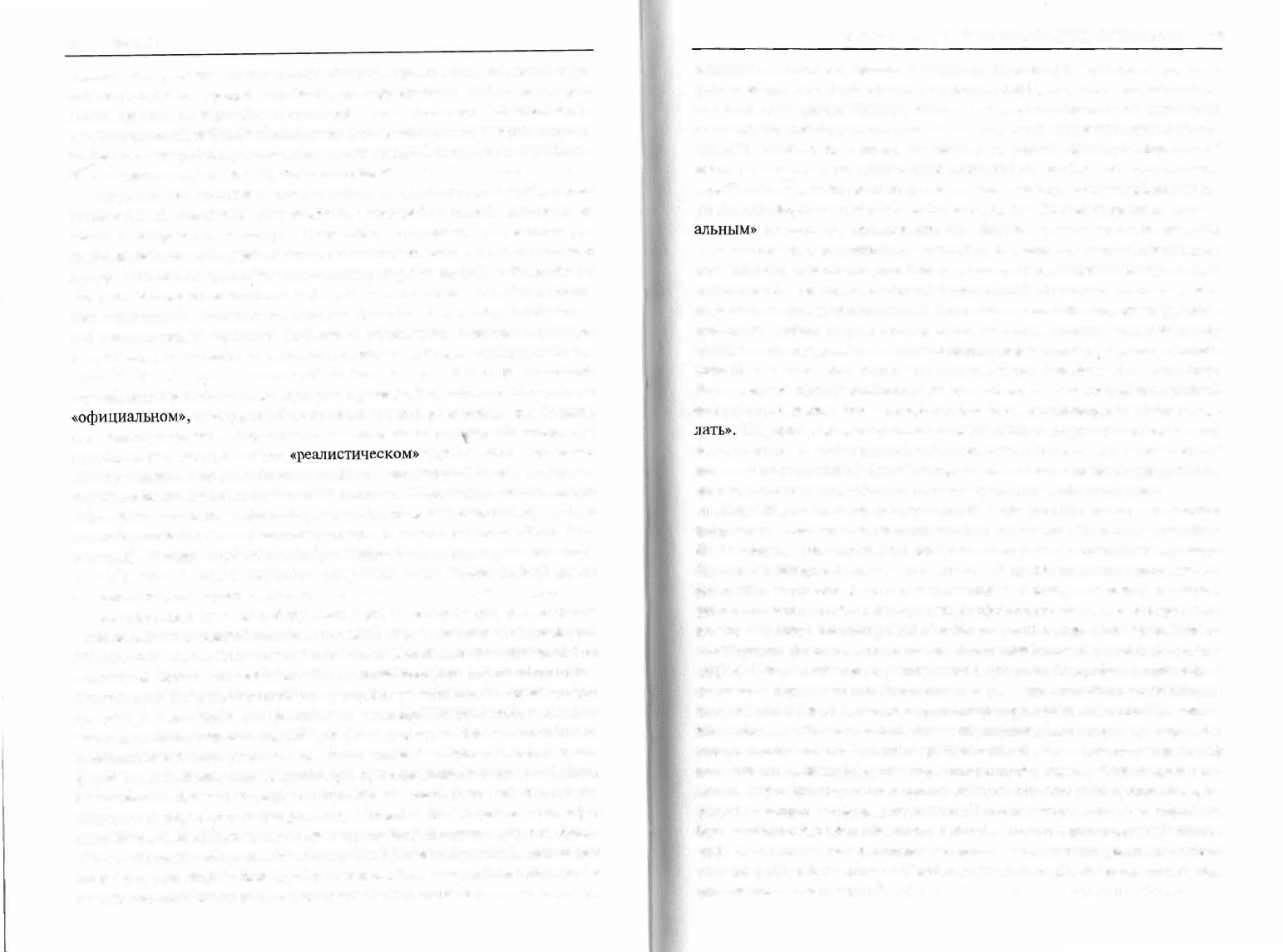
424
ГЛ
7
совершает в рамках политической системы перетасовку, параллельную
той, что он делает, помещая публичную сферу в политическую систему. В
обоих случаях он перемещает структуру, в классическом виде понимае
мую как элемент публичной медиации между обществом и государством,
поближе к внутреннему ядру самой политической системы, понимаемо
му как административное принятие решений.
Удивляет, что, совершая эти передвижки, Луман не может полностью
избавится от элемента публичности, который, похоже, остается за
сферой выборов и парламентов. Роль избирателя, являющаяся специфи
чески политической, связывается с его включенностью в общественную
сферу76 вплоть до момента голосования; выработка тем, в отношении
которых возможен консенсус, провозашается одной из задач партий
ной политики77; поддержание имиджа политиков является одной из за
дач парламента; и, наконец, публичное обсение мотивов и доводов
на парламентских сессиях серьезно ограничивает выбор приемлемых по
зиций78. Во всем этом видится нечто большее, ;ем просто п
�
дходящий
случай представить процесс принятия решении в двух видах - в виде
«официальном» ,
хрестоматийно гражданственном, нужном для форми
рования поддержки и сокрытия действительных непуичных процессов
принятия решений, и в виде
«реалистическом»
(собственном луманов
ском), важном для самоосознания (или, по меньшей мере, должного
научного понимания) политической системы. Характерно, что демокра
тическая функция поержания редуцированной сложности в сфере воз
можного отводится не только обшественности, но и политике79 и парла
ментам8О, будучи особенно тесно связанной с институтом оппозиции,
альтернативы которой сохраняют силу даже после поражений на выбо
рах или в парламентских дебатах.
В свете всего сказанного наиболее существенной функцией и поли
тики, и законодательной власти, с точки зрения социальной системы как
целого, является обособление политической системы и обеспечение ее
автономии путем оеления принятия политических решений от соци
альных воздействий. Эта проблема решается не посредством полного от
деления, а через процессы фильтрации и отбора, которые предполагают
одновременно и управление обществом и формирование политической
поержки (последнее есть «извечная проблема» после исчезновения
форм легитимации, характерных для досовременной эпохи). Электо
ральные процедуры пере водят проблему поддержки из плоскости
расчета на неполитические роли правителя (досовременной эпохи) в
плоскость ее формирования за счет строго дифференцированных поли
тических ролей избирателеЙ8
1
. Выступая в роли избирателей, индивиды
получают гарантированный доступ к политической системе независимо
от других социальных ролей и статусов (всеобщее избирательное право,
К
С позиций СИСного поо:
ни
Л
425
равенство голосов), а влияние социальных связей и всяческое давление
минимизируются (через тайное голосование)82. В действительности от
дельный, атомизированный выбор избирателя, почти не имеющий
последствий для других сторон жизни индивида, включая прочие поли
тически релевантные роли, не влечет за собой никакоЙ социальной
ответственности и не может быть источником каких-либо социальных
конфликтов83. Та кое положение имеет несколько последствий, укрепля
ющих автономию политической системы. Не будучи открытым «соци
альным»
влияниям, избиратель тем больше оказывается подвержен
имманентному политическому влиянию, предположительно через меха
низм общественного мнения. Желая повлиять на политические процессы,
избиратель стоит перед выбором между малой степенью влияния за ми
нимальную цену (голосование) и более значительным влиянием за высо
кую цену (добровольные ассоциации, петиции, письма в газеты и т)
Исходя из того, что обе эти формы влияния отделены от принятия реше
ний, Луман не сомневается, что избрана будет первая из них, хотя про
должающееся присутствие второй способствует демократии по крайней
мере в том смысле, что «все возможно, но Я лично ничего не могу сде
лать».
Но даже это ограниченное и минимизированное влияние роли из
бирателя отличает иивида от подданного (Untean), получающего
сигналы политической коммуникации, но никоа их не посьmающего,
и в этом состоит вад индивида в процедурную легитимацию84.
Ситуация аналогична той, что имеет место в случае ориентированных
на конфликт авторов, имеющих особые интересы. Луман придержива
ется взгляда, что выборы не приспособлены для выражения партику
лярных интересов. Поскольку те, кого выбирают, получают генерализи
рованную поддержку и не привязаны к какому-то определенному
комплексу интересов, электоральные процессы не могут легко продуци
ровать решения по конкретным конфликтам. Тем не менее они позво
ляют политической системе не подавлять конфликты, а канализировать
их (даже если речь ет о радикальных протестах) внутрь партийно-по
литической подсистемы. Здесь проявляется преимущество состязатель
ной избирательной системы перед безальтернативными однопартийны
ми выборами. К сожалению, много партийные системы с борющимися
избирательными списками не решают проблему автоматически из-за
склонности к недифференцированным программам. Постоянная ди
лемма партийно-политических подсистем состоит в том, чтобы избе
жать и слишком большого воспроизведения социального конфликта
(что угрожало бы обособленности и стабильности политической систе
мы), и слишком большого поглощения социального конфликта (что
означало бы его возобновление в неуправляемом виде за пределами
политической системы)85.
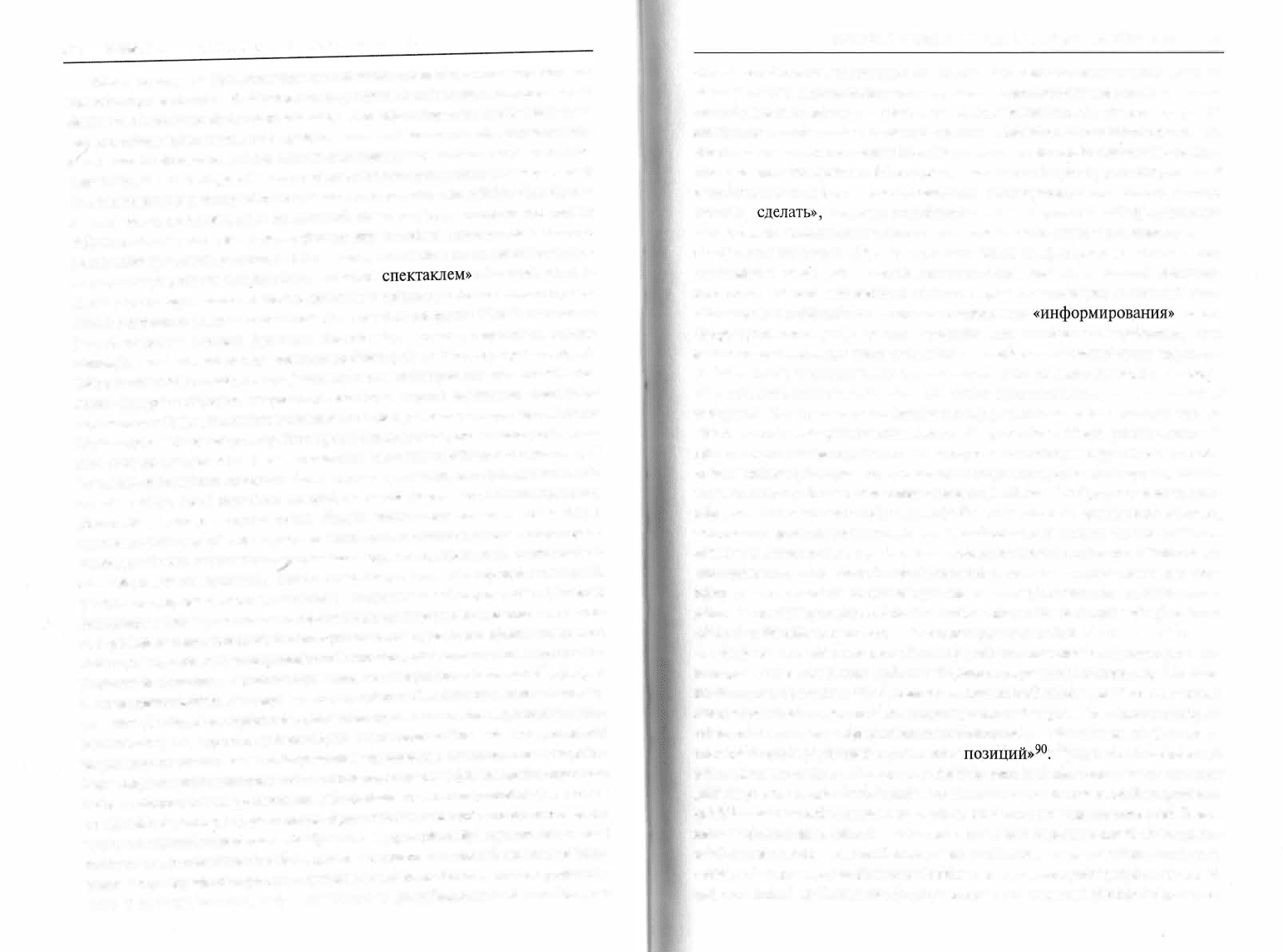
426
ГЛ
7
Характерно, что Луман почти ничего не говорит нам о том, что проис
ходит в случае реализации одного из вариантов этой дилеммы, в ситуации
слишком большого ИЛИ слишком малого конфликта в политической сис
T
�
e. Может показаться, что в разрешении слишком сильного политиче
ского конфликта играет роль законодательная власть. Здесь Л уман натал
KиBaeTcя на тезис Карла Шмидта относительно фрагментации верховной
власти и превращения работы парламента в чистый спектакль. Для Лума
на этот тезис основывается на лоой посылке, будто открытые сессии
действительно когда-либо находились или должны находиться в центре
реального принятия решений. Парламент, особенно на своих пленарных
заседаниях, и есть, и дол�ен быть «чистым
спектаклем»
в смысле симво
лического представления, изображающего принятие решений в соответ
ствии с нашим официальным политическим сценарием. Такой спектакль
(выполняющий важные функции для демократии в лумановском пони
мании) может оставлять относительно большой простор Я разнообраз
ных интересов, открытых конфликтов и для самопрезентации политиче
ских фигур
8
6. Однако реалистический сценарий принятия решений
составляют неформальные механизмы, прикрытые и завуалированные
формальными процедурами. В то время как парламентский процесс в це
лом, что признается даже классической теорией свободного представи
тельства, не должен отражать как в зеркале социальные конфликты, по
явление партийной системы, по крайней мере в варианте, анализируемом
Шмидтом, грозит именно этим. Луман неявно признает здесь упадок
классического принципа представительства и существование некоторых
опасностей для сохранения автономии процесса принятия решений. В
его собственных терминах, это - опасность затора между по��тической
и административной подсистемами политической системы . Модели
бесконечной дискуссии или конфликта указывают в этом контексте лишь
на проблему, а не на ее разрешение. Наоборот, отделение принятия реше
ний от формальной парламентской процедуры, предполагаемое в ис-
88
пользовании неформальных или даже девиантных механизмов , устра-
няет потенциальные заторы и сводит влияние политики к надлежащему
уровню. Настоящее принятие решений происходит не в рамках парла
ментских процедур, но превращение политической власти посредством
формальных механизмов обеспечения правления большинства в игру в
одни ворота значительно упрощает интеракции и переговорные процес
сы, осуществляемые реальными субъектами принятия решений.
Та ким образом, предлагаемое Луманом разрешение старого тезиса о
кризисе парламентаризма выдержано в духе неокорп
�
ративизма: оно
предполагает наличие некоего дуализма в парламентскои практике фор
мирования групп интересов - дуализма публичного и тайного, формаль
ного инеформального, парламентского и функционалистского. Он, од-
КРИ1И
С
позиций
СИСНО ПО
: НИ
С
Л
427
нако, достаточно проницателен, чтобы осознать существование сегодня
новой угрозы парламентаризму. Кризис легитимности парламента может
проистекать не только от избытка входящих сигналов, поступающих из
социума, и слишком высокого уровня партийной КОНфИКТНОСТИ, но
тае и от слишком большой общественной апатии и вьiокой степени
поглощения конфликта. Метод сокрытия механизмов принятия решений
может оказаться чрезмерно успешным; если чувство того, что «я ничего
не могу
сделать»,
широко и публично тематизируется, набор логически
возможных социальных альтернатив теряет свою связь с реальностью.
В этом контексте Луман упускает шанс опереться на один элемент
подлинной демократической легитимности, присутствующий в его из
ложении. В его концепции именно драматургическая составляющая
выборов и парламентов выполняет функцию
«информирования»
неин
формированных, придания энергии апатичным изберателям, она
выполняет функцию символизации демократии как открытого горизон
та наличных, осмысленных возможностей, пусть даже и не сопряженно
го с возможностями действия. Но такое представление, как он замечает
в другом месте, грозит политике дедифференциацией - на этот раз по
отношению к искусству или массовой культуре и сфере развлечений. О
гражданине говорится, что он участвует в политике в меру своей способ
ности идентифицироваться с какими-то из актеров в этой драме, стано
вясь частью публики, а именно зрителя (Publikum)
8
9. Трудно, однако под
держивать качество этой постановки или даже ее развлекательность,
если люди начинают замечать, что реально за ней ничего не стоит. Та кой
ход мысли вскоре возвращает нас к лумановской концепции обществен
ного мнения, согласно которой политики оказываются вынуждены про
дуцировать новости по мере предсказуемого устаревания модных тем и
даже манипулировать общественным мнением в целях производства
псевдособытий, псевдокризисов и псевдоличностеЙ.
Впрочем в одном пункте Луман указывает на иной тип явления и ко
свенно - на иной тип публики (общественности), обычно признавае
мый им устаревшим. Во время пленарных сессий парламента «должны
быть публично предъявлены и выставлены для критики оппонентов уже
не мотивы и имена закулисных сторонников, а обоснования. Это огра
ничивает выбор реально возмоых
позиций»90. Луман не объясняет, да
видимо и не может объяснить, чем вызвана эта необходимость защиты
каждым собственных позиций «с помощью аргументов и обоснованиый»
(Aumenten und En tscheidungsginden). Его теория в принципе исключает
такие возможные обоснования, как наличие определенной политичес
кой культуры со встроенными в нее стандартами рациональности; или
существование нормативно и когнитивно искушенного жизненного ми
ра; или такой публичной сферы, которая не являлась бы простым орга-
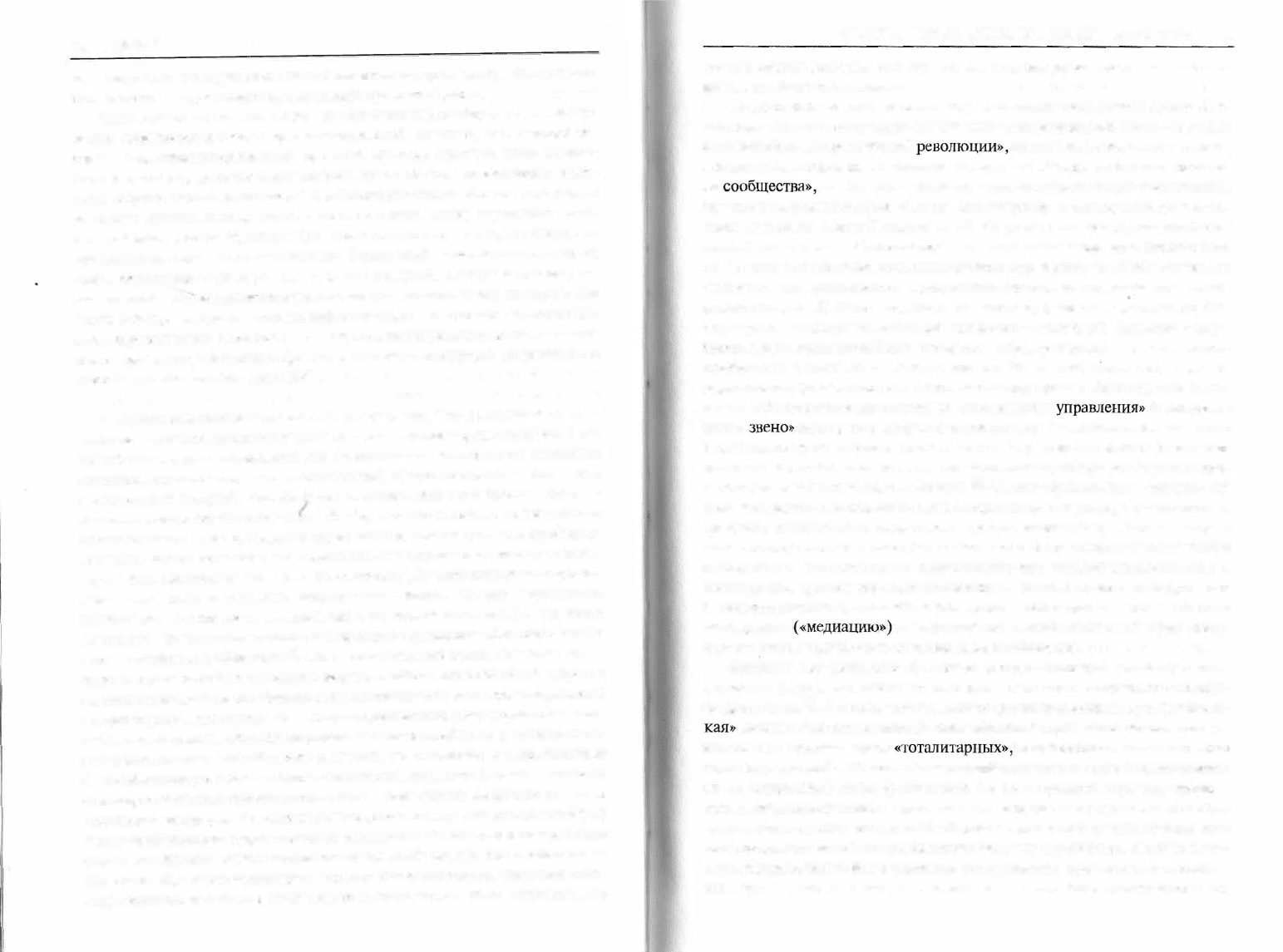
428
Г 7
ном массовой культуры и сама огранизация которой давала бы возмож
ность не драматургического, а рационального дискурса.
Наша мысль состоит не в том, чтобы отрицать эмпирическую значи
мость лумановского описания политической системы, основанной на
примате ее административного ядра, способного оградить свою автоно
мию и свои внутренние селективные процессы неким внешним коль
цом, образованным политикой и общественностью. Но мы стремимся
отметить существование непростых отношений меу двумя сценария
ми, предлагаемыми Луманом для описания политической системы, -
«реалистическим» И «официальным». Последний не может сыграть свою
роль, ограничив себя др�матургическим статусом. А устранение из дан
ной системы дискурсивных и рациональных компонентов, которые, как
часто повторяет Луман, представляют собой нежелательные (социеталь
ные) ограничители свободы, вариабельности и прагматической конкрет
ности решений, поставило бы под вопрос процедурную легитимность
данного политического режима9
1
.
2. Луман полностью отдает себе отчет в том, что приписывание из
лишней логичности политической системе наносит вред самой этой си
стеме. Его теория независимости политической системы от входящих
сигналов, поступающих из социетальной сферы, не оказывается авто
матически и теорией освобождения различных социальных сфер от
политического проникновенИя. Дифференцированная политическая
система действительно гораздо более могущественна, чем ее предшест
венники, она имеет и большие возможности для вмешательства, и боль
шую в нем заинтересованность. Несомненно, Луман принимает шумпе
теровский тезис о том, что если реалистическая модель демократии
вообще работоспособна, то, при меняя ее, необходимо соблюдать осто
рожность, не допуская слишком широкого проникновения политичес
ких механизмов в обществ092. Он также согласен с тем, что такое огра
ничение должно быть в первую очередь самоограничением со стороны
политической системы. Однако в противоположность шумпетеровской
версии правового позитивизма, он утверждает, что роль механизма здесь
могут играть законодательные установления, которые непременно явля
ются продуктом политического решения. Фактически он разрабатывает
функциональную теорию фундаментальных прав как формы защиты от
чрезмерной экспансии политики. Такой ход мысли, если он оправдан,
мог бы помочь развеять сомнения вроде тех, которые высказывал Шум
петер относительно достаточности самих по себе позитивных правовых
установлений для ограничения политической власти. Но в отличие от
Парсонса Луман не рассматривает социетальный центр, каковым явля
ется нормативная интеграция и деятельность ассоциаций, в качестве яд-
К
Р
ИТИ С ПОЗИЦИЙ СИСНО
Г
О ПОО: НИК Л
429
ра той сферы, которая должна оберегаться посредством самоограниче
ния политической системы.
Поучительно будет сравнить концепции фуаментальных прав у Пар
сонса и у Лумана. Будучи производными от равенства, одной из основных
ценностей «демократической
революции» ,
права в парсонс.�вскоЙ теории,
похоже, имеют большее отношение к внутренней структуре «социетально
го
сообщества»,
чем к его дифференциации от политической подсистемы,
экономики или культуры. Следуя знаменитому и пользующемуся боль
шим влиянием тексту Маршалла93, Парсонс разлагает граанство на
гражданские и nолиmическкие права и их социьные предпосьmки94. Рав
ное участие во всех этих трех компонентах определяет полный допуск или
членство, т. е. граанство, в современном демократическом социеталь
ном сообществе95. Конечно, Парсонс рассматривает демократическую ре
волюцию и особенно ее основные ценности - свободу и братство - в по
нятиях широкомасштабного процесса дифференциации социетального
сообщества и политической подсистемы. Более того, предыстория демо
кратической революции, особенно эволюция права в Англии, уже вклю
чала в себя превращение закона из «инструмента
управления»
в «посреду
ющее
звено»
меу госудаСТВОМ и обществом. В частности, важная роль
в этой эволюции отводится установлению «прав англичанина» (таких, как
неприкосновенность личности, справедливое судебное разбирательство,
защита от необосноваН обы:ков) 96. Та ким образом, хотя Парсонс так
и не свел концы с концами в своих рассуждениях о правах, надо отдать ему
долое, отметив, что, за вычетом фундаментальной проблемы включе
ния, с которой он связывает весь кс�плекс собственных представлений о
гражданстве, его концепция подчервает как дифференциацию, так и
интеграцию, притом что граансе права играют более очевидную роль
в дифференциации, а политические права обеспечивают новые формы
интеации
«<медиацию»)
государственной и общественной сфер (госу
д�pCTBeHHoe устройство и социетальное сообщество).
Уд ивляет тот факт, что Луман делает решительную попытку свести
функцию фундаментальных прав к одному только измерению к диф
ференциации97. За этим тезисом стоит его непреклонная «реалистичес
кая»
концепция современной политической ситемы и политической
власти как потенциально
«тоталитарных» ,
нацеленных на политизацию
всех сфер жизни98. И все же современная политическая система рое
на из социальной дифференциации. Ее современный характер предпо
лагает дифференциацию, и ее воздействие на другие подсистемы требует
экономии властных ресурсов99. Ус тановление и самоустановление гра
ниц государственной власти является поэтому игрой и в те, и в другие во
рота. Каково бы ни было реальное историческое происхоение основ-
1
00
б
ных прав , они не ьmи пороением исключительно государства или
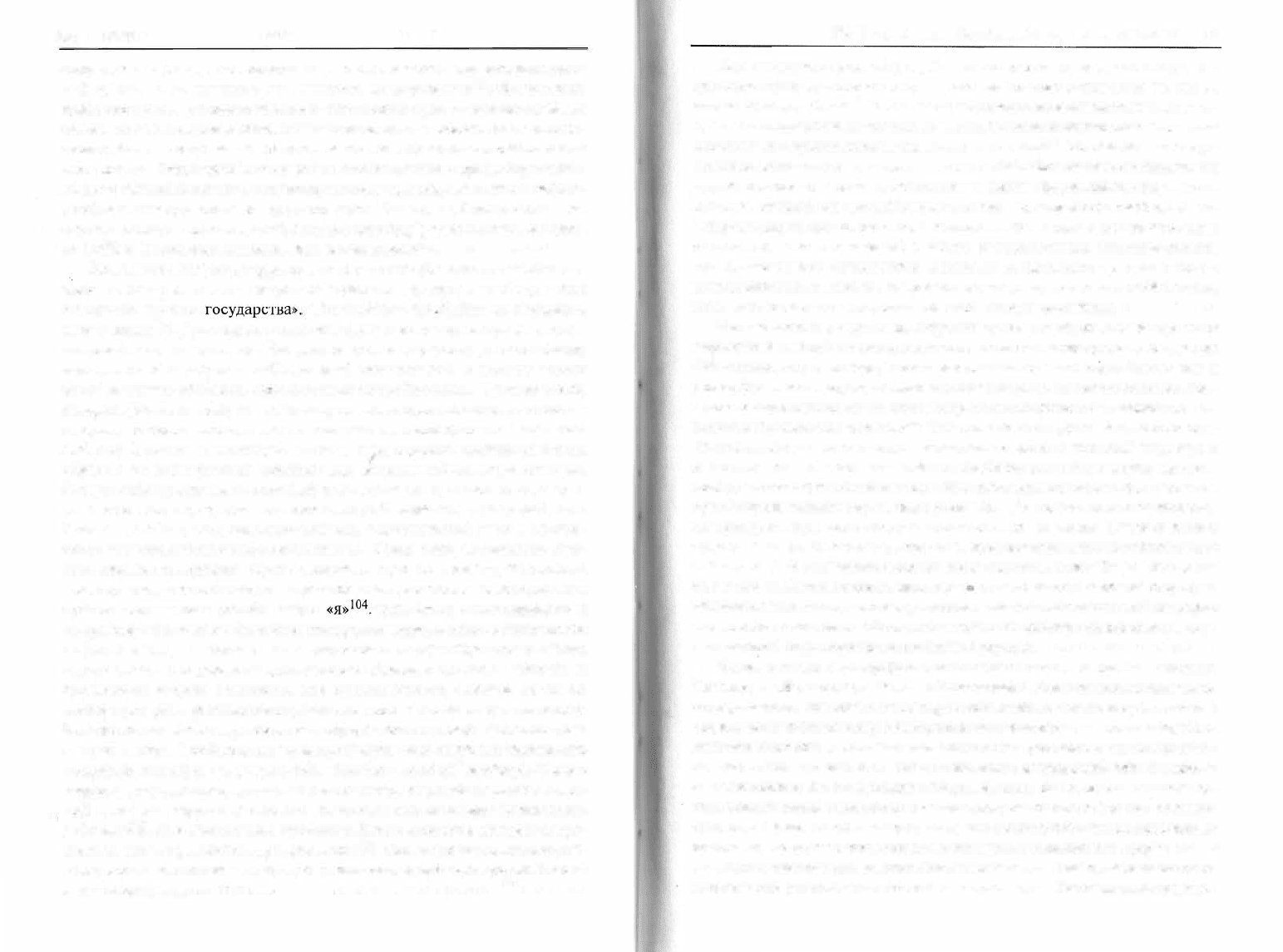
0
ГЛА
В
А 7
социальной сферы; они вносят свой вклад и в автономию неполитичес
кой сферы, и во властные возможности политической1ОI. Логический
парадокс правового позитивизма в отношении прав - предполагаемая
невозможность самоограничения политической власти путем политиче
ского установления законов - получает таким образом социологическое
разрешение. Фундаментальные или конституционные права берут нача
ло не во внеполитическом или внеправовом порядке, а являются предпо
сылками и продуктами дифференциации общества. И хотя они - не
единственные институты, стабилизирующие дифференциацию, сегодня,
по крайней мере, они для этой цели незаменимы1О2.
Соответственно, структура прав не может быть выведена из какого
либо единого принципа,' наподобие «индивидуальной свободы» или
«общества против
государства» .
Невозможно выстроить и иерархию
между ними1О3. Дело здесь в том, что фундаментальные права состоят
из нескольких комплексов, каждый из которых регулирует отношения
политической системы с той или иной подсистемой, в каждом случае
руководствуясь особыми структурными потребностями. Прежде всего,
свободы (Freiheitsrechte) имеют в виду не автономию индивида в строгом
смысле, а защиту личности индивида (которая сама является подсисте
мой в ряду других подсистем), а она, в СВЮ очередь, зависит главным
образом от поддержания условий для адекватной самопрезентации.
Эти условия предполагают свободу действующего субъекта от открыто
го и явного принуждения, в частности от обязывающих решений, и от
базовой устойчивости самопрезентации, определяемой здесь как сущ
ность чувства собственного достоинства. Среди того, что обычно при
нято считать свободами, Луман различает права на свободу и права на
достоинство, соответственно относящиеся к внешним и внутренним
предпосылкам презентации своего
«я»IО4.
Как блага, существующие и
до государства, они не являются продуктом прав, а лишь защищаются
правами в том, что касается политической системы. Права на свободу,
строго говоря, охраняют пространство индивидуального действия и
выражения; в этом контексте, как представляется, свобода слова во
всех ее формах занимает центральное место. «Права на достоинство»
Луман считает более трудными для определения и утверения и отме
чает во многих (особенно либеральных) правовых системах тенденцию
помещать эти права в разряд Freiheitsrechte (прав на свободу). Он же
классифицирует их совершено отличным образом, связывая их с защи
той интимной сферы, которую следует отделять от сферы публичного
действия1О5. Та к называемая свобода совести является лучшей совре
менной иллюстрацией этого требования1О6. Без этого индивид переста
ет быть ответственным за выработку последовательной и убедительной
самопрезентации.
КРИТИ
С ПОЗИЦИЙ СИСНО ПОО
НИКС
Л
1
Как и в случае со свободой, Луман считает защиту достоинства по
средством фуаментальных прав уместной только в ситуации угрозы со
стороны государстваlО7. И все же он убеен, что лоая дихотомия об
щества и государства ведет только к ошибочным либеральным попыткам
выводить все фундаментальные права из свободlО8. Он тем e менее
ствует необходимость отметить важность Freiheitsrechte для стабилизации
других комплексов прав, относящихся к иным сферам общества, - ком
плексов, каждый из которых предполагает возможность свободной са
мопрезентации индивидуальной личности. По-видимому, это особенно
относится к так называемой свободе коммуникации. Заметим кстати,
что Луман тае считает права личности связанными с особым типом
коммуникации, а именно с приданием самовыражению такой формы,
которая распознается другими как свободная и достойная.
Однако в случае с правами собраний, ассоциаций, свободой прессы и
выражения мнений контекстом является уже не личность, а культура, не
субъективность, а интерсубъективность и ее предпосылки. Здесь, как и
ранее, Луман считает, что фундаментальные права имеют отношение к за
щите коммуникации лишь постольку, поскольку этой последней потен
циально уожает государство1О9. Он испытывает трудности с установлени
ем четкой связи между набором коммунационных функций (культура и
ее интернализация; определение зон необходимого консенсуса; мобиль
ность контактов; нахождение тем общественного мнения) и перечнем
прав (на религиозные верования и убеждея, на собрания и объединения,
на пресс на художественную деятельность, на научные исследования и
преподавание, на многое другое, что может продолжить этот эклектичес
кий список). И тем не менее мысль его достаточно ясна. Современное го
сударство во многих отношениях нуждается в многоуровневой суктуре
общественных коммуникаций, которая может быть отчасти стабилизиро
вана посредством фундаментальных прав; но одновременно оно же слу
жит для этой структуры потенциальной угрозой.
Угроза состоит в огосударствлении, а не в политизации как таковой.
По мнению Лумана, ошибочно обосновывать право на коммуникацию,
отправляясь от дихотомии государство/общество, поскольку последняя
предполагает политическую нейтрализацию негосударственных сфер. По
литические проблемы и политическая власть зарождаются не только в по
литической системе, но тае и в рамках защищенной общественной
коммуникации. Эта социетальная власть дона быть ус воена и перерабо
тана политической системой, а не элиминирована посредством огосудар
ствления. Существенно важно разгрузить государство, пусть даже ценой
политических угроз, проистекающих из других социальных сферllO.
Как и в случае прав, относящихся к личности, Луман настаивает здесь
на преимущественно м статусе прав коммуникации. Все социальные систе-
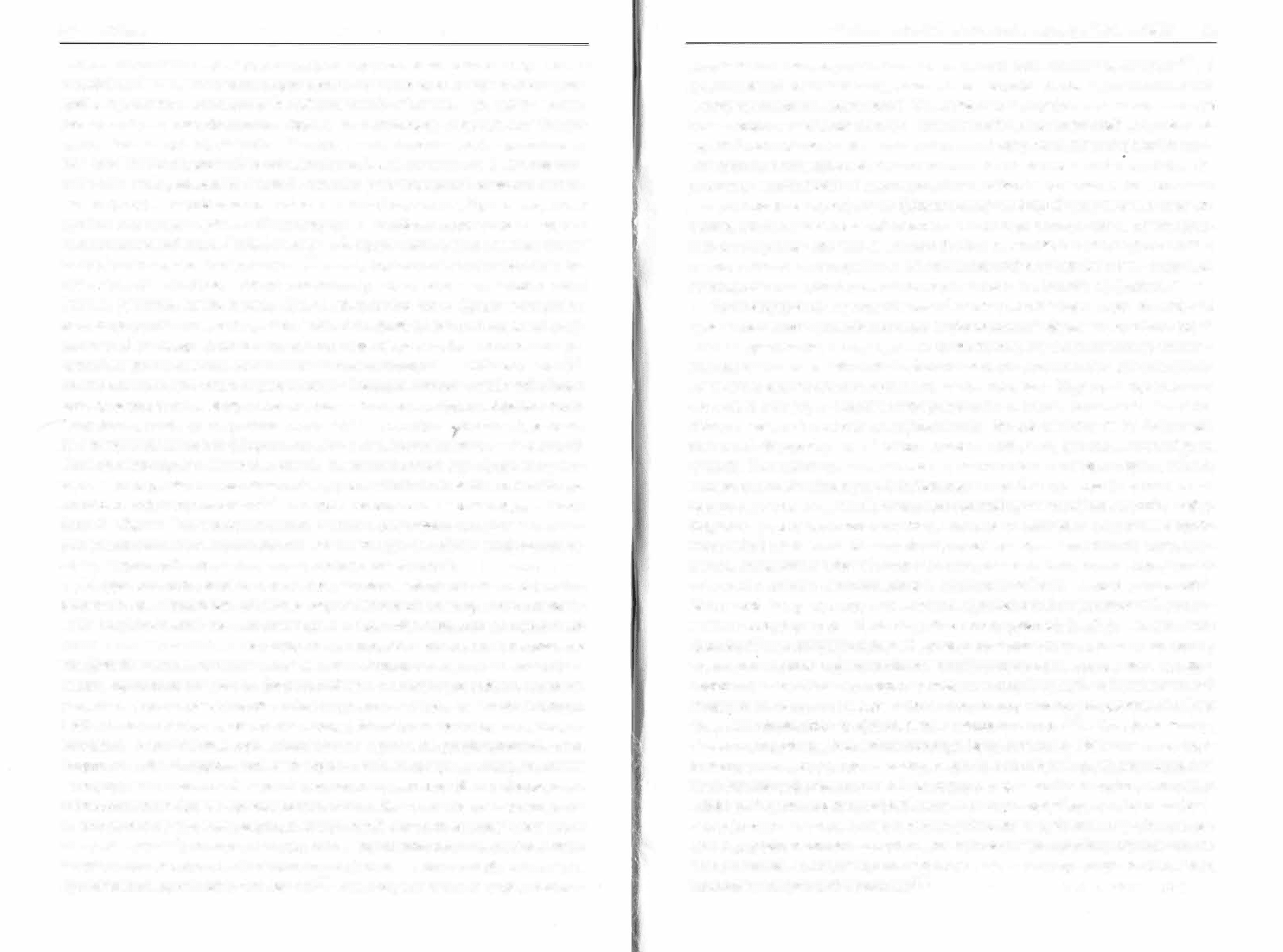
432
ГЛА
В
А 7
мы и ентичности, включая личность, предполагают не процессов
социальной коммуникации и нуждаются в защите этих процессов от влия
ний современной диначной политической системы. При такой поста
новке вопроса экономические права, по-видимом утравают бьmую
фундаментальную знамость. Хотя сами о предполагают существова
ние свободных личностей и коммуникаций, для последних (в противопо
ложность либеральным и неолиберальным утверждеям) наличие эконо
мических прав не объявляется обязательным. Разумеется, Луман возражает
прот выведения права собственности и «свободы» профессиональной
деятельности из сла Freiheitsrechtelll. В сфере экономи доы защи
щаться не лица, а роли и функции. И вновь, несмотря на то что помехи эко
ночесм процессам мЬгут исходить и из других соальных сфер
(семья, религия, наука и т. п.), Луман утверждает, что о фундаментальных
правах следует вести речь, только когда источником угрозы является госу
дарство. Хотя современное государство и дифференрованный экономи
чесй порядок издавна находились в отношениях взаимообоснованияl12,
тем не менее государство как истоик обязывающих решений способно и
непосредственно вмешиваться в экономичесе процессы. Права собст
венности и свободы заючения договоров и ПРОфессирнальной деятель
ности поервают дифференциацию эконочесх процессов и ролей.
Они препятствуют некоторым типам вмешательства в эту сферу, и проис
ходит это не во имя справедливости, а защиты экономики от неопреде
ленности и дезорганизацииl13. По этой причине названные права могут
быть и обычно бывают совместимы с такого рода вмешательствами, кото
рые укрепляют взаимозависимость, не влекущую за собой дедифференци
ации, и увеличивают экономическую эффективность"4.
Луман стоит в стороне от классического либерального и неолибе
рального представления о правах, основанного на полемцческом непри
ятии государственного вмешательства в дела общества, но он остается в
рамках этой традиции, по крайней мере коа неоднократно утверждает,
что фундаментальные права по самой своей природе, а не только истори
чески, представляют собой формы защиты от государства или, другими
словами, формы самоограничения государства. Одна из причин такого
предпочтения заключается в его определении прав как форм самоогра
ничения, осуществляемого посредством правовых установлений. Для
теоретика, являющегося позитивистом в области права, единственным
источником таких установлений служит государство. В подобном кон
тексте позиция Лумана ведет к парадоксальному следствию: несмотря на
то что на смену преобладанию политической системы пришло первенст
во экономики"5; несмотря на то, что в принципе весьма рискованная
экономизация других сфер общества (включая политику), очевидно,
представляет настоящую опасносты6,, самоограничение в форме эконо-
КРИ
С ПОЗИЦИЙ СИСНОГО
ПОО
:
НИК
Л
433
мического «конституционализма» не может и не должно вводитьсяll7. В
лумановской системе координат не находится места противостоянию
меу правами и экономикой. Эта предвзятость ведет к тому, что в плане
совладания с рисками высоко динамичной экономической подсистемы
он больше полагается на вмешательство со стороны ПОЛИТИЧСКО
Й
систе
мы, и такая позиция в действительности не совместима с намерением ог
раничить политическое вмешательство действиями, предназначенными
для улучшения внутреннего функционирования. В самом деле, как мы
знаем, политическое вмешательство такого типа, какое было с готовнос
тью поддержано им уже в начале 1970-х г. , могло бы порождать сбои с
точки зрения долгосрочной экономической перспективы в ситуации
возникновения дополнительных негативных побочных эффектов.
Этот внутренне противоречивый исход тем более парадоксален, что
Луман не может последовательно свести понятие фундаментальных прав
к самоограничению государства в контекстах, е политическая подсис
тема представляет собой наибольший источник рисков других подси
стем. Речь идет о политических правах, которые у Парсонса представля
ют собой в первую очередь опосредующие и интегративные принципы.
Воздерживаясь от такой интерпретации, Луман спасает свою (основан
на дифференциации) обшую концепцию тем, что меняет свой угол
зрения. Политические права, такие, как всеобщее избирательное право,
тайное голосование, право на политические объединения (партии) и вы
борные должности, для Лумана, как это ни парадоксально, являют собой
формы защиты политической подсистемы от внешних (включая эконо
мические!) давлений. В конечном счете, они суть механизмы селектив
ности, ставящие в обособленное, изолированное положение правитель
ство как высшуЮ инстанцию по принятию обязывающих решени
Й
l18.
Мы уже наблюдали этот ход мысли в лумановской политической социо
логии. Он подчеркивает необходимость сохранения выборов как инсти
тута, наиболее защищенного от проникновения в политическую систему
извне различных общественных конфлиов, коммуникаций и иных
влияний, способных распространиться с публичной и политической
подсистем политики на уровень ее административной подсистемы. Хотя
проводя сравнение с системами советского типаll9, Луман, видимо,
склонен отмечать роль политических прав в защите общества от сверх
политизации и политической подсистемы от сверхбюрократизации, все
же в отношении западных либеральных демократий он всецело сосредо
точен на охране, политической и административной сфер. Действитель
но, в этом контексте защита электоральных и публично-политических
процедур обретает смысл только в связи с легитимацией правительствен -
ных решений, которые принимаются в ходе исключительно внутренних
и не контролируемых процедур
l20
.
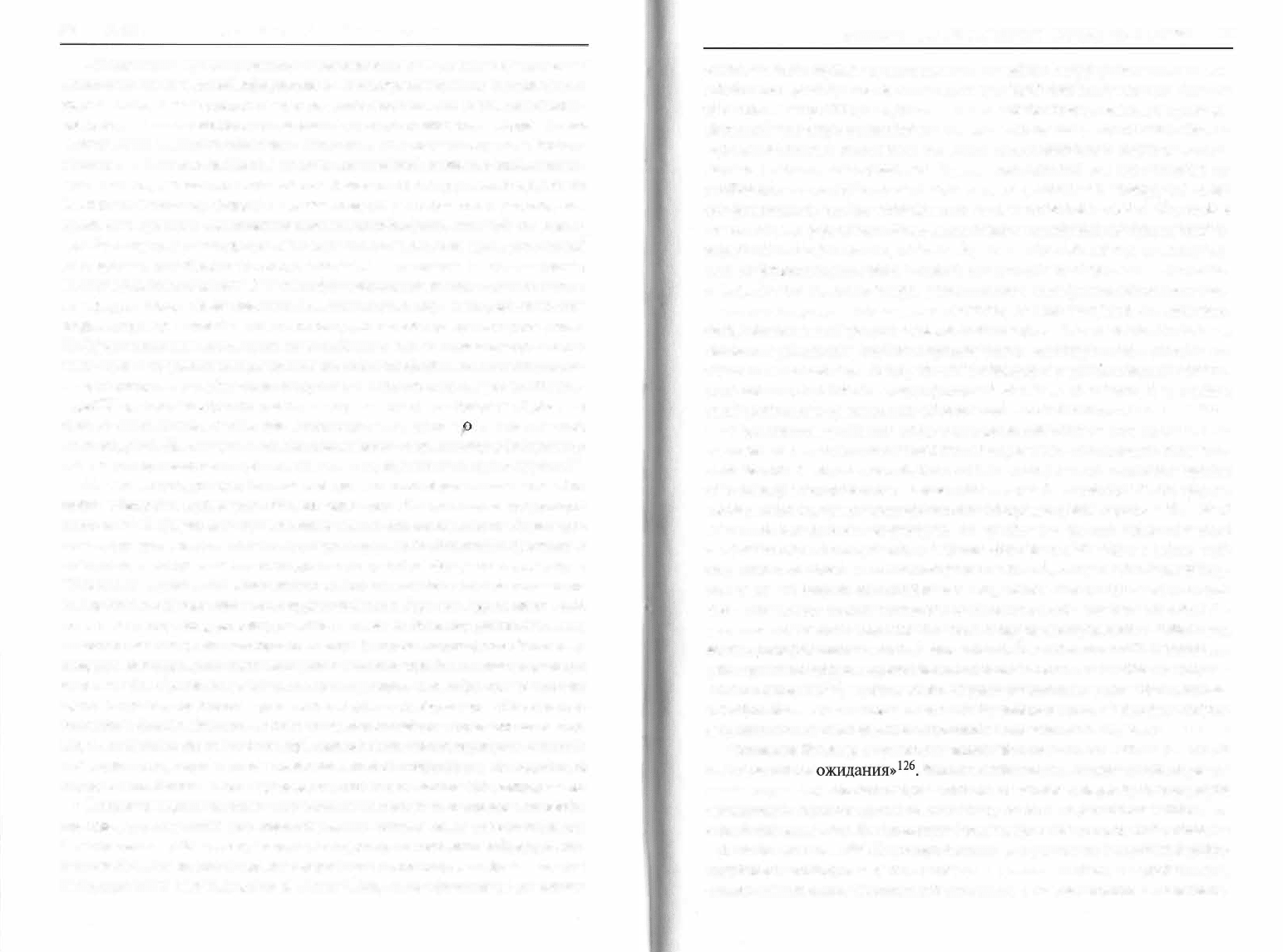
434
ГЛ 7
Лумановское представление о политичесх правах как о средстве са
мозащиты политической сферы, а не ее самоограничения по отношению к
другим социальным сферам, идут вразрез не только с его концепцией в це
лом, но и с этатистской составляющей его доктрины прав. Такой уклон
можно лишь частио объяснить попыткой использовать правовой пози
тивизм в качестве основы поиска подходящей политической мотива
ции самоограничения политической системы посредством правовых
(включая конституционные) установлений. Идея о том, что политические
права суть средство самозащиты политической сферы, лишний раз помо
гает Луману продемонстрировать неадеатность модели прав, исходящей
из идеи защиты общества от государства. Применительно к каждому ком
ексу прав он использует й идею дифференциации нуждающихся в защи
те сфер, и идею «взаимозависимой независимости», позволяющую ему
подвергнуть критике модель жесткого дуализма государства и общества.
Дифференциация в его модели прав действует первоначально через поли
тико-правовое узаконение, что само по себе есть форма взаимозависимос
ти. Не исключает дифференциация, как мы видели на примере экономиче
ских прав, и возмоости новых взаимосвязей. Однако Луман не приходит
здесь к заключею о том, что дихотомия государство бщество полно
стью устарела. Вместо этого он настаивает на ее сохранении в обобщенном
виде, в концепции систем, находящихся в коммунации друг с ДРугом
121
.
Эта новая модель не предназначена спасения концепции аждан
ского общества. Напротив, Луман стремится, в частности, разрушить
идею особой сферы, в которой взаимно подкрепляющиеся и стабилизиру
ющие друг друга нормативные структуры, формы ассоциаций и публичная
коммуникация противостоят современному государству и современной
экономике. Правда, его намек на то, что права личности и коммуникации
на глубинном уровне являются предпосылками друг для друга, идет враз
рез с его жестко дифференцированной схемой. В некоторых контекстах
личность и коммуникация представлены (пусть и смутно) как обоснова
ние друг друга, а не как логичес отдельные, хотя и взаимозависимые
системы. Но Луман не развивает эту интуицию, несмотря на то что она
могла бы послуть основанием более глубокой теории прав. В его пред
ставлении фундаментальные права создают дифференцированные систе
мы и защищают их; и нет никакой единой целостной структуры, способ
ной слуть для них почвой и обоснованием - струуры, которую те и
другие могли бы совместно сформировать, а не только дифференцировать.
Исключением, возможно, является сама правовая система. Какой бы
еще дифференциации ни способствовали права, сама их способность
фунионировать зависит, по-видимому, от существования дифференци
рованной системы процедур, в которой они могут получать независимую
интерпретацию и применение и, может быть, даже оформление в виде за-
КРИТИ С ПОЗИЦИЙ
СИСНОГО ПОО: НИКС
Л
435
KOHOB
122
. Если правам предназначено защищать дифференциацию от по
сягательств со стороны политической системы, они сами долы быть от
нее обособлены. И Луман действительно пытается обращаться с правовой
системой (по мере развития его социологии права данное отношение к
правовой системе становится все более заметным) как с дифференциро
ванной подсистемой общества. Права, являющиеся для него такими же
правовыми институтами, как и любые другие, хотя они и наделены особы
ми функциями, так же при нежат этой подсистеме. Поскольку Луман
считает право фундаментально связанным с нормативным стилем оа
ний, мы можем допустить, что сама правовая подсистема представляет со
бой дифференцированный остаток концепции гражданского общества,
выстроенный частично вокруг разделяемых всеми фундаментальных нор
мативных структур. Однако, на наш взгляд, а возможно, и на его собствен
ный, сознательный разрыв Лумана с концепцией гражданского общества
слишком радикален, чтобы допускать такую интерпретацию. Вопрос со
стоит в том, может ли он выработать адекватную и последовательную тео
рию правовой системы, дифференцированной от политики, в контексте
своей радикальной кампании против гражданского общества.
Переоценка проблемы норм в лумановской социологии права и вос
становление центрального положения норм в его социологическом ана
лизе выглядит поразительно, если учесть его прежнюю полемику против
теории нормативной интеграции у Дюрейма и Парсонса. Полемика эта
теперь лишь частично смягчается. Он утверает, что нормы - это важ
ная часть социальной структуры, но трактовать их как тождественные
структуре значит неправильно пони мать их MecTo
123
. Нельзя тае счи
тать синонимами нормы и институты: не все институты воплощают нор
мы, и не все нормы институционализируются. Наконец, неверно пола
гать, что нормативная интеграция общества основывается на общих и
разделяемых всеми нормах. Во всех дифференцированных обществах
нормы оспариваются и вокруг них возникают конфликты
124
. В этой тео
рии правовые нормы, представляющие собой лишь малую часть норма
тивных явлений
125
, прежде всего играют решающую роль в регулирова
нии и стабилизации нормативного конфликта и лишь во вторую очередь
выражают, символизируют и укрепляют нормативный порядок.
Согласно Луману, нормы суть «контрфактически стабилизированные
поведенческие ожидания»
126
. Законы являются инсmиmуционализирован
НИ нормами, стабилизированными в плане nроце
д
ур , а структура
ожиданий в отношении таких норм оберегается от разочарований и вос
станавливается с помощью санкци
й
каждый раз после того, как разочаро
вания имеют MecTo
127
. Это определение опирается на подробное теоре
тическое рассмотрение, которое здесь может быть приведено лишь в
самом общем виде. Социальное действие, развивающееся в сложном и
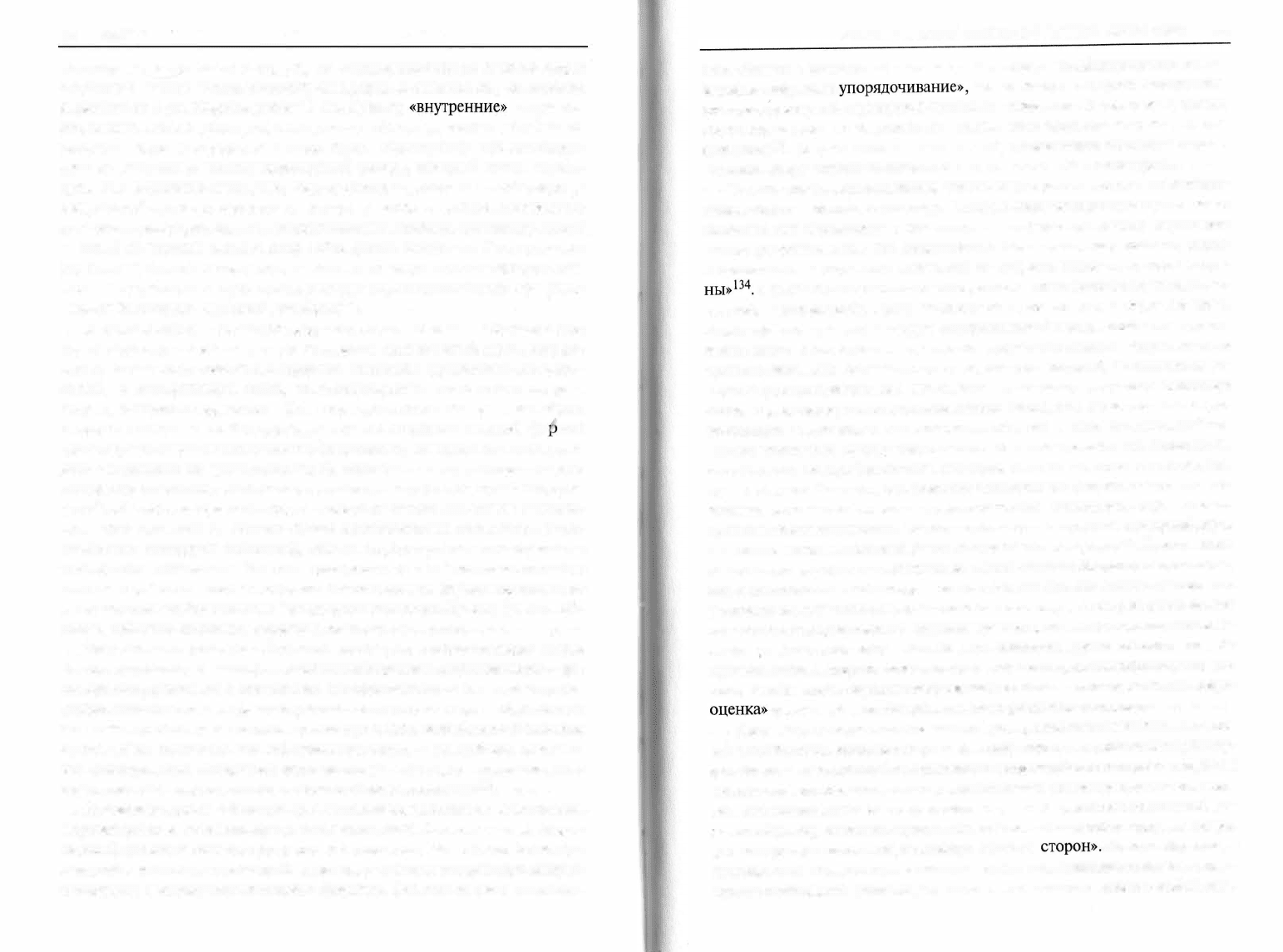
6
ГЛА 7
непредсказуемом контексте, может координироваться только через
структуры взаимодополнительных ожиданий и механизмы, способные
управляться с разочарованиями
l
28. По Луману,
«внутренние» ожидания
индивидов относительно действий других обычно заменяют собой коор
динацию через реальную коммуникацию, пони маемую как интенсив
ный по времени и потому дефицитный ресурс, который лучше прибе
речь для немногих открытых, неразрешенных, обычно конфликтных
ситуаци
Й
l29. Однако ожидание, будучи ответом на непредсказуемость
действий другого, находится в угрожающем положении, поскольку другой_
- такой же человек и имеет свои собственные ожидания. Потенциально
это ведет к двойной непредсказуемости: каждый может разочаровать дру
гого. Следовательно, координация может достигаться только при усло
вии стабилизации ожиданий ожиданийl3О.
В лумановском - по большому счету бессловесном - обществе есть
два и только два основных стиля ожиданий: когнитивный стиль, при ко
тором возможно научение и изменение оданий в результате разочаро
ваний, и нормативный стиль, подразумевающий неспособность или,
скорее, нежелание научаться. То , что в индивидуальной психике обык
новенно считается необходимой, но все же довольно опасной фо мой
проецирования самоидентичности (ненаучение, влекущее за собой реак
цию отторжения на грани патологии), становится в случае нормативных
ожиданий социально стабилизированной и гарантированной структу
ро
Й
I
3
l
.
И В
случае психологического проецирования, и в случае социаль
ных норм главная цель состоит скорее в стабилизации связанной с иден
тичностью структуры ожиданий, нежели в обеспечении эмпирического
следования ожиданиям. Но если происхождение и функционирование
психической проекции может иметь место целиком внутри индивида, то
в отношении стабилизации и воспроизводства норм Луману удается по
казать действие подлинно внешних, социальных механизмов.
Неадекватно решается Луманом проблема происхождения норм.
Единственный отмечаемый им социальный процесс создания норм - ре
альная коммуникация и достижение взаимопонимания относительно со
здания или изменения правил и определения отклонений - объявляется
исключительным, характерным только для маломасштабных социальных
систем. Ведь считается, что действенность норм - по крайней мере тех,
что одновременно находятся в поле зрения, - зависит от невозможности
осуществления относительно их реальной коммуникации132.
Дифференциация общества предполагает возрастающее обособление
нормативного и когнитивного стей ожаний. В своей чистой форме
каждый из них открыт новым рискам: в одном случае - риску окостене
ния социальных ентичностей, в другом - рискам совершенно непред
сказуемого и потому невыносимого будущего. Ответом на это в современ-
К
С ПОЗИЦИЙ СИСНО ПОО
:
НИ
Л
7
ном обществе является не дедифференциация, а комбинирование, вклю
чающее «обратное
упорядочивание»,
возможность которого обеспечива
ется рефлексивной структурой ожидания ожиданий. В частности, можно
когнитивно одать нормативное ожидание и нормативно ожидать ког
нитивноеl33. Первая из этих комбинаций, когнитивное о�ание норма
тивного, имеет ключевое значение для лумановской теории права.
Нормы становятся законами, только когда они институционализиро
ваны в плане санкций и процедур. Построение института имеет решающее
значение для управления нормативным конфликтом. Луман определяет
институционализацию как возмоость основывать ожидания на «пред
положительном одании ожиданий со стороны какой-то третьей сторо
ны»134.
Отличаясь от внешних наблюдателей, такие третьи стороны потен
циально принадлежат, пусть неопознано и анонимно, к тому же полю
взаимодействия, к тому же кругу сопереживаний и ожиданий, что и участ
ники спора. Роль судьи исторически кристаллизовалась вокруг фигуры
третьего лица. Для Лумана институты, подобно нормам, не зависят от ре
альной коммуникации и консенсуса. Поскольку реальный консенсус
всегда в дефиците, институционализация пользуется им экономно. Вмес
то создания консенсуса или использования его в качестве исходной по
сылки, институты предполагают экономное пользование тем небольшим
его объемом, который имеется в наличии, распределяя его по тем сферам,
где он нуее. Для того, чтобы иметь возможность фунионировать, ин
ституты нуждаются лишь в предвосхищении консенсуса, при условии
наличия соответствующих третьих сторон - в одании ожиданий, пра
вильность таких допушений редко подвергается проверке 135. Хотя С эмпи
pичecKoй стороны эта 'концепция не может вызвать больших возражений,
мы снова отметим постоянную неспособность Лумана связать механизмы
реальной коммуникации и достижения консенсуса (которые он не может
полностью игнорировать) с другими предложенными им самим механиз
мами табилизации или хотя бы дать какое-то другое обоснование их
существования, нежели имплицитное ошущение, согласно которому я
того, чтобы могло происходить предвосхищение или «успешная сверх
оценка» консенсуса, необходим какой-то реальный консенсус.
В случае правовых норм как институтов реальными механизмами, не
обходимыми для стабилизации ожиданий, являются санкции и процеду
ры. Значимость санкций состоит не во вторичной для них роли создания
мотивации для послушания, а в возможности снятия разочарования пу
тем символического подтверждения нормы. В развитых обществах, со
гласно Луману, санкции служат единственным способом продемонстри
ровать «предполагаемый консенсус третьих
СТОрОН».
Таким образом, в
лумановской модели права эпизодическое принуждение символизирует
предвосхищаемый консенсус и может тем самым заменять собой кон-
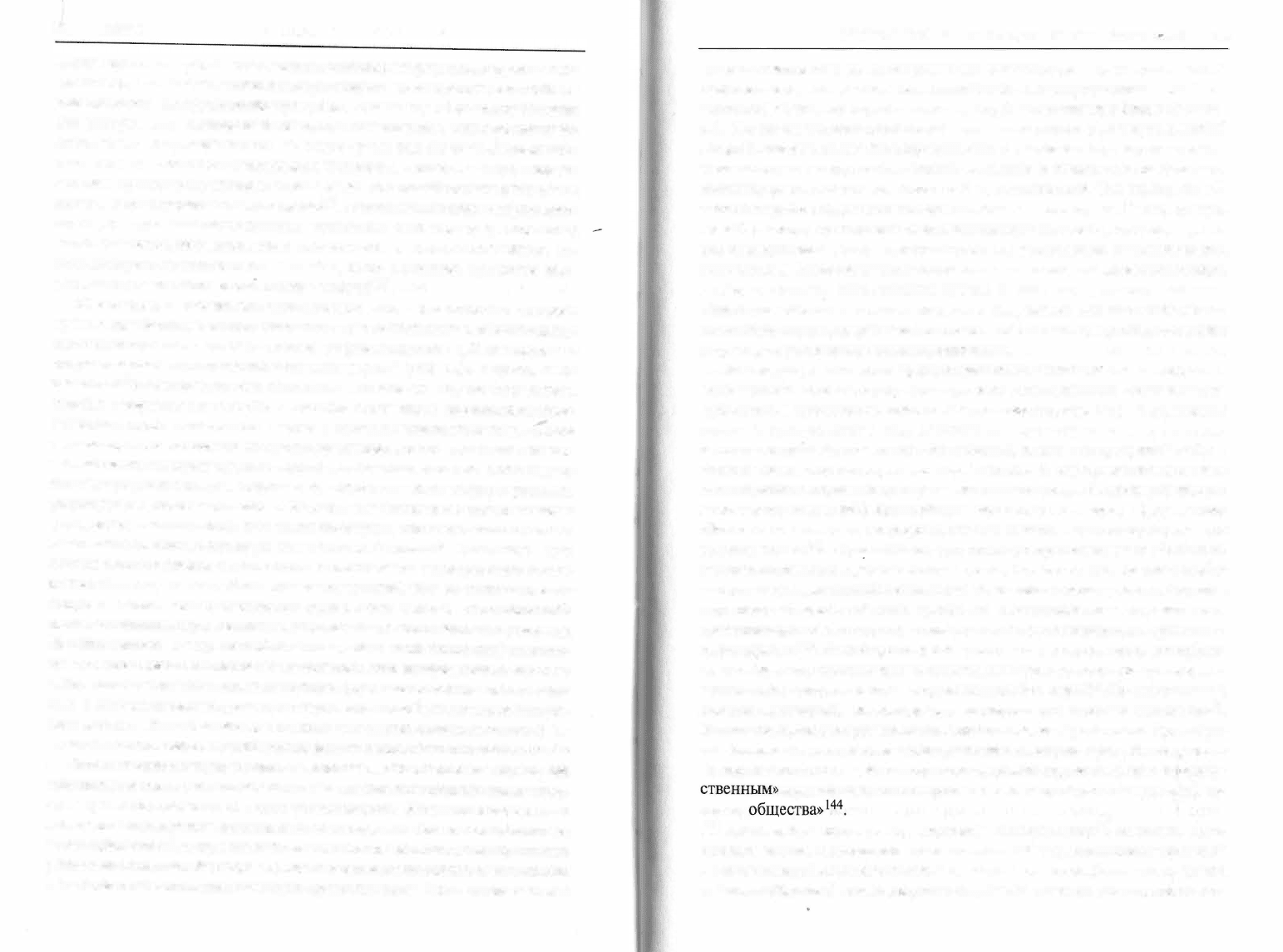
8
ГЛА
В
А 7
сенсус фактический. В этой модели, однако, непрерывное функциони
рование права основывается в первую очередь не на принуждении, кото
рое является инструментом, притупляющимся по мере упоебления.
Для утверждения непрерывности требуется механизм, одновременно ре
ально присутствующий и в то же самое время как бы существующий за
рамками реального круга участников. Эта роль отводится дифференциро
ванным процедурам, которые таким образом занимают гл авенствующее
место в ИНституционализации праваI36. Для символизации непрерывно
сти процедуры являются лучшим средством, чем санкции, поскольку
они пере носят центр внимания с (все менее вероятного) согласия по по
воду конкретных решений на взаимное, пусть и неявное, принятие абст
рактных прав достижениЯ таких решений1З7.
Процедуры - это главная предпосылка возникновения позитивного
права. Они не тол ько единственный доступный механизм, обеспечиваю
щий действенность нового уровня рефлексивности, заключенного в
«HOPMaT��:OM регулировании создания норм»lЗ8, но И (квази)медийное
средство , вокруг которого возможно обособление права от религии,
морали и научной истины. Согласно Луману, главной предпосьmкой по
зитивного права является созидание и внесение изменений посредством
узаконения, Т. е. посредством процедурно корректных решений. Это мо
жет достигаться двумя путями - право вы м и политическим, и оба указы
BaюT на рефлексивность: нормы регулируют создание норм, а решения
регулируют принятие решений. Нормы, направляющие создание норм
(например, конституция), суть такие же нормы, как и все остальные. Та
ковы же и решения, регулирующие принятие решений. Позитивное пра
во означает отрицание возможности существования внеправовых источ
ников права и даже иерархии правовых уровней. Тем не менее было бы
ошибкой трактовать позитивность права в том смысле, что единствен
ным источником права являются нормативно обоснованные решения.
Нормы, даже те, которые потенциально могут стать законами, возника
ют во всех сферах общества. Законодательство подразумевает процесс
отбора из того, что поступает из других сфер в ве потенциальных зако
нов, и последующее утверение результатов этого отбора как действую
щих законов. В этой модели валидным становится только тот закон ко-
торый проходит через процедурный фильтр законодательстваl4О.
'
Лумановская интерпретация, в отличие от некоторых других версий
позитивного права, оставляет место для других источников законотвор
чества, нежели законодательное установление. Хотя этим он готовит
почву для примирения позитивного и исторического правоведения, на
обоих полюсах этого противопоставления он предлагает недифференци
рованные решения. Во-первых, он не различает активные и пассивные
общественные источники создания правовых норм. Это вытекает из его
КРИ С позиций СИСНО ПОО: НИС
Л
9
сосредоточенности на изолированных подсистемах и на неразложимой
теоретически, бессвязной повседневности, а не на организованной со
циальной сфере, где пересекаются культура и ассоциации (как у Парсон
са). И хотя он замечает, что стереотипы поведения и институты в любой
сфере общества могут быть превращены в правовые нормы, он не заме
чает разницы между социальными нормами и социальн
ы
Iии фактами,
поднятыми на уровень юридической правомочности. Те м самым он об
ходит вопрос о том, может ли нормативная вuдносmь, в отличие от пра
вовой, достигаться помимо законодательного процесса, и, следователь
но, является ли законодательный процесс, при наличии валидных норм,
источником более высокой валидности или же он является лишь одной
из форм создания обязывающих правил и, возможно, универсализации.
Самое главное, он не ставит вопроса о том, играет или нет особую роль
источника норм для право вой системы описанный им процесс создания
норм через достижение взаимопонимания.
Во-вторых, в его схеме присутствует неуверенность, такая же, как во
всей взятой в целом традиции правового позитивизма, относительно
правового, в противоположность политическому, характера позитивного
права. Вопрос состоит в том, являются или нет создание и действие по
зитивного права функциями политической подсистемы; данный вопрос
сродни тому, что сопутствовал помещению в эту подсистему других
составляющих и медиаторов аанского общества. В своих ранних ра
ботах на эту тему (1967) Луман был сонен просто утверждать, что поли
тическая подсистема поддерживает механизмы позитивного права и
управляет имиl41. Позже (1976), уже после утверждения идеи об обособ
лении и автономии правовой подсистемы, Луман все еще не мог освобо
диться от представлений о взаимном наложении институтов и событий в
двух подсистемах и отмечал трудности в создании законов, внутренне
присущие законодательству, осуществляемому политическим органом -
парлам�нтомI42. На деле, это наложение заходит так далеко, что инсти
туты создания, применения и исполнения законов оказываются тремя
ветвями (законодательной, исполнительной и судебной) центральной,
административной, принимающей решения подсистемы политикиl4З.
Таким образом, утверждая автономность правовой системы, Луман на
талкивается на некоторые трудности в преодолении своих более ранних
представлений, согласно которым позитивное право является «государ
ственным»
правом, «участь которого связана с судьбой политической си
стемы общества» 144.
Правда, Луман говорит о различной селективностиl45 и, позже, о раз
личных связях, сцеплениях и исключенияхl46 двух подсистем, правовой
и политической, даже в том случае, когда у них есть общие институты и
события. Можно доказывать, хотя сам Луман этого не делает, что в зако-
