Маковецкий Е.А. Подобие и подражание в средневековой культуре
Подождите немного. Документ загружается.


ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
оригиналом, второе — копией). Именно этой ми-
метической частью тайны уподобления и измеряется зре-
лище, но вовлекает оно чем-то куда более фунда-
ментальным — самим подобием. Иначе говоря, я смотрю,
как бы потому, что это мне самому интересно, но на самом
деле мне интересно и я смотрю потому, что я важен и ну-
жен, может быть даже любим тем, чьей копией я являюсь.
Я нужен тому, на кого смотрю. Это меня притягивает, на
этот вопрос я не могу не ответить. Если я вижу значит, не
глух, не камень, значит действительно храню хотя бы кру-
пицы подобия
266
.
IV
Тайна мимесиса в том, что он отнюдь не бесспорным
образом является самой явной и фундаментальной теори-
ей искусства. В его исключительной силе сомневаются уже
Филостраты во II-III-м вв., в XX веке Гадамер достаточно
сильно переосмысляет мимесис чтобы с его помощью ста-
ло возможным понимание современного искусства
267
. Соб-
ственно и Платон, создающий теорию мимесиса в третьей
книге Государства, говорит о необходимости его ограни-
чения, а время прихода подражателей в воображаемое го-
сударство у него совпадает с нуждой в избытке и с прихо-
дом туда же ещё и купцов с воинами. Короче, профессио-
266
На примере богословия св. Григория мы имеем возмож-
ность ответить на следующий вопрос. Почему именно хри-
стианская антропология даёт образ для понимания всяко-
го зрелища и почему именно в ней разница между подра-
жанием и подобием (да и само подобие) наиболее очевид-
на? Потому что это философия ответа, заботы, попечения
267
Филостраты. Цит. соч.; Гадамер Г.Г. Искусство и
подражание// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.,
1991
180

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
нальный подражатель — не тот, кто нужен больше других,
без него, вообще-то, можно и обойтись. Вот без чего точно
не обойтись никак — это мимесис сам по себе, в первую
очередь — воспитательный мимесис: только, подражая
старшим, ребёнок приобретает лучшие или худшие черты
своего душевного сложения. Поэтому основное отношение
Платона к мимесису состоит в решении задачи о том, как
сделать так, чтобы образцом для подражания было луч-
шее. Примерами для юношей должны становиться лучшие
из воинов, воспевать нужно ратный труд и труд землепаш-
ца. И всё в этом роде. Но строго нужно помнить следую-
щее: если мы говорим о близости к благу, то из троих, име-
ющих отношение к уздечке, на первом месте будет наезд-
ник, шорник — на втором, а профессиональный рисоваль-
щик — на третьем. Только тот, кто ездит верхом, знает
как управлять конём, он делится этим знанием с тем, кто
умеет что-то делать. И уже совсем в этой триаде дальше
всех от истины уздечки будет рисовальщик. Смысл знания
и жизни в том, чтобы понять то, благодаря чему ты есть и
как можно ближе приблизиться к своему источнику. Эйдо-
сы, как виды блага, обнимающие подобием каждый соот-
ветствующий вид сущего, стягивают космос в единство
блага. Но эти же эйдосы являются тем путём, видом блага,
который открывается всякой вещи. Вещь существует
благодаря благу, конечно, но через идею, т.е. её закон —
подобие видимому (открывающемуся в эйдосе). Идея, зна-
чит, это путь блага к вещи, но открывающийся вид блага
(эйдос), будет пуст, если на него никто не будет смотреть,
если никто не будет стремиться к благу. Эйдос - царство
подобия, но он не может распространить подражание в
уподобленном. Родители не могут заставить детей подра-
жать им. Тогда подражание — это именно обратный путь
181

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
того, что существует (благодаря благу), путь обратно к
благу, это значит видеть благо; возможность эта открыва-
ется только в подражании, как произвольном действии
вторично сущего (т.е. сущего благодаря благу). Поэтому
идея — это точка взаимного соединения блага и вещи,
точка встречи двух разнонаправленных движений, соб-
ственно, эта точка и есть космос, потому что нельзя себе
представить ни того блага, которое не является источни-
ком бытия, ни той вещи, которая не нуждается для своего
бытия ни в каком источнике.
Вопрос о подражании у Платона — это вопрос о пра-
вильном выборе, который может быть трансформирован в
вопрос о воспитании, если мы полагаем, что правильный
выбор, или правильное употребление своей воли, можно
привить.
Если два движения — блага и к благу — встреча-
ются в эйдосе, то здесь же происходит соединение подо-
бия и подражания. Стало быть мимесис — это та основа,
на которой покоится способность видеть: и телесным об-
разом (вещи) и умным зрением (сами идеи). Способность
видеть — это способность отвечать, на языке Платона —
подражать лучшему, стремиться к благу. Но сделаем ого-
ворку: теория идей в целом — это не теория зрелища. По-
тому что благо не видимо, а теория идей повествует о бла-
ге.
Если подражание столь фундаментально как в пла-
тоновском, так, тем более, в христианском мире, то легко
себе представить ту силу какой обладает построенное на
нём зрелище. И это же есть вторая главная мысль Тертул-
лиана: от зрелища почти невозможно оторваться! Как об
одном из самых великих земных соблазнов говорит он о
182
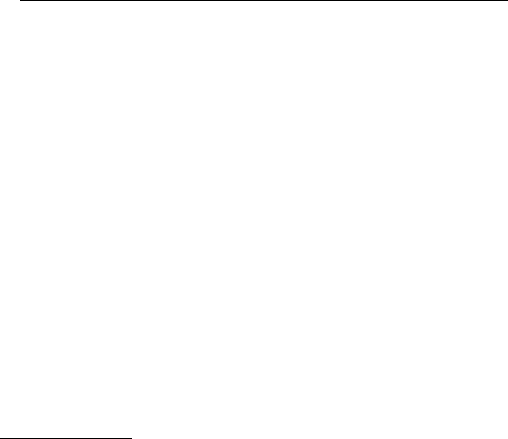
ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
зрелище, передавая аргументы язычников: «Вот как, гово-
рят они: христиане, народ подлый и робкий, стараются
укрепить себя перед лицом смерти. Чтобы быть в состоян-
ии презирать жизнь, они устраняют все, что нас к ней при-
вязывает, а потому меньше заботятся о конце дней своих и
с большей легкостью оставляют жизнь, которую успели
уже сделать для себя ненужной»
268
.
Зрелище, привязывая, привязывает и к мимесису.
Благодаря своей генетической связи с мимесисом, оно об-
ладает силой придавать смысл всему зримому
269
. Зрелище
— то, что привязывает к жизни, то, что даёт ей смысл. Мо-
жет быть привязывает и как-то неправильно, гипертрофи-
руя страх перед смертью, но может быть, наоборот, прида-
вая жизни особый вкус и особую ни с чем не сравнимую
остроту чего-то конечного? Страх смерти и плод мимеси-
268
Тертуллиан. О зрелищах. 1.
269
Каким образом мимесис связан со смыслом? Богословие
открывает в мимесисе заботу Творца, как бы протягиваю-
щего руку всему сотворённому. Для платонизма мимесис
— то, что должно свидетельствовать о благе как источни-
ке всякого бытия. Но и там и здесь мимесис может быть
ложным: рука может быть отвергнута, а миметические
произведения могут создавать ложные образы, не откры-
вая в эйдосах блага, а наоборот, уводя от него. Сам факт
пререкаемости мимесиса не отменяет его участи в подо-
бии, не отменяет того, что он является, по крайней мере,
началом пути к Богу и благу. Эта пререкаемость мимеси-
са и есть то, благодаря чему сущее либо наделено смыс-
лом, либо нет. Поскольку оно сущее, в нём безусловно
участвует Бог и благо, но участвует ли это сущее в Боге и
благе? От этого зависит наличие или отсутствие смысла в
нём.
183

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
са напрямую связаны и у Платона, когда он ратует за ис-
ключение из воображаемого государства тех поэтов
(например, Гомера), которые пугают будущего воина смер-
тью, рисуя её страшной. Воин не должен бояться смерти,
он должен бояться позора, говорит философ
270
. Зрелище
может сделать жизнь настолько сладкой, что возникнет
страх от одной мысли о её конце. Заметим ещё, что смерть
в зрелище — это символическая смерть: мы знаем, что, в
большинстве случаев, убитые на сцене герои после пред-
ставления поднимутся с пола и разойдутся по свои делам.
Но это не вся смерть, важнее в зрелище другая смерть —
конец представления, несущий пустоту и ожидание нового
представления. Но и это ещё не всё, зрелищем формирует-
ся такое представление о смерти, согласно которому
смерть человека — это только конец, конец представле-
ния. Это самая страшная смерть — пустая, непоправимая,
мучительная своей голой отрицательность. Тот образ
смерти, который формируется зрелищем, не менее сильно
гонит человека на представление, чем глубинная сила ми-
месиса, открывающая смысл. Собственно, зрелище форми-
рует весь жизненный сюжет: смысл (мимесис), развязка
(смерть), завязка (притягательность зрелища), коллизия
(напряжение страстей, возникающее из несоответствия мо-
его смысла и смысла того, что происходит на сцене. Это
то, что Тертуллиан определяет как «жить чужой жизнью»).
Зрелище становиться моим билетом в мир: я буду по-
нят и буду понимать, что происходит в жизни, только бу-
дучи искушённым в зрелищах. Сюжетность жизни даст мне
субъективный статус, я получу возможность автономно
употреблять свою волю, правда только в рамках, заданных
зрелищем: смогу делать всё и сам, но только в подражание
270
Платон. Государство. Кн. 3.
184

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
своим героям. Может быть отсюда, из ощущения только
относительной свободы мира зрелища, и происходит глу-
бинная неудовлетворённость мимесисом, но следует по-
мнить, что если зрелище и покоится на мимесисе, то сам
мимесис зрелищем далеко не исчерпывается. Его граница
— подобие, но это уже не история зрелища
271
.
271
Почему зрелище никак не связано с подобием (разве
только опосредованно через мимесис)? Потому что дело
подобия — это создание подобного, а когда ещё ничего не
создано, то, во всяком случае, ничего не видно. Для того,
кто создаёт по подобию подобие уже есть, а подобного
ещё нет. Бог сотворил всё из ничего. «В начале сотворил
Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал
Бог: да будет свет. И стал свет». Т.е. зрелище отделено от
подобия по крайней мере началом, временем.
185
Базулева Т.Л.
Динамическая концепция красоты Н. Кузанского
В творческом наследии Н. Кузанского есть только
один трактат, полностью посвящённый обсуждению пре-
красного. Строго говоря, трактатом он не является, по-
скольку представляет собой проповедь, которую исследо-
ватели иногда называют «трактатом о красоте». Написана
проповедь в 1456 г. и по своей первой строке (цитате из
«Песни песней») получила название «Вся ты прекрасна,
возлюбленная моя…». Обращаясь к тексту этого произве-
дения, мы рассмотрим эстетическую концепцию Кузанско-
го с точки зрения принципа динамизма, который её вну-
тренне структурирует и выводит к тем метафизическим
обобщениям, в контексте которых она формируется как
философия красоты.
По своему жанру проповедь имеет известные огра-
ничения: она должна быть нравоучительной, сжатой по
объёму, для неё необязательно систематическое развитие
тех или иных положений, но зато обязательны ссылки на
церковные авторитеты. Поэтому для восстановления логи-
ки и полноты картины нам придётся обращаться к другим
произведениям Кузанского, равно как и к другим мыслите-
лям. Среди последних особое место занимает Псевдо-Дио-
нисий Ареопагит, ссылками на которого сопровождается
весь текст проповеди. Трудно сказать, кем считал Кузан-
ский Дионисия (авторство «Ареопагитик» в то время ещё
серьёзно не обсуждалось): афинским ли учеником апосто-
ла Павла, или первым парижским епископом, или более
поздним последователем Прокла, но относился он к нему с
явной симпатией и называл «славным Дионисием».

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
***
Следуя средневековой традиции, Кузанский признаёт
трансцендентную природу красоты и считает её пер-
воисточником Бога. Бог – абсолютное совершенство во
всех отношениях и «красота в Боге — первая и верховная,
откуда природа красоты излучается во все прекрасное»
272
- (здесь и далее курсив мой – Т.Б.). Признание Бога пер-
воисточником красоты означает, что красота не укоренена
в материальности вещей и не может быть сведена к оце-
ночному суждению воспринимающего субъекта. Все пре-
красные вещи прекрасны сами по себе, независимо от того,
кто и как их воспринимает, однако по отношению к Богу
их красота не субстанциальна. Если бы Бог красотой не
обладал, её не было бы и в нашем мире. Бог является выс-
шей онтологической инстанцией красоты.
Обратим внимание на слова Кузанского об излучении
красоты. Дионисий также рассуждает о том, что суще-
ствуют некие исхождения Бога в творение, благодаря ко-
торым они совершенствуются, уподобляясь его красоте.
Господь изливает на всё созданное им невидимый сверхъ-
естественный свет, который настолько ясен, что уже не-
зрим и в этом подобен мраку: "Божественный мрак - это
тот недосягаемый свет, в котором, как сказано в Писании,
обитает Бог. Свет этот незрим по причине чрезмерной яс-
ности и недосягаем по причине преизбытка сверхсущ-
ностного светолития…»
273
.
272
Кузанский Н. Вся ты прекрасна возлюбленная моя. //
Эстетика Ренессанса. Т. 1. М.,"Искусство", 1981. С. 117
273
Дионисий Ареопагит. Послание Дорофею литургу. //
Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений с толкованиями
преп. Максима исповедника. Санкт-Петербург. 2008. С.
420
187

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Метафора, переносящая свойства света на Бога, имеет
древние истоки, её можно обнаружить почти во всех язы-
ческих религиях, однако в монотеистическом христи-
анстве она начинает выполнять особую функцию. Посред-
ством метафорического отождествления Бога и Света об-
основывается необходимость выхода Бога за свои пределы
и полагание им себя вне себя, в сотворённом им мире.
Природа Бога, как и природа света «не терпит замкнуто-
сти в самом себе». Свет, чтобы быть светом, должен све-
тить, но светить он может, лишь распространяя себя вне
себя. Только в качестве льющегося, отсылающего себя во-
вне свет есть свет. Солнце не перестаёт быть солнцем, от-
того что светит; точно так же и Бог, не утрачивая своего
единства и единственности, выходит за свои пределы и по-
лагает себя вне себя. За этим «вне-себя полаганием себя»
стоит определённый вид движения, определённый процесс,
редко находящий свою философскую рефлексию. На кате-
гориальном уровне она имеется только у Гегеля, который
назвал этот процесс отталкиванием, и нам придётся
обратиться к некоторым страницам его «Науки логики»,
чтобы понять суть отталкивания и неразрывно связанного
с ним притяжения.
***
Система категорий в «Науке логике» открывается
тремя главными понятиями: чистое бытие, наличное бытие
и для-себя-бытие. Разумеется, это не три разных, обладаю-
щих самостоятельностью бытия, а одно бытие, которое по-
разному осмысливается. Сначала в мысли о бытии не со-
держится ничего конкретного, в ней констатируется толь-
ко то, что «всё, что есть, есть». Это самая простая, наи-
более бедная содержанием мысль, которой соответствует
абстрактное понятие «чистого бытия». Затем бытие пред-
188

ПОДОБИЕ И ПОДРАЖАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
стаёт в мысли как неопределённое множество реально су-
ществующих вещей, отличающихся друг от друга своим
качеством. Такому пониманию бытия соответствует кате-
гория «наличного бытия».
Хотя наличное бытие ближайшим образом понимается
как нечто, которое отличается от другого, тем не менее
его понятие требует единства нечто и другого. Смысл
этого единства Гегель раскрывает постепенно. В самой
простой форме оно означает, что там, где есть нечто, обя-
зательно есть и другое. Нечто без другого (которое его
ограничивает) не бывает, поэтому мысль о нечто влечёт
мысль о другом. Затем Гегель показывает, что другое на-
ходится не только по ту сторону нечто, но и в нём самом.
Нечто в самом себе есть другое - другое самого себя. Не-
что, таким образом, себя отрицает, и это отрицание нахо-
дит выражение в процессе изменения. Изменение – это
становление нечто другим. Только потому, что нечто в
самом себе есть другое, оно этим другим и становится, то
есть изменяется. Это означает, что изменение носит не
внешний, а внутренне необходимый характер, и потому
нет ничего из налично сущего, что не было бы подвержено
изменению. Изменяется всё!
Но тут подстерегает третья форма единства нечто и
другого, которая обнаруживает, что процесс изменения
ничего не изменяет. Эта точка зрения очень немногих,
мудрых людей, которым становится ясно, что «всё суть
одно и то же», что за чередой изменений стоит скука бес-
конечного повторения одного и того же. Эта скука - для
мысли, и она очень важна, поскольку проводит грань меж-
ду истиной чувств и истиной мышления (грань, которую
впервые остро ощутил Парменид). Для нашего чув-
ственного восприятия всё в мире меняется и ничто не
189
