Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Выпуск I: Кризис историзма
Подождите немного. Документ загружается.

140
История исторической мысли XX века
него оптимизм в отношении ближайших перспектив западной цивилизации.
Думается, именно поэтому Шпенглер, как никакой другой философ до него,
уделял такое заинтересованное внимание естественнонаучной и технической
проблематике, поднимая ее до ранга важнейшего философского вопроса.
По определению Э. Нольте, Шпенглер стал первым философом тех-
ники и певцом естественнонаучного века. Это был «первый немецкий
философ, который в своем прогнозе будущего ставил технику выше
искусства»
1
'. Констатируя, что в теперешней Западной Европе больше
не может быть речи о великой живописи и музыке, он обращался к мо-
лодежи с призывом овладеть техникой, увидеть в ней свое будущее.
«Если под влиянием этой книги, - писал он, - люди нового поколения
возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живо-
писи, за политику вместо теории познания, они поступят так, как я того
желал, и ничего лучшего нельзя им пожелать»
18
.
Впрочем, в другом месте своей книги О. Шпенглер дает молодежи
еще один совет - идти по стопам известного колонизатора С. Родса, имя
которого было воплощено в названии английской колонии в Южной
Африке - Родезии. Итак, имперская политика и техническое могущест-
во - таким виделось Шпенглеру будущее Запада. А что же Россия?
5. «Там, где намечается теперь Россия...»
Своеобразной антитезой западной цивилизации в «исторической мор-
фологии» Шпенглера выступает Россия, которой, по его убеждению, еще
предстоит создать свою самобытную культуру на бескрайних простран-
ствах «от Вислы до Амура». Почему же этого не произошло раньше?
Ответ на этот вопрос содержится в помещенном во II томе «Заката Ев-
ропы» разделе «Исторические псевдоморфозы». Псевдоморфозы (букваль-
но: ложные формы) - гносеологический термин, обозначающий минераль-
ные образования, внепшяя форма которых не соответствует их составу и
внутреннему строению. Историческими псевдоморфозами О. Шпенглер
именует «случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой
силой, что культура юная, для которой край этот - ее родное, не в состоя-
нии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания
чистых собственных форм, но не достигает даже полного развития своего
самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности,
изливается в пустынную форму чуждой жизни; отдавшись старческим тру-
Nolte Е. Op. cit. S. 157.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. С. 81-82.
Лекция \Х. «Историческая морфология» Освальда Шпенглера
141
дам, младые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост
собственной созидательной мощи?! Колоссальных размеров достигает
лишь ненависть к явившейся издалека силе»
19
.
Такой исторический псевдоморфоз О. Шпенглер видит в петровской
России. Представляет интерес набрасываемый мыслителем под этим
углом зрения эскиз русской истории, содержащий любопытные парал-
лели с евразийской исторической концепцией. Подобно евразийцам он
начинает ее с московского периода, который, используя свой излюблен-
ный метод аналогии, называет русской эпохой Меровингов. Эта эпоха
начинается со свержения татарского владычества, пишет он, и длится
через времена последних Рюриковичей до Петра Великого. «Я советую, -
продолжает ученый, - каждому прочесть «Историю франков» Григория
Турского, а параллельно с этим соотвелствующие разделы старомодного
Карамзина, прежде всего те, что повествуют об Иване Грозном, Борисе
Годунове и Шуйском. Большего сходства невозможно вообразить»
20
.
Так начинала складываться русская культура, отличная от западной фау-
стовской. Но затем появился Петр, ставший «злым роком русскости». С ос-
нованием Петербурга последовал «псевдоморфоз, втиснувший примитивную
русскую душу вначале в чуждые формы позднего барокко, затем в Просве-
щение, а затем - ХГХ столетия»
2
. Последствия были гибельны для русской
души и всей русской истории, сообщив ей некий призрачный, неподлинный
характер. Народу, предназначением которого было еще на продолжении по-
колений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная ис-
тория, постижение духа которой прарусскость - вещь абсолютно невозмож-
ная. В лишенном городов краю с его изначальным крестьянством, как нары-
вы, угнездились отстроенные в чуждом стиле города. Они были фальшивы,
неестественны, невероятны до самого своего нутра». И, прежде всего, это
Петербург. «Москва- святая, Петербург - сатана»
2
".
Эти суждения иногда вплоть до наших дней трактуются как свидетельст-
во недоброжелательного отношения и даже ненависти их автора к России
23
.
Едва ли с этим можно согласиться, если следовать логике его «исторической
морфологии», согласно которой каждая культура является уникальным орга-
низмом, развивающимся из своей перводушевности и проходящим весь цикл
Шпенглер О . Закат Европы. Т. 2. С. 193.
20
Там же. С 197.
21
Там же.
22
Ш пенг л ср О. Закат Европы. Т. 2. С 198.
23
См., например: Кантор В . Петра Творенье, или Разгадка России // Во-
просы литературы. 1999. Май-июнь.
142
История исторической мысли XX века
от примитивной эпохи до нового варварства. Реформы Петра I разрушили
этот естественный процесс, навязав молодому народу чуждую ему культуру.
О какой же ненависти к России можно здесь говорить?
В таком случае в подобной ненависти следует обвинять и евразий-
цев, которые при всем различии исходных посылок и понятий дают
столь же негативную оценку петербургскому периоду русской истории
и в сущности на том же основании, что он исказил исконные основания
русской государственности. Они были едины и в обозначении 1917 г.
как даты крушения романо-германского ига, в одном случае, и истори-
ческого псевдоморфоза, в другом, открывавшего возможность возвра-
щения России к своим подлинным истокам.
Для Шпенглера это означало возможность освобождения русского
народа от влияния чуждой его перводушевности культуры и возникно-
вения самобытной русской культуры. Характеристика ее тоже никак не
говорит о его «ненависти к России». Конечно, О. Шпенглер не был
большим знатоком русской духовной жизни. Его суждения на сей счет
крайне поверхностны. Иначе, например, нельзя объяснить его противо-
поставление Ф.М. Достоевского как предтечи грядущего Л.Н. Толстому
как отцу большевизма
24
. Трудно оспаривать жесткое замечание
С.С. Аверинцева, что «вероятно, в своем понимании России Шпенглер в
наибольшей степени уходит от науки в мир «фельетонизма»
25
.
Но свою цель я вижу не в оценке фактической достоверности тех или
иных высказываний Шпенглера о России, а в характеристике самого отно-
шения его к возникающей русской культуре, отношения, сразу же подчерк-
ну, пронизанного уверенностью в ее большом будущем. Это будущее фи-
лософ неразрывно связывші с русским религиозным ренессансом. Впереди,
полагші он, Россию ожидает необычный духовный подъем, «христианство
Достоевского» (всякий подлинный русский, считал Шпенглер, это ученик
Достоевского, хотя он его и не читает).
Новая культура, прорицал О. Шпенглер, вспыхнет и бурно разовьется
на всем пространстве юной, еще скованной чуждыми ее душе формами
жизни, но уже готовой к пробуждению страны. Это будет культура, прони-
занная мистической русской любовью, являющейся полным отрицанием
24
«Толстой, - утверждает он, - это Русь прошлая, а Достоевский - будущая...
Достоевский - это святое, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного,
подлинного наследника Петра, и происходит большевизм... Он говорил о Христе,
а в виду имел Маркса» (Шпенглер О. Закат Европы. Т. II. С. 199, 201).
25
См. его примечания к разделам Т. II «Заката Европы» // Самосознание ев-
ропейской культуры XX века. М., 1991. С. 56. Сн. 16.
Лекция \Х. «Историческая морфология» Освальда Шпенглера
143
фаустовской персональной ответственности. Отмечая, что основным мета-
физическим ощущением всех творений Достоевского является формула
«все виноваты во всем», Шпенглер усматривал существо этого феномена в
любви к таким же угнетенным братьям и всему живущему. «И все понизу,
по земле, по земле», писал он, противопоставляя этой мистической любви
устремленное вверх горение фаустовской культуры
26
. Так на бескрайних
пространствах «намечается Росси», начинается последняя христианская
культура, отмеченная печатью русского религиозного гения
27
.
Начинается, напоминаю, после революции 1917 г., разрушившей петров-
ский псевдоморфоз. Отсюда проистекала ее противоречивая оценка. С одной
стороны, Шпенглер подчеркиваі ее инфернальную природу. «Если основа-
ние Петербурга, - писал он, - было первым деянием Антихриста, то уничто-
жение самим же собой общества, которое из Петербурга и было построено,
было вторым». Однозначно крайне негативно характеризовались им актив-
ные деятели революции - большевики, которые аттестовшіись как «низший
слой «общества), чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и
потому полный низменной ненависти».
С другой стороны, это революция народная. «То, что придало этой
революции ее размах, - полагал философ, - была не ненависть интелли-
генции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления ис-
целиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков,
а затем отправит следом и их самих - тою же дорогой». Революция
вернула к его подлинной истории, «не знающий городов народ,
тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей
собственной религии, по своей собственной будущей истории»
28
.
Начинается культура, которая будет принадлежать третьему тысячеле-
тию. (Вспомните время существования каждой культуры, по Шпенглеру,
примерно ЮОО лет, например, западная датируется им ЮОО - 2000 гг.). Так,
закат Европы встречался с утренней зарей русской культуры.
Пророк и историк. Мифологический образ и исторический факт...
Есть ли между ними точки соприкосновения или одно безусловно отри-
цает другое? Обращение к творчеству одного из самых «мифологиче-
ских» мыслителей XX в. должно предостеречь против любого поспеш-
ного категорического ответа на этот вопрос. Конечно, книга Шпенглера
III пенгл ер О. Закат Европы. Т. 2. С. 307. Сн.
См.:Сендеров В . Цит. соч. С. 155-157.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. С. 201.
144
История исторической мысли XX века
не может служить пособием по истории русской, как и всякой другой,
включая западную, культуры, да и цели такой автор перед собой не ста-
вил. Не все ладно обстоит и с его пророчествами, оторванными от ре-
альной исторической почвы. К счастью, не сбылось главное из них,
сформулированное в самом названии книги. Не получил признание в
современной науке основополагающий постулат его «исторической
морфологии», противопоставляющий понятия «культура» и «цивилиза-
ция». Перечень претензий к немецкому мыслителю легко продолжить.
Но нельзя упускать из виду и другое. Глобальные мифологемы
О. Шпенглера обратили историческую мысль XX в. к действительно важ-
ной историко-культурной проблематике. С ними соглашались или, чаще,
их оспаривали, но отныне история культуры стала одним из магистраль-
ных направлений развития исторической науки. Рухнуло европоцентри-
стское видение мира, что привело к интенсивному исследованию неевро-
пейских культур как самобытных исторических феноменов, не сводимых
к западной эталонной модели. В их изучении важное инструментальное
значение сохраняют отдельные разработанные Шпенглером познаватель-
ные категории, такие, например, как «исторические псевдоморфозы».
Наконец, что нас в этом курсе больше всего интересует: «Закат Ев-
ропы» остается самым впечатляющим свидетельством начала общего
кризиса исторической мысли. Что бы сам Шпенглер ни говорил о своем
оптимизме, его книга была воспринята потрясенным европейским соз-
нанием как предвестье конца. «Время после I Мировой войны, - свиде-
тельствовал другой выдающийся немецкий философ К. Ясперс, - было
вечерней зарей уже не только Европы, а всей культуры на Земле, кон-
цом человечества... Это все еще не был сам конец. Но сознание его
возможного предстоящего наступления было господствующим». Никто
в такой мере, как О. Шпенглер, не способствовал утверждению этого
сознания.
Лекция X
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ЙОХАНА ХЕЙЗИНГИ
Обозначенная в «Закате Европы» проблема исторических судеб За-
пада становится в 20-30-е гг. ведущей в послевоенной общественно-
исторической мысли, достигнув особой остроты в преддверии новой
мировой войны. Растущее сознание тотального кризиса, сопоставимого
по глубине, масштабности и последствиям с кризисом римской цивили-
зации, стало знамением времени, составляя лейтмотив напряженных
дискуссий о настоящем и будущем западной культуры. Тональность
этих дискуссий была преимущественно пессимистической, что обу-
словливалось самой действительностью (подъем революционного дви-
жения, экономический кризис, распространение тоталитарных режимов,
нарастающая угроза новой мировой войны).
И все же проблема кризиса западной культуры при всей ее остроте
далеко не исчерпывала содержание этих дискуссий. В рамках историко-
культурологической проблематики в межвоенные годы были достигну-
ты выдающиеся результаты, существенно обогатившие понимание ис-
торического прошлого и саму методологию его изучения. В значитель-
ной степени они были связаны с деятельностью выдающегося нидер-
ландского мыслителя Й. Хейзинги, имя которого прочно вошло в исто-
рию исторической мысли XX в.
Хейзинга не был профессиональным, цеховым историком. Он исто-
рик культуры в широком и, как вы увидите, достаточно своеобразном
смысле. В одной из своих последних книг «Мой путь к истории» (1941)
он признавался: «Я так никогда и не стал историком чистой воды... На-
стоящим историком я не сделался. Я не выбирал для себя определенный
материал, специальную область исследований, будь это эпоха или стра-
на; мои труды... были парением над садами духа, куда я опускался, что-
бы коснуться того или иного цветка и лететь дальше»
1
. Это «парение»,
однако, оказалось на редкость продуктивным, положив начало склады-
1
Цит. по: Михайлов А.В.Й. Хейзинга в истории культуры // Хей-
зинга И. Осень средневековья. М., 1988. С. 430.
146
История исторической мысли XX века
ванию целых направлений в развитии исторического знания, таких как
средневековая ментальность и «культура - в игре».
Итак, И. Хейзинга - второй мыслитель, с которым мы знакомимся, от-
разивший в своем творчестве глобальный кризис западной культуры. В
самой констатации этого кризиса он, несомненно, близок О. Шпенглеру,
но я попытаюсь показать своеобразие подхода нидерландского мыслителя
как к пониманию природы кризиса, так и, главное, путей его преодоле-
ния. Собственно, последней проблемы для Шпенглера вообще не сущест-
вовало. Как мы могли убедиться, закат западной культуры, а в последнем
итоге и западной цивилизации был для него изначально детерминирован
и, следовательно, необратим. Вот против этого детерминизма и восставал
Хейзинга. По существу все его творчество можно рассматривать как на-
пряженный поиск путей преодоления кризиса с позиции «трагического
і"уманизма». Поиск, в котором выдающаяся роль отводилась истории.
1 Путь к истории
2
Йохан Хейзинга родился 7 декабря 1872 г. в Гронингене. Здесь в
раннем детстве и произошла его первая встреча с историей. Семилетним
мальчиком он увидел маскарадное шествие студентов Гронингенского
университета, изображавшее историческое прошлое Нидерландов. Это
красочное зрелище не только запечатлелось на всю жизнь в его памяти
(уже в старости он писал, что это шествие было самым красивым из все-
го, виденного им в жизни), но и во многом определило сам интерес
И. Хейзинги к истории как культуре в игре и его понимание историче-
ского человека как «человека играющего».
Но путь его к истории оказался достаточно извилистым. Вначале
были филологические увлечения. Уже в гимназии наряду с интересом к
геральдике и нумизматике он серьезно изучал семитские языки: иврит и
арабский. Во время учебы в Гронингенском университете приступил к
изучению древнеирландского, литовского и славянских языков. Но в
особенности следует отметить его увлечение санскритом, итогом кото-
рого стала защита в 1897 г. диссертации «О видушаке в индийской дра-
ме» (видушака - образ шута), а в 1903 г. после нескольких лет препода-
вания истории в гимназии г. Харлема он становится приват-доцентом
кафедры истории древнеиндийской литературы и культуры в Амстер-
дамском университете. Здесь он обращается к изучению буддизма.
2
В этом и других разделах использованы фактические данные, содержащие-
ся в: Ми х ай л о в А . В . Цит. соч.; Тавризян Г. М. Йохан Хейзинга: кредо
историка //Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М, S 992.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хеіаинги
147
Но как раз в годы недолгого пребывания в Амстердаме происходит ради-
кальное изменение научных интересов Й. Хейзинги. Вот как он характеризовал
его суть: «С огромным интересом занимаясь буддизмом, я все лучше чувство-
вал, насколько мне чужд, насколько далек от меня мир Востока... Мне стано-
вилось все яснее, что меня влекло находившееся ближе ко мне - в средневеко-
вом Западе, с которым я никогда не утрачивал духовный контако)'.
Хейзинга переходит на кафедру всеобщей истории Гронингенского
университета (1905-1915), а затем всю свою научно-педагогическую
деятельность связывает с Лейденским университетом, будучи его про-
фессором, а многие годы и ректором.
Еще в Гронингене у Хейзинги возник замысел написать книгу об
увядающей культуре средневекового Запада, из которого выросла самая
знаменитая его книга «Осень средневековья» (1919). Переведенная на
многие европейские языки, книга принесла ее автору широкую извест-
ность, правда, скорее как культуролога, чем историка. Подобно многим
новаторам в науке, он встретил непонимание со стороны профессиональ-
ных историков-традиционалистов. "Роскошная вещь, - писал об этой
книге один из них, - только не подумайте, что там речь идет об истории".
Каким бы парадоксальным это утверждение сегодня ни казалось, в нем
был свой резон. Той традиционной истории, которая в начшіе XX в. еще
правила бал в европейских университетах, истории политической, эконо-
мической или социальной, в книге Хейзинги действительно не было. Он
высоко ценил историю, видел в ней важнейшее средство духовного исце-
ления больного общества, но его понимание ее было весьма своеобразным.
Широко известно его определение истории как духовной формы, в которой
культура отдает себе отчет о своем прошлом. Отсюда вытекало ее выдаю-
щееся культурное значение. Но при этом принципиально отрицалась науч-
ность истории, утверждалась ее принадлежность искусству, что рассматри-
валось не как недостаток ее, а как великое достоинство.
Еще в студенческие годы Й. Хейзинга испытал стойкое влияние гол-
ландского «движения 80-х гг.» с его подчеркнуто эстетическим видени-
ем мира. «Оно научило нас ставить науку ниже искусства, искать под-
линную жизнь в глубинах нашей души - это, - уже в старости писал
мыслитель, - было великим благом»
4
. Отсюда вытекал специфический
характер его подхода к прошлому и самого интереса к истории, согрето-
го эмпатическими переживаниями. «Исторический интерес, - пояснял
3
Цит. по: Михайлов А.В. Цит. соч. С. 419.
4
См.: Михайлов А. В. Цит. соч. С. 417.
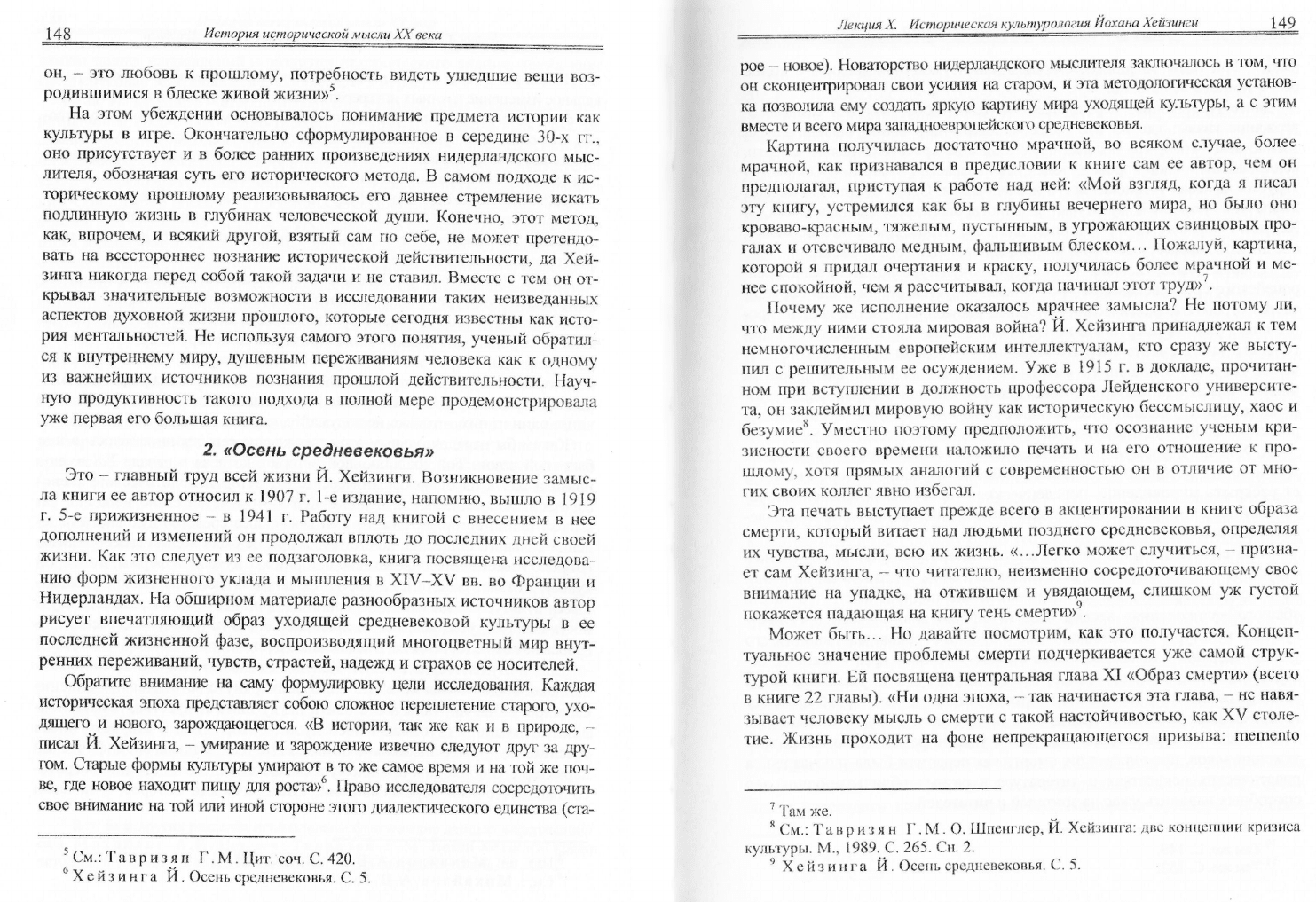
150
История исторической мысли XX века
mori... Три темы соединялись в мелодию неумолчной жалобы о конце
всего земного великолепия»
10
.
Далее Й. Хейзинга перечисляет эти темы, обозначая тем самым со-
держание главы: где те, кто ранее наполнял мир своим великолепием;
тление всего того, что некогда было людскою красотою; пляска смерчи,
вовлекающая в свой хоровод людей всех возрастов и занятий. Так акцеп-
тируется целевая установка всего исследования. Образ смерти составляет
лейтмотив уходящей культуры западноевропейского средневековья, и
Хейзинга обращается к этой теме, для того чтобы прояснить ее облик,
обозначить характерные черты мировидения людей того времени.
И, может быть, главное. Тема смерти в культуре позднего западноев-
ропейского средневековья не просто декларируется. На читателя обруши-
вается огромный фактический материал, рисующий чувства людей, про-
низанных ужасом смерти. Но не этот ужас сам по себе интересен Хейзин-
ге. В его книге смерть впервые становится объектом исторического изу-
чения. До этого отношение к смерти рассматривалось либо как проблема
биологическая или психологическая (смерть как неизбежный финал жиз-
ненного цикла, психологическая подготовка к нему), либо как проблема
религиозная (бессмертие души, загробное воздаяние и т.п.).
Й. Хейзинга формулирует принципиально иной подход к этой теме.
Для него это историко-культурная проблема, изучение которой помога-
ет раскрыть мировидение, поведенческие стереотипы и жизненные ус-
тановки людей определенной эпохи. Собственно, потому она и привле-
кает его внимание.
Тема смерти в народном творчестве, литературе и изобразительном
искусстве - а это основные источники Хейзинги - появилась, конечно,
не в позднее средневековье. Сам мыслитель подчеркивает, что мотив
«былого великолепия» весьма стар и хорошо знаком всей предшест-
вующей культуре. Он возникает уже у древних греков, мы находим его
у отцов церкви, в исламской поэзии и т.д. «Человек средневековья, от-
вергнувший все земное, - пишет Й. Хейзинга, - давно уже задерживал
свой духовный взор на мрачной картине копошащихся червей и жалко-
го праха. В религиозных трактатах о презрении к миру богословы уже
возглашали неотвратимость леденящих ужасов разложения»". На про-
тяжении веков, продолжает он, смерть как персонаж была запечатлена в
пластических искусствах и литературе в разных обличьях, одинаково
способных наводить ужас на зрителей и читателей.
'"Там же. С. 149.
" Там же. С 152.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хейзинги
151
Но главное внимание Й. Хейзинги обращено на то новое, что прино-
сит в этот образ позднее средневековье. На исходе средневековья, пи-
шет он, «в представление о смерти вторгается новый, поражающий во-
ображение элемент, содрогание, рождающееся в сфере сознания, напу-
ганного жуткими призраками, вызывавшими внезапные приступы лип-
кого, леденящего страха»
12
. Вот один из многочисленных примеров. На
надгробьях появляются разнообразно варьируемые отвратительные
изображения обнаженных тел, охваченных тлением или иссохших и
сморщенных, с вывернутыми в судорожной агонии конечностями и
зияющим ртом, с разверстыми внутренностями, где кишат черви.
Но Хейзищу интересуют эти ужасы не сами по себе, хотя он и описывает
их достаточно подробно. Дтя него это средство постичь умонастроения чело-
века позднего европейского средневековья, его мировосприятие. В образе
смерти, столь натуралистически выраженном, он усматривал отражение страха
перед жизнью, пронизывающего всю эту эпоху, настроений разочарования и
отчаяния, неразрывно связанного с земными страстями. Так получает свое це-
лостное воплощение тезис, сформулированный в начале книги о характерных
для позднего средневековья усталости и страха перед жизнью, боязни жизни
из-за неизбежных огорчений и разочарований, которые ей сопутствуют.
Й. Хейзинга приводит поразительный пример такой усталости, отно-
сящийся к мироощущению правителя одного из самых благополучных
европейских государств того времени - бургундского герцога Филиппа
Доброго (1396-1467). Узнав о смерти своего годовалого сына, он вос-
кликнул: «Если бы Господу было угодно, чтобы я умер в столь раннем
возрасте, я счел бы себя счастливцем». Приводя это восклицание, Хей-
зинга пишет: «Ничья жизнь в этом столетии не кажется до того полной
мирского высокомерия и блистательных поисков наслаждений, до такой
степени увенчанной успехом, как жизнь Филиппа Доброго. Но и за его
славой таится жизненная усталость его эпохи»
1
'.
Так вся концепция Й. Хейзинги приобретает законченную логиче-
скую целостность. Картина умирания средневековой культуры находит
свое выражение в ментальности позднесредневекового человека с его
усталостью от жизни и получает свое высшее воплощение в том своеоб-
разном культе смерти, который пронизывает всю эту эпоху.
Однако при всей своей значимости в концепции Й. Хейзинги тема
смерти отнюдь не исчерпывает все ее содержание. Он стремится в своей
книге воссоздать всю многокрасочную панораму культуры позднего
Там же. С. 157.
Гам же. С. 36.
152
История исторической мысли XX века
франко-бургундского средневековья. Вот только названия некоторых ее
глав: «Желание прекрасной жизни», «Рыцарская идея», «Мечта о подви-
ге и любви», «Стилизация любви», «Идиллический образ жизни», «Ти-
пы религиозной жизни», «Религиозные переживания и представления»,
«Формы мышления в практической жизни», «Искусство в жизни»,
«Чувство прекрасного» и т.д.
Это был мир сильных чувств и острых переживаний, в общей харак-
теристике которых Й. Хейзинга отталкивается от современного миро-
восприятия. «Когда мир был на пять веков моложе, - так начинается
первая глава книги, озаглавленная «Яркость и острота жизни», - все
жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более
резко, чем в наше время. Страдание и радость, злосчастье и удача раз-
личались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли
ту степень полноты и непосредственности, с которой и поныне воспри-
нимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок
следовал разработанному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизмен-
ного стиля жизни. Важные события: рождение, брак, смерть - благодаря
церковным таинствам достигали блеска мистерии»
14
.
Это был мир игры, мир игровой культуры. И хотя концепция «куль-
тура в игре» оформилась у Хейзинги значительно позже, уже в этой
книге категория игры выступает одной из главных в объяснении при-
чудливого мира позднесредневековой культуры. В особенности это от-
носится к характеристике занимающей центральное место в книге ры-
царской культуры, которая определяется как «грандиозная игра в пре-
красную жизнь - грезу о благородной мужественности и верности дол-
гу» . В этом плане и рассматриваются в книге различные стороны ры-
царской культуры - рыцарские обеты, мечты о подвиге и любви, конеч-
но, турниры и т.п., короче, все, что составляло так называемый дух ры-
царства, воплощавшийся в игровой природе рыцарской культуры.
Трактовка Хейзингой рыцарской культуры примечательна еще и в
другом отношении. Вспомним, как мыслитель определял свой истори-
ческий метод: «парение над садами духа». Было бы, однако, опрометчи-
во понимать это выражение слишком буквально. Сосредоточившись на
изучении духовной жизни позднего средневековья, он вместе с тем не
абсолютизирует ее, помещая в широкий социально-исторический кон-
текст. В ряде случаев он отмечает коллизии, возникавшие между духов-
ными идеалами эпохи и'этим контекстом.
14
Там же. С. 7.
15
Там же. С. 90.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хейзинги 153
Так, Й. Хейзинга указывает на противоречие между духом рыцарст-
ва и исторической реальностью, подчеркивая, что «чем больше куль-
турный идеал проникнут чаянием высших добродетелей, тем сильнее
несоответствие между формальной стороной жизненного уклада и ре-
альной действительностью»
16
. Наиболее явно это противоречие прояв-
лялось в военном деле, где рыцарский идеал более препятствовал, чем
способствовал ведению боевых действий, поскольку требование страте-
гии приносились в жертву стремлению к прекрасному. Рыцарские пра-
вила военной игры постоянно вступали в противоречие с военными ну-
ждами. «Военное искусство, - заключает ученый, - давно уже отказа-
лось от кодекса поведения, установленного для турниров: в войнах
XIV и XV столетий незаметно подкрадывались и нападали врасплох,
устраивали набеги, не гнушались и мародерства» .
В этой связи представляется несправедливым упрек автора послесловия
к русскому переводу книги «Осень средневековья» А.В. Михайлова, будто
в ней «нет линии исторического движения, развития», которая связывала
бы культуру XV в. с прошлым и будущим и позволяла видеть в ней пере-
ход и диалектику, «Нет, она вся - в себе, и не случайно: ведь XV в. - образ
всей истории, истории в ее «нормаіьности», и в ее «закате» .
Это странное утверждение противоречит всему содержанию книги, дос-
тоинством которой является последовательно историчный подход ее автора к
своей проблематике. Я пытался это показать, прослеживая трактовку Хей-
зингой эволюции восприятия смерти в средние века. Но это верно и в более
широком плане. Рассматривая культуру XV в., нидерландский мыслитель все
время сравнивает «век нынешний и век минувший», увядание одних идей
(см., например, главу XV «Отцветшая символика») и возникновение новых
культурных форм (см. главу XXII «Приход новых форм»).
Так, французскому, пессимистическому в своей основе, духу XV в.
он противопоставляет «оптимизм, возраставший со времен Ренессанса,
чтобы достичь своей высшей точки в XVIII столетии»
19
. Вместе с тем,
настаивает Й. Хейзинга, различные культурные эпохи не разделены не-
проходимой стеной. «В саду средневековой мысли, среди густых зарос-
лей старых посадок классицизм, - пишет он, - пробился на свет далеко
не сразу. Вначале это лишь формальные элементы фантазии. Новое,
огромное вдохновение проявляется позже, но и тогда дух и формы вы-
Там же. С 116.
17
Там же. С. 113.
18
М и х а й л о в А.В. Цит. соч. С. 442.
19
X е й з и н г а Й . Осень средневековья. С. 33.
154
История исторической мысли XX века
ражения, которые мы привычно рассматриваем как наследие Средневе-
ковья, вовсе не отмирают»
20
.
Особенно рельефно историзм И. Хейзинги проявляется в его общей
трактовке культуры XV в. как непрерывно изменявшейся во всех своих
элементах. В его изображении это не статичное состояние, а мир, пол-
ный динамики, многоцветья, в котором старое не просто увядало, а
трансформировалось, вступало в новые сложные отношения с изме-
няющейся исторической действительностью. «Действительность, - пи-
шет он, - постоянно отрекается от идеала. Он все более возвращается в
сферу литературы, игры и празднеств; только там способна удержаться
прекрасная иллюзия рыцарской жизни; там люди объединяются кастой,
для которой все эти чувства преисполнены истинной ценности»
21
.
Гак формулируется еще одна характерная черта духовной культуры
XV в. - ее отрыв от реальной жизни, противоречие между идеалом и дейст-
вительностью. Для понимания позиции И. Хейзинги принципиальное значе-
ние имеет III глава его книги, озаглавленная «Иерархическое понимание об-
щества», в которой на обширном материале литературных источников пока-
зывается разительное несоответствие создаваемого ими образа общества его
действительному состоянию. Речь идет об отождествлении этими источни-
ками средневековья с эпохой рыцарства, значение которого оценивалось
весьма высоко, а значение 3-го сословия, буржуазии - чрезвычайно низко.
Причину этого ученый видит в том, что «аристократические формы жиз-
ненного уклада продолжали оказывать господствующее воздействие на об-
щество еше долгое время после того, как сама аристократия утратила свое
первенствующее значение в качестве социальной структуры». Поэтому и
создавалась мало соответствующая действительной жизни XV в. прекрасная
картина государства и общества. «При этом, - продолжает он, - можно было
сожалеть о вырождающейся духовности, об упадке рыцарских добродетелей
- и в то же самое время ни в коей мере не поступаясь идеальной картиной:
даже если людские ірехи и препятствуют осуществлению идеала, оті сохра-
няется как мерило и основа общественного мышления»
22
.
Я далеко не исчерпал все богатство мыслей, идей, подходов и уж тем
более фактического материала, содержащихся в книге «Осень средневеко-
вья». Мне хотелось лишь показать плодотворность историко-культурного
метода Й. Хейзинги, с помощью которого ему удалось с большой степенью
20
Там же. С 354-355.
21
Там же. С 112.
22
Там же. С. 62, 63.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хейзинги
155
достоверности воссоздать образ уникального в своем роде причудливого
мира культуры позднего западноевропейского средневековья.
Это был мир ярких красок, страстных желаний, выраженного игро-
вого начала. Мир, который «возводил любовь до уровня некоей пре-
красной игры, обставленной благородными правилами»
23
. Мир ярких
религиозных переживаний, причудливо сочетавшихся с сильными зем-
ными страстями и мечтой о прекрасной жизни. И все же при всей мно-
гокрасочности этого мира Й. Хейзинга находит в нем господствующую
доминанту. «Это, - пишет он, - злой мир. Повсюду вздымается пламя
ненависти и насилия, повсюду несправедливость; черные крыла сата-
ны покрывают тьмою всю землю. Люди ждут, что вот-вот придет конец
света. Но обращения и раскаяния не происходит; церковь борется, про-
поведники и поэты сетуют и предостерегают напрасно»
24
. Открытие
этого мира, воссоздание ментальности его обитателей и составляет не-
преходящую заслугу нидерландского ученого.
3. «Культура в игре»
Уже в первой своей книге Й. Хейзинга, как вы легко могли заметить,
акцентировал игровое содержание культуры, что особенно ярко прояв-
лялось в его изображении рыцарства. В дальнейшем отсюда выросла его
знаменитая концепция "культуры в игре", получившая наиболее обстоя-
тельное обоснование в книге "Homo ludens" (1938), самом, пожалуй,
известном и популярном произведении, где утверждалось всеприсутст-
вие игры в жизни человека.
Исходная позиция автора - вся культура носит игровой характер.
Игра старше культуры, ибо животные, утверждает он, играют точно так
же, как люди. Формулируя цель своего исследования, Й. Хейзинга ус-
матривает ее в том, чтобы «открыть самое игру в ее подлинном, чистом
виде как основание и фактор культуры в целом»
25
.
Что же такое в разумении Хейзинги есть игра, каковы ее существен-
ные признаки? "Всякая Игра, - подчеркивает он, - есть прежде всего и в
первую голову свободная деятельность. Игра по приказу уже больше
не игра". Итак, подытоживает он, первый из главных признаков игры
тот, что "она свободна, она есть свобода'
126
.
23
Там же. С. 118.
24
Там же. С 33.
25
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С 15.
26
Там же. С. 17-18.

156
История исторической мысли XX века
Непосредственно связан с этим второй признак игры - ее бескоры-
стный, незаинтересованный характер. Не будучи "обыденной" жизнью,
игра прерывает процесс непосредственного удовлетворения нужд и
страстей, лежит за его рамками, совершаясь ради самой себя. По образ-
ному выражению Хейзинги, она - "
инте
р
Ме
цц
0
повседневной жизни".
Она украшает и дополняет жизнь и поэтому является необходимой
27
.
Изолированность от обыденной жизни составляет третий отличитель-
ный признак игры. Она происходит в определенных пространственных
("игровое пространство
1
') и временных рамках. Ее характеризуют два
"благороднейших качества": ритм и гармония. Каждая игра имеет свои
правила, нарушение которых делает ее невозможной. Играть надо "чест-
но, порядочно". Наконец, игре присуща таинственность; она порождает
сообщества (ассоциации), обладающие выраженным игровым началом.
Итак, заключает И. Хейзинга, "мы можем теперь назвать игру свободной
деятельностью, которая осознается как "невзаправду" и вне повседневной
жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играю-
щим, не преследует при этом никакого прямого метафизического интереса,
не ищет пользы, - свободной деятельности, которая совершается внутри на-
меренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по
определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки,
предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие
от прочего мира всевозможной маскировкой"
28
.
Игра характеризуется особым состоянием отрешенности и вооду-
шевления. Превосходное художественное отображение этого состояния
вы можете найти в книге немецкого писателя Германа Гессе "Игра в
бисер". Герой ее Йозеф Кнехт довел до совершенства правила игры,
слил с ней свою жизнь. Собственно, игра для него и стала жизнью, оп-
ределив своими нерушимыми правилами весь образ его существования.
Тем, кто еще не прочел эту книгу, настоятельно рекомендую ее: кроме
эстетического удовольствия вы получите зримое представление о том,
что понимат Хейзинга под игрой.
В концепции Й. Хейзинги игра - абсолютная категория, своеобраз-
ная культурно-историческая универсалия, имеющая фундаментальное
значение для понимания всей истории человечества, в особенности его
культуры. Ибо, по убеждению нидерландского мыслителя, вся культура
является игровой. Все, что делает человек, - это игра и маскарад
(вспомните произведшее неизгладимое впечатление на семилетнего
27
Там же. С. 19.
28
Там же. С. 24.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хейзинги
157
мальчика маскарадное шествие гронингенских студентов). Игра старше
и шире культуры, сопровождая и насквозь пронизывая ее.
Книга заполнена суждениями типа: "Состязание тоже игра", "Судеб-
ный процесс как состязание", "Правосудие в форме игры", "Упорядо-
ченная борьба (война. - Б.М.) есть игра", "Игра в рыцарство", "Поэзия
родилась в игре", "Поэтический язык есть язык игры", "Все поэтические
формы есть формы игровые", "Философия есть игра молодости", "Игро-
вые формы искусства", "Игровой элемент культуры Ренессанса", "Игро-
вое содержание барокко", "Игровой фактор в политике XVII в.", "Сен-
тиментализм серьезен, и все же это игра" и т.д. и т.п.
Однако, констатирует Й. Хейзинга, уже в XVIII в. в европейском общест-
ве явственно проявляются антиигровые тенденции. Его духом стали завладе-
вать трезвое, прозаическое понятие пользы и идеал буржуазного благополу-
чия. Эти тенденции усилились в конце столетия благодаря промышленному
перевороту с его постоянно растущей технической эффективностью. Европа
пишет ученый, надевает рабочее платье, оставляя все меньше места игровой
функции как фактору культурного развития. В еще большей степени это от-
носится к XIX в., почти во всех проявлениях культуры которого, резюмирует
Хейзинга, "игровой фактор отступает далеко на задний план. Как духовная,
так и материальная организация общества препятствовали заметному воздей-
ствию этого фактора... Идеалы труда, образования и демократии теперь едва
оставляли место для вечного принципа игры"" .
Доминантами культурного процесса становятся общественная поль-
за, тяга к образованию и научное суждение. Следствием явилось "по-
стыдное заблуждение, что экономические силы и экономический инте-
рес определяют ход истории и управляют им"
30
. Отсюда проистекало
осуждение Хейзингой XIX века, почти все великие течения мысли кото-
рого, включая либерализм и социализм, были направлены против игро-
вого фактора в жизни общества.
Но еще опаснее для культуры порча игрьг, явление, которое И. Хей-
зинга определяет понятием "пуерилизм" (от лат puer - ребенок, маль-
чик). Это, поясняет он, "состояние духа незрелого юнца, не связанное
воспитанием, формой и традицией", которое "в каждой области тщится
получить перевес и слишком хорошо в этом преуспевает"" .
Порча игры всегда имела место, но кульминация ее приходится на XX в.,
когда культура утрачивает игровой элемент. "Современная культура, - пишет
29
Там же. С 219.
30
Там же. С 216.
31
Там же. С. 231-232.
158
История исторической мысли XXвека
И. Хейзинга, - едва ли еще играется; там же, где кажется, чтс она играет, игра
эта фальшива"
32
. Во всех случаях общественной жизни торжествует офици-
альный пуерилизм, худшим видом которого является суррогат, сознательно
или по наитию маскирующий свою антиигровую сущность видимостью эле-
ментов игры'
3
. Перечисляя различные его проявления, ученый с тревогой
видит в них приметы угрожающего разложения современного общества.
С особой тревогой Й. Хейзинга наблюдал искажение и порчу игры в
политике и военном деле, что, по его убеждению, угрожало самому суще-
ствованию европейской культуры. Ведь "подлинная культура не может
существовать без определенного игрового содержания... Нарушитель пра-
вил игры разрушает и самое культуру"
34
. В этом разрушении культуры он и
усматривал главное содержание глобального кризиса своего времени.
4. Кризис европейской культуры
в перспективе "трагического гуманизма"
Нота "трагического гуманизма" с большей или меньшей силой при-
сутствовала во всем творчестве Й. Хейзинги. Она звучала, как я пытался
показать, уже в "Осени средневековья". Еще раньше, в 1918 г. он с бес-
покойством указывал на деструктивное изменение в европейской куль-
туре "глобального исторического образа", в котором сместились акцен-
ты, появилась тяга к экономическому и экономическим структурам,
коллективному и чувству героизма, переживаемому не "Я-сознанием", а
так называемым "Мы-сознанием", Сознание кризисности своего време-
ни особенно усиливается после прихода немецких нацистов к власти,
доказавшего, по мнению Хейзинги, что подобное может случиться в
любой европейской стране. Расползание тоталитарных режимов по Ев-
ропе, угроза новой катастрофы, еще более ужасной, чем I Мировая вой-
на, прогрессирующая утрата культурой игрового содержания, порча
игры, утверждавшаяся во всех сферах общественно-политической жиз-
ни, - все это обусловливало тревожную тональность раздумий нидер-
ландского мыслителя о кризисе европейской культуры.
32
Там же. С. 233.
33
В качестве примера Й. Хейзинга приводит переименование местными вла-
стями в Курской области за недостачу в поставках зерна трех колхозов имени
Буденного, имени Крупской и "Красная нива" соответственно в "Лодырь", "Са-
ботажник" и "Бездельник". Другой пример официального пуерилизма в Совет-
ской России он усматривает в стремлении "заново окрестить крупные и старин-
ные города именами святых своего нынешнего календаря" (Там же. С. 232).
34
Там же. С. 238.
Лекция X. Историческая культурология Йохана Хейзинги
159
В наиболее систематизированном виде эти раздумья представлены в
трактате "В тени завтрашнего дня'
1
, имевшем примечательный подзаго-
ловок "Диагноз духовного недуга нашей эпохи". Впервые опубликован-
ный в 1935 г., он уже в 1939 г. вышел 7-м изданием, был переведен на 9
европейских языков - столь созвучным оказался сформулированный в
книге диагноз предвоенным тревогам европейской общественности.
Книге предпослано в качестве эпиграфа речение знаменитого средневе-
кового проповедника Бернарда Клервоского "У этого мира есть свои тем-
ные ночи, и их много", задающее определенный настрой всей книге, в осо-
бенности ее 1-й главе, озаглавленной "В ожидании катастрофы". "Повсюду,
- характеризует Й. Хейзинга общее состояние предвоенной Европы, - ца-
рит сомнение в прочности общественного устройства, внутри которого мы
живем, неясный страх перед ближайшим будущим, ощущение упадка
культуры и грозящей человечеству гибели... Мы воочию видим, как шата-
ется все то, что казалось прежде незыблемым и священным: истина и чело-
вечность, право и разум. Мы видим, как перестают функционировать госу-
дарственные институты, хиреют производственные системы"'".
На развалинах старой культуры возникает новый, враждебный человеку,
насыщенный ненавистью и взаимонепониманием мир. Й. Хейзинга находит
точные слова для его характеристики. Повсюду, пишет он, пышно цветут
иллюзии и заблуждения, как никогда прежде люди кажутся рабами слова,
лозунга, чтобы поражать ими своих противников наповал. Могущественнее,
чем раньше, стала глупость, она выше восседает на троне и злее вредит. По-
всюду распространяется безразличие к истине, достигающее кульминации в
открытом публичном восхвалении политического обмана. Происходит ирра-
ционализация и варваризация кульіуры, "когда познание начинает заволаки-
ваться магией и фантастикой, поднятыми чадной волной ярых инстинктов и
страстей. Вот когда миф теснит логос!"
3
''
А вот еще одно примечательное наблюдение. "С поступательным
движением культуры, - пишет Й. Хейзинга, - неудержимо девальвирует-
ся слово... Немедленная гласность, подстрекаемая меркантильным инте-
ресом и погоней за сенсацией раздувает простое несходство мнений до
масштабов общенационального бреда. Над всем миром висит облако сло-
весного мусора, как пары асфальта и бензина над нашими городами" .
Не буду приводить другие суждения Й. Хейзинги, обосновывавшие его
диагноз духовного нездоровья эпохи. Подчеркну главное: каким бы мрачным
Там же. С. 245.
Там же. С. 353.
Там же. С. 349.
