Панченко А.М., Живов В.М., Николаев С.И., Плюханова М.Б. и др. Из истории русской культуры. Том III (XVII - начало XVIII века)
Подождите немного. Документ загружается.


344 ________________ Г. Флоровский
Grabowsky, 1922. Th. Grabowsky. Z dzeojyw literatury unicko prawo-
slawnej w Polsce. P., 1922. Hofmann, 1927. G. Hofmann.
Patriarch Kyrillos Lukaris und die
Romische Kirche, Orientalia Christiana. XV. I, 1927. Hofmann,
s. a. G. Hofmann. Griechisch Patriarchen und Romische
Papste, Untersuchungen und Texte. II, I. Jablonowski, 1890-
1900. A. Jablonowski. Akademija Kijowsko-Mohy-
lan'ska. Krakow, 1890-1900. Jagic, 1917. V. Jagic. Zivot i rad
Jurja Krizanica. Zagreb, 1917
(Djela JAZU, 28). Jugie, 1909. M. Jugie. L'immacule
conception chez les Russes au
XVII s. // Echos d'Orient. XII. 1909. Kot, 1932. St. Kot.
Ideologia polityczna i spoleczna Braci Polskich zwa-
nych Aryanami. Варшава, 1932. Krasinsky, 1838-1840*. Valer
Kraslnsky. Hist. Sketch of the rise,
progress and decline of the Reformation in Poland. 1-2. London,
1838-1840. Kurbsky, 1928*. A. Kurbsky. Der neue Margaryt
untersucht und in
Auswahl ediert von F. Liewehr, Veroffentlichungen der slavist.
Arbeits-gemeinschaft der Deutschen Universitut in Prag. II. 2.
1928. Legrand, 1896. E. Legrand. Bibliographie Hellenique au
XVII s. T. IV,
1896. Lewicki, 1933. K. Lewicki. Ks. Konstanty Ostrozski a Unia
Brzeska
1596. Lwow, 1933.
Likowski, 1896. Ed. Likowski. Unia Brzeska. Poznan, 1896. Loofs,
1898*. Loofs. Die Ursprung des Conf. Orth. // Teol. Stud, u
Kritiken. 1898.
Lorts, 1931*. J. Lorts. Kard. Stan. Hosius, 1931. Lukaszewicz, 1835.
J. Lukasiewicz. О kosciolach braci czeskich w
dawney Polsce. 1835. Lukaszewicz, 1842—1843. J. Lukaszewicz.
Dzieje Koscioylow wyznania
Helweckiego w Litwie. 1-2, 1842-1843. Merczyng, 1911. H.
Merczyng. Polsky deisci wolnomysliciele za
Jagiellonow. Варшава, 1911. Merczyng, 1913. H. Merczyng.
Szymon Budny jako krytyk textow
biblijnych. Краков, 1913. Michalcesco, 1936. J. Michalcesco. Les
idees cabvinistes du patriarche
Cyrille Lucaris // Revue de 1'histoire de la philosophic et de la
religion, Strasbourg, 1936, 6 [Studii Teologici. Ill, I. Bucarest,
1932].
Palmer, 1873*. W. Palmer. The Tsar and the Patriarch. I-VI, 1873.
Panaitescu, 1926. P. Panaitescu. L'influence de 1'oeuvre de Pierre Mogi-
la // Melanges de 1'Ecole Roumaine en France. I, 1926.

Литература ______________________ 345
Pargoire, 1908-1909. J. Pargoire. Meletios Syrigos, sa vie et ses
oeuvres // Echos d'Orient. XI, 1908; XII, 1909. Pelesz, 1878-
1880. J. Pelesz. Geschichte des Unions der rutheinischen
Kirche mit Rom. Wien, 1-2, 1878-1880. Pierling, 1896. P.
Pierling. Un protagonist» du panslavisme au XVII-e
sicle // Revue des questions historique. 1896, I. Pierling, 1907.
P. Pierling. La Russie et le St. Siege. Ch. IV. Paris,
1907.
Salomon, 1932. P. Salomon. Paisius Ligarides // ZOG. V. I, 1932.
Sapinski, 1914. St. Sapinski. Badania zrodlowe nad kazanjama nied-
zielnemi i swiatecznemi Skargi. 1914. Slipyi, 1925. T. Slipyi. De
valore S. Thomae Aquinatis pro unione
ejusque influxu in theologiam ofientalem // Acta IV Conventus
Velehradensis. Olomucii, 1925. Sygariski, 1912*. J. Sygaiiski.
Dziatelnosd Ks. Piotra Skargi na tie jego
listow 1566-1619. Kr., 1912. Smurlo, 1926. E. Smurlo. Jurij
Krizanic (1618—1683), Pansiavista о
missionario? // Rivista di letteratura, arte, storia. Roma 1926,
3-4. Tretjak, 1912*. /. Tretjak. Piotr Skarga w dziejach i
literaturze unii
Brzeskiej. Kr., 1912.
Volker, 1930*. K. Volker. Kirchengeschichte Polens. B. L., 1930.
Zaleski, 1900-1901. St. Zaleski. Jezuici w Polsce. 2 t. Lwow, 1900-
1901. Zernow, 1935-1936. N. Zernow. Moscow, the third Rome
(три статьи)
// Church Quarterly Review. 1935 (July); 1936 (January, July).

В. Н. Топоров
МОСКОВСКИЕ ЛЮДИ XVII ВЕКА
(к злобе дня)
... видим, яко зима хощет быти, сердце оробело и
ноги задрожали.
(Аввакум)
Но и простой гражданин должен читать Историю.
Она мирит его с несовершенством видимого
порядка вещей, как с обыкновенным явлением
во всех веках, утешает в государственных
бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали
подобные, бывали еще ужаснейшие, и
Государство не разрушалось; она питает
нравственное чувство, и праведным судом своим
располагает душу к справедливости, которая
утверждает наше благо и согласие общества.
(Карамзин)
Через пять веков после освобождения от татарского ига
и через три века после того, как Московская Русь сошла с
исторической сцены, в наши дни, когда границы России ста-
ли удивительно напоминать очертания Московской Руси
между Столбовским миром и приобретениями, сделанными при
Алексее Михайловиче, и, более того, явно обнаруживается
тенденция к образованию «прорех» внутри пространства, к
которому, казалось, навеки приросло определение «россий-
ское», среди упадка, нестроений, бедствий и раздоров, имен-
но теперь необходимо увидеть и уяснить себе
то, на что не хватило ни времени, ни желания, ни мужества
духа в спокойные и благополучные два века — XVIII и XIX,
как раз и отделяющие нас, неблагополучных, от XVII в.
Удивляться этому не приходится: только тогда, когда опас-
ность подлинна и цена ей жизнь — человека ли, государ-
ства ли, — возникает возможность подлинного спасения.
А эта возможность не может осуществить себя, если не зада-
ны самому себе главные вопросы — о сути происходящего и
его смысле, о самом себе (кто мы?), о причинах и едином
приемлемом следствии их — пути, ведущем к спасению.

Московские люди XVII века 347
Сродство опасности и спасения на подлинной глубине
обнаруживает себя и в том, что и то и другое замкнуто на
одном и том же субъекте, более того, на том угрожаемом ги-
белью и находящемся внутри ситуации Я, которое не утра-
тило надежду на спасение. Поэтому поискам «внешних»
причин и «вредоносного» другого нужно предпочесть поиск
самого себя и внутренних причин поразившей нас жестокой
болезни. Необходимо увидеть это свое состояние не как слу-
чайность, не как неожиданное и роковое, от человека не за-
висящее сочетание их, но именно как не-об-ход-имостъ, — не
столько историческую, т.е. историей навязываемую, сколько
человеческую, из духовной ситуации человека вырастающую
и взывающую к самому человеку о ее решении. Болезнь надо
не обходить (уже поздно и бесполезно), не отбросить (не по-
лучится), но принять как не-об-ходимое, пережить ее (но не
переждать: болезнь может быть смертельной, и по идее в этих
обстоятельствах она именно такова), но пере-живая ее, ее же
из-житъ и, следовательно, из-жив, вы-житъ. Только при схож-
дении объекта изживания и субъекта выживания в одном
месте и в одно время может быть решена и задача спасения.
В состоянии над бездной человеку свойственно искать
опору, «утешение философией», которое, однако, позволяет
примириться и с гибельным исходом. Но есть и «утешение
историей»: его не ищут приготовившиеся к худшему, но
те, чья ставка — спасение. Обращение к истории в связи с
данным моментом, особенно к своей истории, подобно
взгляду на себя в зеркало. Даже не слишком ровное и чистое,
оно позволяет человеку увидеть в нем себя и в себе то, что
без зеркала видимо хуже, с трудом или даже вовсе невидимо.
У зеркала истории есть и еще одно преимущество: оно отра-
жает человека не только в его теперешних, этих обстоя-
тельствах, но и в тех будущих, которые возникают из тепе-
решних, продолжают их и завершают данную ситуацию,
понимаемую как нечто цельно-единое и законченное. Сколь
бы ни была разнообразна типология исторических ситуаций
и соответствующих структур, в ситуации подлинной опас-
ности, когда возникает задача подлинного спасения, выбор
типов весьма ограничен, и, не вдаваясь в тонкости, стбит го-
ворить или о гибели, или о спасении. Каждая гибель инди-
видуальна, в основе же спасения всегда некая единая духов-
ная конструкция. Распад многообразен, цветение однообраз-
но: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая

348
В.Н. Топоров
несчастная семья несчастлива по-своему». Разумеется, это
однообразие относится к самой основе, к ее последней глуби-
не, и достичь ее очень трудно, надо искать конкретные,
лишь в данной ситуации оправданные пути и способы, но
все-таки это решение задачи с известным ответом, и нужно
лишь выстроить путь между сегодняшней опасностью и
завтрашним спасением, и это в известной степени, иногда в
очень значительной, облегчает задачу. Поэтому пренебрегать
опытом рассмотрения отражений в «зеркале истории» по
меньшей мере неразумно, особенно в предельных ситуациях.
В заглавии этой заметки — два метонимических хода:
«Московские» люди, москвичи отсылают к Московской Руси,
к ее жителям, столица — к государству; «люди» же предпо-
лагают и страну, где они живут, и ее жителей, но и первое,
исходное имя (Москва, соответственно — москвичи), и вто-
рое, перенесенное (Московская Русь — ее население), не
отрицал одно другое, соотносятся друг с другом как некое
интенсивное ядро, центрирующее начало, обладающее вы-
сокой степенью «исторической» диагностичности, и проек-
тивное экстенсивное пространство, в котором идея центра
поддерживается, корректируется, иногда ограничивается —
вплоть до частичного, а изредка и полного ему противоре-
чия. В избранном здесь ракурсе и третий «термин» заглавия
втягивается в «метонимическое» поле: «XVII век» отсылает
к XX веку, и даже более — XVII век и есть то ближайшее
и обладающее наибольшей разрешающей силой «историче-
ское» зеркало, в котором можно искать и находить отраже-
ние нашей, XX века, духовной ситуации и многих ее кон-
кретных воплощений. Сказанное, конечно, не исключает
индивидуальности, оригинальности, иногда неповторимости
характеристик этих двух веков порознь, но это индивидуаль-
ное не ставит под сомнение то общее, что связывает XVII и
XX века: оба эти века — под знаком беды ив предощу-
щении возможного конца. Этим они и близки друг другу, и
поэтому человеку конца XX в. рефлектирующему над ходом
истории в России, небесполезно еще раз всмотреться в бур-
ный и напряженный XVII век, столь богатый проявлениями
злой воли, насилием, бедствиями, страданием.
Для людей XX века век XVII видится некиим последним
рубежом, очертания которого еще видны довольно ясно, а
все, что за его пределами, раньше, теряет свою многомер-
ность и тонет сначала в дымке, а потом заволакивается

Московские люди XVII века 349
густым туманом. Объем сведений о XVII веке и о Москве это-
го времени достаточно обширен, чтобы живо почувствовать
и «плоть», и «дух» эпохи и города и с относительно большим
вероятием говорить о тайном нерве тогдашней жизни. Сви-
детельства источников этого времени позволяют очень хоро-
шо и полно (по сравнению с XVI веком) представить себе
московскую топографию (во всяком случае, московские пла-
ны самого начала XVII века — Исаака Мааса, Сигизмундов,
Несвижский, Герритса и далее — разительно отличаются от
фантастического плана-рисунка Кремля и его окрестностей
в книге Герберштейна 1556 года), московский быт и обиход
(не только царского двора), имена многих и многих людей
из разных слоев общества, их жизнь, дела, даже их настрое-
ния, чувства, их характер. Нить, соединяющая Москву XX
века с веком XVII, почти никогда уже не прерывается, а там,
где ненадолго она исчезает из виду, она без особого труда вос-
станавливается.
Лишь панорамно можно обозначить здесь портрет XVII
века «под знаком беды». В 1601—1603 гг. — страшный го-
лод; 1603 гг. — бунт крестьян и холопов, предводительствуе-
мых Хлопком Косолапом; 1605—1606 гг. — поход Лжедмит-
рия, вступление его в Москву, восстание москвичей против
поляков, убийство Лжедмитрия; 1606—1607 гг. — восстание
Болотникова, подавление его и массовая расправа; 1607—
1612 гг. — вторжение Лжедмитрия II («Вора»), осада Моск-
вы тушинцами, восстание в Поволжье и Сибири, отложение
Пскова, начало шведской и польской интервенции, продол-
жавшихся соответственно до 1617 г. (Столбовский мир) и
1618 г. (Деулинское перемирие); свержение Шуйского, «семи-
боярщина», захват поляками Москвы, бой в Москве и ее ос-
вобождение; 1614-1615 гг. — крестьянские восстания; 1632—
1634 гг. — война с Речью Посполитой, волнения крестьян и
казаков; 1637—1642 гг. — напряженная ситуация вокруг
Азова, азовское «сидение»; 1648-1650 гг. — Соляной бунт в
Москве, бунты в Сольвычегодске, Устюге, Курске, Воронеже,
Чугуеве, восстания в Новгороде и Пскове; 1654-1667 гг. —
войны с Речью Посполитой; 1656—1659 гг. — война с Шве-
цией; 1659 г. — разгром московского войска под Конотопом;
1662 г. — Медный бунт; 1666 г. —«Разбойный» Собор, оформ-
ление раскола и продолжение преследований приверженцев
старой веры; 1668—1676 гг. — осада Соловецкого монастыря;
1670-1671 гг. — бунт Разина; 1682 г. — стрелецкий бунт в

350
В.Н. Топоров
Москве; 1687, 1689 гг. — неудачные походы против Крыма;
1695—1696 гг. — азовские походы; 1698 г. — второй стрелец-
кий мятеж и его кровавое подавление; 1700 г. — начало
Северной войны. И на фоне этого — присоединение, подчине-
ние, покорение народов от Поволжья (башкиры, калмыки) и
Сибири (кыргызы, буряты, дауры, эвенки, кеты, якуты и
др.) до Камчатки (камчадалы), военные авантюры вроде
попытки вторжения яицких казаков в Хорезм и т.п. Целый
век прошел почти в непрерывных войнах с внешним врагом,
частых и иногда весьма глубоких и кровавых внутренних
конфликтах, в смутах, сотрясавших государство и общество.
Внутреннее содержание XVII века, как всегда проницательно
и ярко, обрисовал Флоренский:
«Весь век проходит в крайнем напряжении и в беспокойстве, в
разноголосице, в пререканиях и спорах. Это был век народных мя-
тежей и восстаний... Но Смута была не только политическим кризи-
сом, и не только социальной катастрофой. Это было еще и душевное
потрясение, или нравственный перелом. В Смуте перерождается
сама народная психея. Из Смуты народ выходит изменившимся,
встревоженным и очень взволнованным, по-новому впечатлитель-
ным, очень недоверчивым, даже подозрительным. Это была недовер-
чивость от неуверенности. И эта душевная неуверенность или не-
устойчивость народа была много опаснее всех тех социальных и эко-
номических трудностей, в которых сразу растерялось правительство
первых Романовых... До сих пор еще принято изображать XVII век
в противоположении петровской эпохе, как «время дореформенное»,
как темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застой-
ное. В такой характеристике правды очень немного. Ибо XVII век
уже был веком преобразований... Да, еще многие живут в это время
по старине и обычаю. И у многих чувствуется даже обостренная по-
требность всю жизнь заковать или обратить в некий торжественный
обряд, освященный, если не священный. Однако еще свежа память
о разрухе. И старину приходится уже восстанавливать; и обычай
приходится соблюдать уже с большой находчивостью и рассуждени-
ем, точно прописи отвлеченного закона. В стиле Московского XVII
века всего меньше непосредственности и простоты. Все слишком
умышленно, надуманно, нарочито. О нерушимости отеческих устоев
резонировать, беспокоиться начинают обычно именно тогда, когда
быт рушится. И вот, в бытовом пафосе XVII века чувствуется скорее
эта запоздалая самозащита против начавшегося бытового распада,
некое упадочное «бегство в обряд», нежели непосредственная це-
лость и крепость быта. <...> Кажущийся застой XVII века не был
летаргией или анабиозом. Это было скорее лихорадочное забытье, с

Московские люди XVII века 351
кошмарами и видениями. Не спячка, скорее оторопь... Все сорвано,
сдвинуто с мест. И самая душа сместилась. Скитальческой и стран-
ной русская душа становится именно в Смуте... Совсем неверно го-
ворить о Московской замкнутости в XVII веке. Напротив, это был
век встреч и столкновений, с Западом и Востоком. Историческая
ткань русской жизни становится в это время как-то особенно запу-
танной и пестрой. И в этой ткани исследователь слишком часто от-
крывает совсем неожиданные нити... Кончается этот испуганный век
апокалиптической судорогой, страшным приступом апокалиптиче-
ского изуверства. Вдруг показалось: а не стал ли уже и Третий Рим
царством диавольским, в свой черед... В этом сомнении и в этой за-
гадке исход и тупик Московского царства. Надрыв и душевное са-
моубийство. «Иного отступления уже не будет, зде бо бысть послед-
няя Русь»... В бегах и в нетях, вот исход XVII века. Был и более
жгучий исход: «древян гроб сосновый», —гарь и сруб...»
Как бы ни определять хронологические границы XVII ве-
ка в историософской перспективе (собственно хронологически
он аккуратно укладывается в сто лет от конца династии, за
которым последовала Смута, до стрелецкой замятии и рас-
правы, заключительного удара по Москве и Московской Ру-
си; еще точнее укладывается в свои формальные рамки XVII
век в позднейшем мифологизированном предании хлыстов:
«Господь Саваоф», «верховный гость» Данила Филиппович в
Васильев день 1 января 1700 г., когда ему было ровно сто
лет, после долгого радения, на глазах у всех собравшихся в
Новом Иерусалиме, возносится на небо, как бы открывая
Новый год), и какие бы ни возникали соблазны аналогий с
подлинными «началом» и «концом» нашего века, — нельзя
пройти и мимо того более широкого контекста, в который
XVII век органично входит и который его причинно (по
крайней мере на видимом и сознаваемом уровне) объясняет.
Опричнина, ее до тех пор неслыханные жестокости, сам ее
характер — всеобщий, а отнюдь не антибоярский, и противо-
естественный, нарушавший законы человеческие и природ-
ные, когдг. многие фамилии уничтожались «всеродне», нако-
нец, сам размах казней («Помяни, Господи, души раб своих
тысячу пятьсот пяти человек», — сказано в кирилловском
списке Синодика: исчезают бесследно целые роды, тонут в
забвении имена мучеников, и остается одна надежда на Все-
вышнего — «Ты, Господи, сам веси имена их»), — все это не
могло пройти даром, не могло не отложиться в исторической
памяти, не могло не оскорбить, деформировать, потрясти
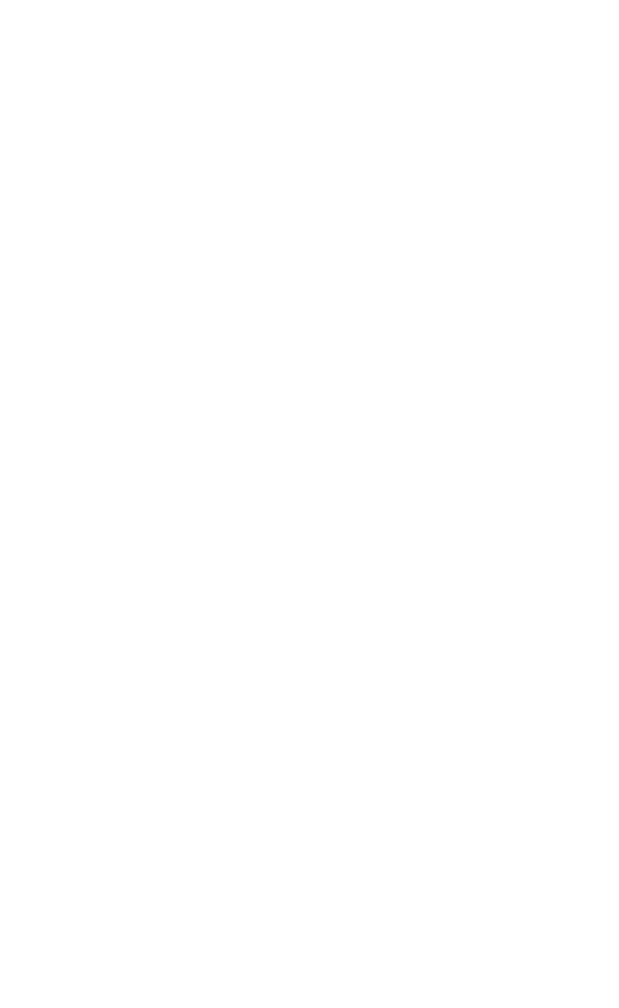
352 В. Я. Топоров
нравственное чувство народа. Сознавали или не сознавали
московские люди XVII века роль этой крови, так пролитой,
в их собственных бедах, но именно она кроваво «связала двух
столетий позвонки», по слову поэта, относящемуся к другому
примеру подобной кровавой связи. Убийство царевича Димит-
рия поставило еще один страшный акцент в развертываю-
щейся нравственной трагедии русского человека, и Смута
выступает в народном сознании как следствие этого преступ-
ления. Опричнина и убиение невинного мальчика царского
рода, пресекшее, как скоро выяснилось, многовековую динас-
тию, были теми «видимыми» и сознаваемыми достаточно
широко событиями предыдущего столетия, которыми были
посеяны ядовитые семена насилия и попрания нравственного
закона, и плоды этого сева отравили до основания следую-
щий век.
Глубина падения, иногда даже «необходимость» его и об-
реченность на него сознавались и теми, кто испытывал боль,
видя распад основ нравственной жизни и помрачение духа,
и теми, кто сам, не свободный от помрачения, спешил вы-
сказать все до конца. Если люди со стороны, например ино-
странцы, писавшие о Московской Руси, нередко строго, но
чаще всего все-таки справедливо судили о пороках и недо-
статках «крещеных медведей» (по Лейбницу), обычно не до-
ходя до инвектив, подобных Лжедмитриевым («Вы считаете
себя самым праведным народом в мире, а вы — развратны,
злобны, мало любите ближнего и не расположены делать доб-
ро», — говорил он в лицо москвичам), то другие или видели
в этом некое исконное и постоянное состояние, более того,
предназначенность порче и злу, как Котошихин («И искони
в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои: аще
человек хотя мало приидет в славу и честь и в богатство, [не]
возненавидети не могут»), или помещали все эти грехи и на-
казания в некую широкую, иногда эсхатологическую перс-
пективу, — более или менее общую и традиционную, к на-
чалу татарского ига восходящую, как в случае «Сказания»
Авраамия Палицына («...киих ради грех попусти Господь
Бог наш праведное свое наказание и от конец до конец всея
Росия, и како весь словенский язык возмутися и вся места
по Росии огнем и мечем поядены быша»), или индивидуаль-
но-личную и конкретную, как у Аввакума. Схваченного про-
топопа везут ночью «на У грешу к Николе в монастырь» —

Московские люди XVII века 353
«И бороду враги Божий отрезали у меня. Чему быть? волки то
есть, не жалеют овец! оборвали, что собаки, один хохол оставили,
что у поляка на лбу. Везли не дорогою в монастырь — болотами да
грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать
от дурна не хотят: омрачил дьявол, —что на них пенять! Не им бы-
ло, а быть же было иным; писанное время пришло по Евангелию:
4нужда соблазнам прийти». А другой глаголет евангелист: «невоз-
можно соблазнам не прийти, но горе тому, им же приходит соб-
лазн». Виждь, слышателю: необходимая наша беда, невоз-
можно миновать! Сего ради соблазны попущает Бог, да же избра-
ни будут, да же разжегутся, да же убедятся, да же искуснии
явлении будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да
же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал,
и нам то любо—Христа ради, нашего света, пострадать!»
XVII век развертывает перед нами длинную и яркую вере-
ницу своих героев — обыватели, горожане, крестьяне, холопы,
служилый люд, военные люди, духовенство, самозванцы,
«избавители», «подмененные» цари; люди духа, святые, про-
роки, юродивые, искатели правды, мученики, самосожжен-
цы, но и мучители, палачи, разбойники, убийцы-душегубы,
грешники и лгуны, завистники, интриганы, пьяницы, сквер-
нословы, развратники и блудницы, приверженцы содомского
греха, корыстолюбцы. Во многих из них угадывается нечто
знакомое, и возникает соблазн слишком полного соотнесения
дня нынешнего с днем XVII столетия. Но все они — и правед-
ники и грешники, и мученики и мучители — жертвы, и все
они страдают — от голода и от холода, от «желез», кнута,
побоев, огненного пламени, от оскорблений и унижений, от
сознания греха и от своеволия, от той общей жестокости, ко-
торую попустил Господь за грехи людей и в которой к чело-
веческому насилию нередко присоединяется и отвернувшаяся
от человека и замкнувшаяся в себе природа. Увидеть этих
«московских людей» глазами их современников, услышать
их голоса или голоса тех современников, которые слышали
их, поучительно, душеполезно, назидательно. Уроки, извле-
каемые из прошлого, этим прошлым не ограничиваются и
возвращают нас к злобе дня нынешнего, и само понятие
«Смуты» уже три четверти века как оторвалось от той давней
истории и стало важнейшим элементом панхронической па-
радигмы русской беды. Синхронно развивающуюся «вторую»
Смуту, с конца 17-го года, Волошин увидел ее в образах
«первой» Смуты («Пути России», 1917—1918 гг.).
12- 715
