Севостьянов Г.Н. История США Том 3
Подождите немного. Документ загружается.

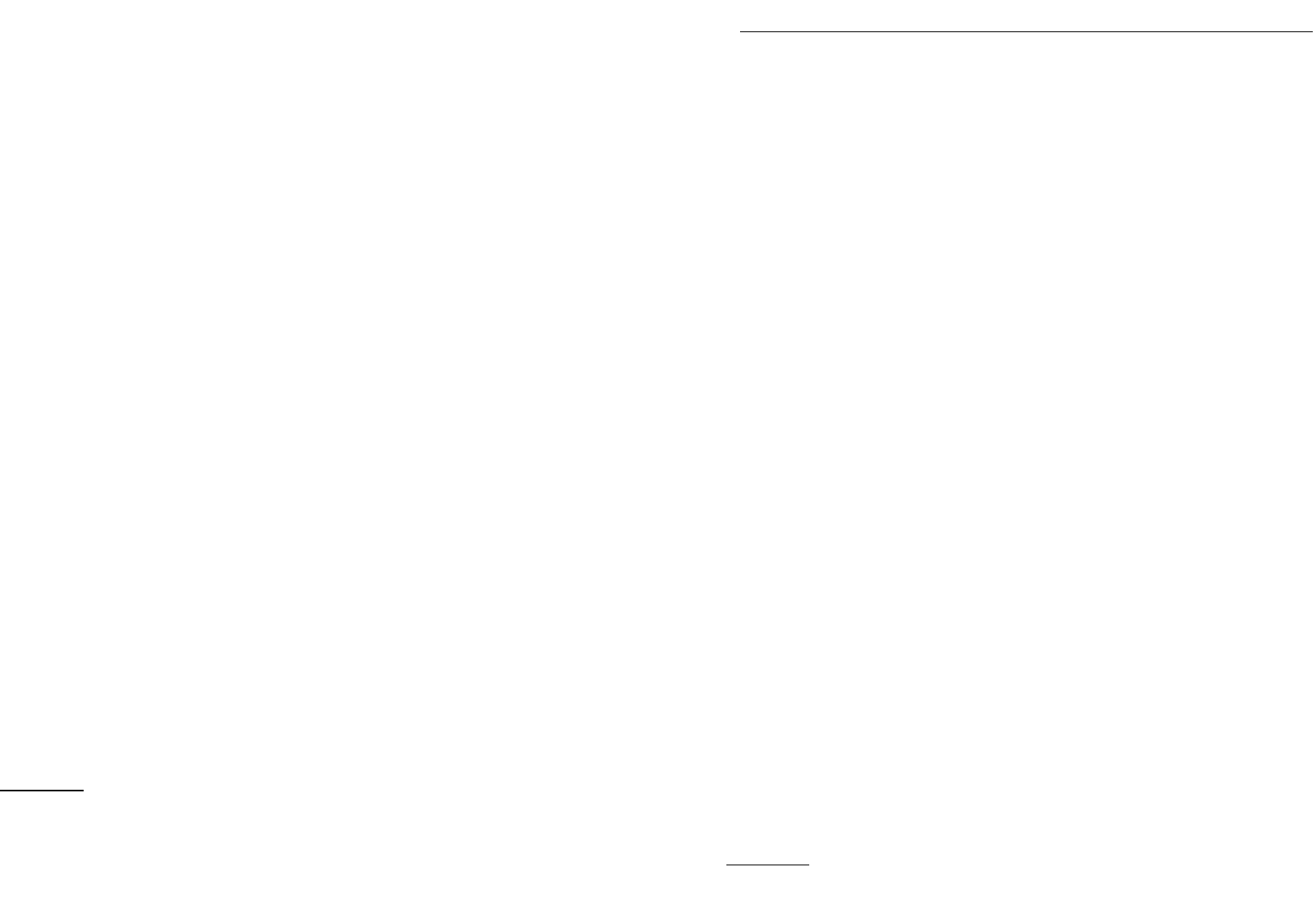
цы — в наши». Многие полагали, что своим нейтралитетом США будут
содействовать локализации назревавших конфликтов. Были и такие, кто
надеялся просто отгородиться от внешнего мира. Большинство сходи-
лось на том, что американский нейтралитет явится позитивным фактором
в международных отношениях. К лету 1935 г., после введения в гитле-
ровской Германии в нарушение Версальского договора всеобщей воинской
повинности и открытой подготовки фашистской Италии к нападению на
Эфиопию, дискуссия вокруг нейтралитета усилилась. В конгресс было
внесено до двух десятков законопроектов о нейтралитете, которые пре-
дусматривали то или иное ограничение экспорта американского оружия в
воюющие страны. Среди них были и упомянутые резолюции, внесенные в
мае-апреле в сенат членами комиссии Ная (аналогичные предложения
вносились в палату представителей).
Как при принятии закона о нейтралитете в 1935 г., так и в после-
дующем конгрессмены — члены палаты представителей и особенно сена-
торы были склонны противодействовать правительству в рамках тради-
ционного для американской политической системы соперничества между
исполнительной и законодательной органами власти за контроль над
внешней политикой. В годы президентства Рузвельта это соперничество
получило выражение в борьбе между интернационалистским правитель-
ством и изоляционистским конгрессом, прежде всего сенатом, в котором
для одобрения международных договоров требуется большинство в
2
/з
голосов. Следует подчеркнуть, что борьба в правящих кругах не затра-
гивала стратегических, долгосрочных целей внешней политики США,
заключавшихся в стремлении обеспечить собственное возвышение в мире.
В этом плане и следует рассматривать различные проявления «двухпар-
тийной» внешней политики, т. е. практики сотрудничества преимущест-
венно изоляционистской республиканской партии с преимущественно ин-
тернационалистской демократической партией.
Еще одной причиной, побуждавшей правительство и конгресс действо-
вать сообща, были серьезнейшие внутренние социально-экономические
потрясения. Их сотрудничество, четко прослеживаемое в 1933—1934 гг.,
ослабело с некоторым полевением «нового курса» с 1935 г., но стало
укрепляться по мере роста угрозы интересам США со стороны Германии
и Японии, соединившихся в агрессивном фашистско-милитаристском блоке.
Первая сессия 74-го конгресса, принявшая к концу своей работы за-
конопроект о нейтралитете, была весьма напряженной. Именно этот со-
став конгресса одобрил такие важнейшие законы «нового курса», как
закон Вагнера, закон о социального обеспечении и другие, принятые под
давлением снизу. Нерешенность все еще острых внутренних проблем
страны укрепляла президента во мнении, что поиски путей их решения
должны оставаться на первом месте. Сторонники принятия законодатель-
ства о нейтралитете в конгрессе стали проявлять активность начиная с
весны 1935 г. Госдепартамент готовил свой законопроект о нейтралитете,
основанный на идеях бывшего помощника министра юстиции США
Ч. Уоррена, в обязанности которого в годы первой мировой войны вхо-
дило наблюдение за выполнением американских законов о нейтралите-
те
58
. Ссылаясь на неотвратимость нарушений нейтральных прав США
58 Warren Ch. В. Troubles of a Neutral.—Foreign Affairs, 1934, Apr., p. 377—394
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
в случае войны между другими странами, Уоррен, подобно
изоляционистам, предлагал свести до минимума внешнеэкономические
связи.
До летних каникул конгресса оставалось всего несколько дней, когда
Най и члены его комиссии, используя тревожные сообщения о близости
итало-эфиопской войны, потребовали срочного принятия законодательст-
ва о нейтралитете. В случае отказа они угрожали, что своим флибусть-
ерством (обструкцией) затянут сессию конгресса. Демократы, располагав-
шие большинством в обеих палатах, и не думали сопротивляться. Их
уступчивость объяснялась тем, что правительство, в котором не было
единства в подходе к законодательству о нейтралитете, добровольно ог-
дало инициативу изоляционистам. Президент Рузвельт и государственный
секретарь Хэлл, предпочитавшие дискреционное законодательство, т. е.
такое, которое можно было применить против одной из воюющих сторон,
не проявили никакой активности, чтобы добиться этого. В частности,
они отвергли предложение специально прибывших в Вашингтон предста-
вителей антивоенного движения открыто заявить о готовности применить
эмбарго против агрессора
59
.
Доводы изоляционистов находили отклик в стране. Требование устра-
нить причины, по которым монополии оказались заинтересованными в
торговле с воюющими странами в первой мировой войне, пользовалось
широкой популярностью. В итоге изоляционисты не встретили сильной
оппозиции, как они того опасались.
20 августа сенатор Дж. Най, а также сенаторы-республиканцы Дж.
Норрис и Р. Лафоллетт выступили в конгрессе с длинными речами о
близости войны в Европе и необходимости американского нейтралитета.
Изоляционисты добивались, чтобы резолюция сената о нейтралитете
предусматривала применение в случае войны мандатного (обязательного)
эмбарго на экспорт оружия из США, а также запрещения плавания аме-
риканцев на судах воюющих стран.
На следующий день резолюция была принята сенатом почти без де-
батов и без всяких возражений
60
. К упомянутым двум положениям было
добавлено третье — об учреждении особого органа для надзора над экс-
портом оружия из США. Основным в принятой сенатом резолюции было
отстаиваемое изоляционистами положение о «мандатном» эмбарго, кото-
рое не проводило различия между воюющими сторонами, что могло при-
вести к ситуации, когда его применение оказалось бы в противоречии с
интересами самих США. Поэтому правительство Ф. Рузвельта не хотело
бы ограничивать себя специальным законодательством, но не было го-
тово бороться за дискреционное эмбарго. И Рузвельт, и Хэлл склонялись
к отсрочке принятия какого-либо решения до начала следующей сессии
конгресса в январе 1936 г.
Неожиданное для правительства принятие сенатом изоляционистской
резолюции о нейтралитете изменило положение. Интернационалисты в
правительстве и конгрессе оказались перед выбором: либо выступить
открыто за дискреционное эмбарго, чего они избегали до этого, либо ис-
кать компромисса с изоляционистами. Они избрали второе. Рузвельт со-
гласился с сенатской резолюцией при условии ограничения действия по-
ложения об эмбарго шестью месяцами. С этой поправкой резолюция была
59
Di vi ne R . A. Il lu si on of Neutrality. C hi ca go , 19 62, p. 10 7— 11 1.
60 Co ngres sio nal R eco rd, v ol. 79 , p t 13, p. 13 956.
297

298
II. КРИЗИС. «НОВЫЙ КУРС»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
299

принята палатой представителей 23 августа при полном единодушии кон-
грессменов. На следующий день измененную резолюцию одобрил и сенат
(при двух против). Хотя интернационалисты и добились ограничения
срока действия положения об эмбарго, его принятием был установлен
прецедент, что имело гораздо большее значение.
Пороки законодательства о нейтралитете, ставящего в неравное по-
ложение жертву агрессии, были очевидны даже для принимавших его
законодателей. Член палаты представителей республиканец Дж. Уод-
сворт охарактеризовал принятие законопроекта как «явное приглашение
великой и могущественной державы напасть на слабую...». Сенатор-рес-
публиканец X. Джонсон признал, что нейтралитет не является гарантией
неучастия США в войне, назвав его принятие конгрессом «триумфом
для так называемых изоляционистов» и «ниспровержением интернацио-
налистов». Сенатор-демократ Т. Коннэлли заявил, что отныне «провоз-
глашается, что Соединенные Штаты будут на стороне сильного и могу-
щественного против слабого, неподготовленного и беззащитного»
61
.
Тем более понятна тревога, охватившая передовую часть обществен-
ности. 27 августа лидеры основных антивоенных организаций направили
Рузвельту телеграмму, призывая того заявить, что законодательство о
нейтралитете не отразится на американской решимости защитить Пакт
против войны 1928 г. Это обращение отражало понимание, что подлин-
ный путь к миру лежит через его активную защиту, через участие США
в системе коллективной безопасности.
31 августа 1935 г. Рузвельт подписал закон о нейтралитете, признав,
что его «негибкие положения могут вовлечь нас в войну, вместо того
чтобы удержать от нее»
62
. Однако сомнения президента не означали, что
он не одобрял «общую цель» нового законодательства
63
. По крайней
мере до середины 1937 г. Рузвельт считал его вполне приемлемым.
Главной в законе была статья 1. Она предусматривала, что «с нача-
лом войны между двумя или более государствами или в ходе ее пре-
зидент объявляет об этом факте, после чего запрещается экспорт оружия,
боеприпасов или военного снаряжения из любого пункта в Соединенных
Штатах или их владений в любой порт воюющих государств или в лю-
бой нейтральный порт для транспортировки в воюющее государство или
для его использования»
64
За нарушение эмбарго на экспорт американ-
ского вооружения в воюющие страны предусматривался штраф до 10 тыс.
долл. или тюремное заключение до пяти лет, или и то и другое одновре-
менно.
Другие статьи закона запрещали перевозку оружия для воюющих
стран на американских судах, предусматривали учреждение Националь-
ного совета по контролю над производством и торговлей оружием (с си-
стемой регистрации и лицензирования). Американские граждане могли
плавать на судах воюющих стран только на собственный страх и риск.
За президентом было оставлено право вводить в силу закон о нейтра-
литете. Кроме того, ограничение действия статьи об эмбарго на экспорт
оружия шестью месяцами придавало всему законодательству временный
характер, оставляя правительству возможности для маневрирования.
61 Ibid., p. 14358, 14430, 14433.
62
Pea ce an d W a r, p. 272 .
63
hanger W. L., Gleason S. E. The Challenge to Isolation, p. 16.
64 Neutralit y Law s / Com pl. E. A. Lewi s. W as h. , 1951, p. 1 .
Однако в последующем закон о нейтралитете был продлен, затем рас-
ширен, а еще позже превращен в постоянный. Это говорит о том, что
предвоенный американский нейтралитет вполне отвечал двум давним вза-
имосвязанным целям империалистической внешней политики США: со-
хранить за собой «свободу рук» при принятии окончательных решений
и способствовать созданию таких условий, при которых им был бы обе-
спечен решающий голос при любом «урегулировании».
Нейтралитет, публично провозглашенный в момент, когда существова-
ла реальная возможность общими усилиями государств остановить начав-
шееся широкое наступление агрессоров, означал отказ правящих кру-
гов США от международного сотрудничества во имя мира. Более того,
законы о нейтралитете, признается в американской историографии, «спо-
собствовали тому, чтобы сделать войну еще более неизбежной. Руково-
дители стран «оси», люди, не отличавшиеся осторожностью и благоразу-
мием, без труда убедили себя, что Соединенные Штаты останутся в сто-
роне в то время, как они будут перекраивать карты Европы и
Азии»
65
. Таким образом, американский нейтралитет прямо содействовал
развязыванию мировой войны фашизмом.
Империалистическая сущность политики нейтралитета США со всей
очевидностью проявилась во время итало-эфиопской войны. Итальян-
ский агрессор, напавший 3 октября 1935 г. на беззащитную африканскую
страну, войны не объявлял. Но уже через два дня США ввели в дейст-
вие закон о нейтралитете
66
. Два года спустя, во время японо-китайской
войны, которая тоже не была официально объявлена, США, используя
этот формально-юридический момент, отказались от применения этого
закона. Отсюда видно, что законодательство о нейтралитете применялось
как средство для достижения собственных, корыстных целей США.
Из великих держав только Советский Союз занимал позицию не-
примиримого отношения к итальянской агрессии. Еще до ее начала пред-
ставитель СССР в Лиге наций настаивал на том, чтобы «не останавли-
ваться ни перед какими усилиями и средствами» для предотвращения аг-
рессии
67
. Когда же война стала свершившимся фактом, Советский
Союз последовательно выступал за самые строгие и полные всеобщие
санкции против агрессора. Советское правительство исходило из того,
что эффективное противодействие итальянскому агрессору не только спас-
ло бы его жертву, но и послужило бы серьезным предостережением для
других потенциальных агрессоров
68
.
Однако Англия и Франция, которых, казалось бы, итальянская эк-
спансия в Африке особенно задевала, предпочли прибегнуть к «умиро-
творению» Италии (соглашение Хора—Лаваля от 8 декабря 1935 г.), чем
надеялись не только отвести от себя угрозу войны, удовлетворив притя-
зания агрессора за счет Эфиопии, но и спасти режим Муссолини, кото-
рый мог пасть в случае итальянского поражения. Подрыв неустойчивого
европейского равновесия повышал вес и значение позиции США, чье
65
Ad ler S. Th e I so latio nist Impulse. I t's Twent ie th Cen tu ry Re ac tio n. N. Y., 1957,
p. 265.
66 P eace an d War, p . 283 .
67
ДВП СССР, т. 18, с. 496.
68
Сип олс В. Я. Вн ешняя по лит ика Со ветского Сою за, 193 3—19 35. М., 1980 , с. 36 7—
376.

300
II. КРИЗИС. «НОВЫЙ КУРС»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
301

влияние могло побудить к действиям французских и английских руково-
дителей.
Но провозглашением нейтралитета США «умыли руки» в самый от-
ветственный момент, и это было к очевидной выгоде агрессора
69
.
Американский нейтралитет укрепил позицию Италии и ослабил ее про-
тивников, а также Лигу наций. Еще одним следствием политики США
было то, что они на весь предвоенный период связали свой «нейтралитет»
с англо-французским «невмешательством». Этот общий курс трех круп-
нейших западных держав, вошедший в историю как «мюнхенский», во
многом предопределил провал попыток остановить агрессоров.
После итальянского нападения на Эфиопию члены Лиги наций по-
становили ввести против Италии экономические санкции в соответствии
со статьей XVI Устава этой организации. Однако перечень товаров, за-
прещенных для продажи Италии, не включал нефти — основного страте-
гического материала, в котором больше всего нуждался агрессор. Судьба
санкций во многом зависела от позиции США — в то время главного в
мире поставщика нефти. Между тем продажа Италии американской неф-
ти и других стратегических материалов (меди, железного лома, грузовиков,
тракторов) не только не уменьшилась, но даже возросла. Только за
11 месяцев 1935 г. экспорт американской нефти в африканские колонии
Италии увеличился в с тоимостном выражении с 4,5 тыс. до
672 тыс. долл.
70
Поставки продолжались, несмотря на «моральное эмбар-
го» правительства, призвавшего предпринимателей не расширять торгов-
лю с воюющими сторонами.
Позиция западных держав во главе с Великобританией и Францией
предопределила конечную неудачу санкций Лиги наций. Как и во время
захвата Японией Маньчжурии, была упущена возможность коллективных
действий против агрессора. Крайне отрицательную роль в этом сыграла
и политика нейтралитета США, означавшая фактическое содействие
итальянской агрессии. Все это свидетельствовало о том, что в середине
30-х годов идея коллективной безопасности не имела необходимой под-
держки со стороны правящих кругов США.
Продолжавшаяся в правящих кругах борьба между интернационали-
стами и изоляционистами за определение внешнеполитического курса,
главной ареной которой был конгресс, свидетельствовала, что и те и дру-
гие преследовали общую цель — обеспечение наилучших условий для
расширения американских позиций в мире. Расходились же они в спо-
собах и методах достижения этой цели. Интернационалистами, помимо
Рузвельта, были члены его кабинета Г. Моргентау и Г. Икес, чиновники
госдепартамента Дж. Мессерсмит, Н. Дэвис, Г. Фейс, послы Дж. Дэвис,
У. Додд, К. Бауэрc, бывший госсекретарь республиканец Г. Стимсон и
др. Государственный секретарь Хэлл, также считавшийся интернациона-
листом, проявлял частые колебания. Среди конгрессменов-интернацио-
налистов не было ярких фигур. В сенате их номинально возглавлял
председатель комиссии сената по внешним сношениям в 1933—1940 гг.
К. Питтмэн (демократ, штат Невада), политик, «предпочитавший манев-
рирование и манипуляции фронтальным атакам»
71
. Интернационалиста-
69
В о б л и к о в Д . Р . Э ф и о п и я в б о р ь б е з а с о х р а н е н и е н е з а в и с и м о с т ж , 1 8 6 0 — 1 9 6 0 . М . ,
1961, с. 72—73.
70
Natio n, 19 36, F eb r. 19 , p. 20 6.
71Mississippi Valley Historical Review, 1960, Mar., p. 646.
ми были члены комитета по внешним сношениям сенаторы-демократы
Дж. Робинсон, Т. Коннэлли, Р. Вагнер. В палате представителей роль ли-
дера интернационалистов принадлежала председателю комитета по иност-
ранным делам демократу С. Макрейнолдсу.
Изоляционисты, занимавшие сильные позиции в госдепартаменте
(Р. Мур, Дж. Моффат и др.), наибольшую активность проявляли в конг-
рессе. Из двух изоляционистских группировок в сенате одну возглавляли
У. Бора и X. Джонсон, старейшие и влиятельные сенаторы, принадле-
жавшие к левому крылу республиканской партии. Группа Бора—Джон-
сона, считавшая Европу неизлечимо больной, призывала сконцентрировать
внимание на внутренних американских проблемах. Она не отказы-
валась от защиты международных позиций США, но считала необходи-
мым использовать для этого статус нейтрального государства, чтобы
избежать вовлечения в войну. Другую группу возглавляли сенаторы-рес-
публиканцы Дж. Най, А. Ванденберг и сенатор-демократ Б. Кларк, ко-
торые разделяли мнение о нецелесообразности активного участия в евро-
пейских делах и о невовлечении в войну. Но если первая группа настаи-
вала на сохранении за США всех прав нейтрала в случае войны между
другими странами, в особенности в вопросе внешней торговли, то вторая
готова была отказаться от этих прав. В палате представителей изоляцио-
нистами были демократ М. Маверик, республиканец Г. Фиш и некоторые
другие.
В лагери изоляционистов и их противников — интернационалистов
вне стен конгресса входили разнородные силы. К изоляционистам отно-
сились «экономические националисты» (Р. Моли), «континенталисты»
(историк Ч. Бирд, публицист X. Грэттен, экономист С. Чейз), антиимпе-
риалисты (писатель Т. Драйзер, социалист Н. Томас), пацифисты
(А. Дж. Маcт, Ф. Либби), нейтралисты (юрист Дж. Мур, часть профсо-
юзных деятелей, редакторы либерального журнала «Нью рипаблик»),
консерваторы (бывший президент США Г. Гувер, полковник Ч. Линдберг,
газетный магнат У. Р. Херст). Понятно, что столь разные социальные
элементы не могли быть едины ни в организационном, ни в идейно-поли-
тическом плане. Даже в общие для них исходные изоляционистские
постулаты — «невовлечение» в дела Европы и неучастие в «иностранных»
войнах — они вкладывали неодинаковое содержание. Для искренних изо-
ляционистов, таких, как писатель Т. Драйзер, это были принципы, кото-
рые следовало положить в основу американской внешней политики. Для
реакционеров (Г. Гувер, У. Херст) изоляционизм был средством поощ-
рения агрессии фашизма и подготовки наилучших условий для американ-
ского вмешательства в «решающий момент».
Лагерь интернационалистов был не менее пестрым. Действительно,
что могло быть общего между коммунистами, интернационалистами в
прямом смысле этого слова, которые призывали к участию США в кол-
лективном отпоре фашизму, и «интернационалистами» типа из дате ля-
миллионера Г. Люса, считавшего активное участие США в международ-
ных делах, включая европейские, залогом успешной защиты интересов
монополий? В лучшем случае — одобрение тех антияпонских или анти-
германских акций правительства Рузвельта, которые были неизбежны в
условиях нарастания противоречий США с державами «оси». Такими ак-
циями можно считать дипломатическое признание СССР, публичное осуж-
дение фашизма Рузвельтом и либеральными членами его кабинета,

302
II. КРИЗИС. «НОВЫЙ КУРС»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
303
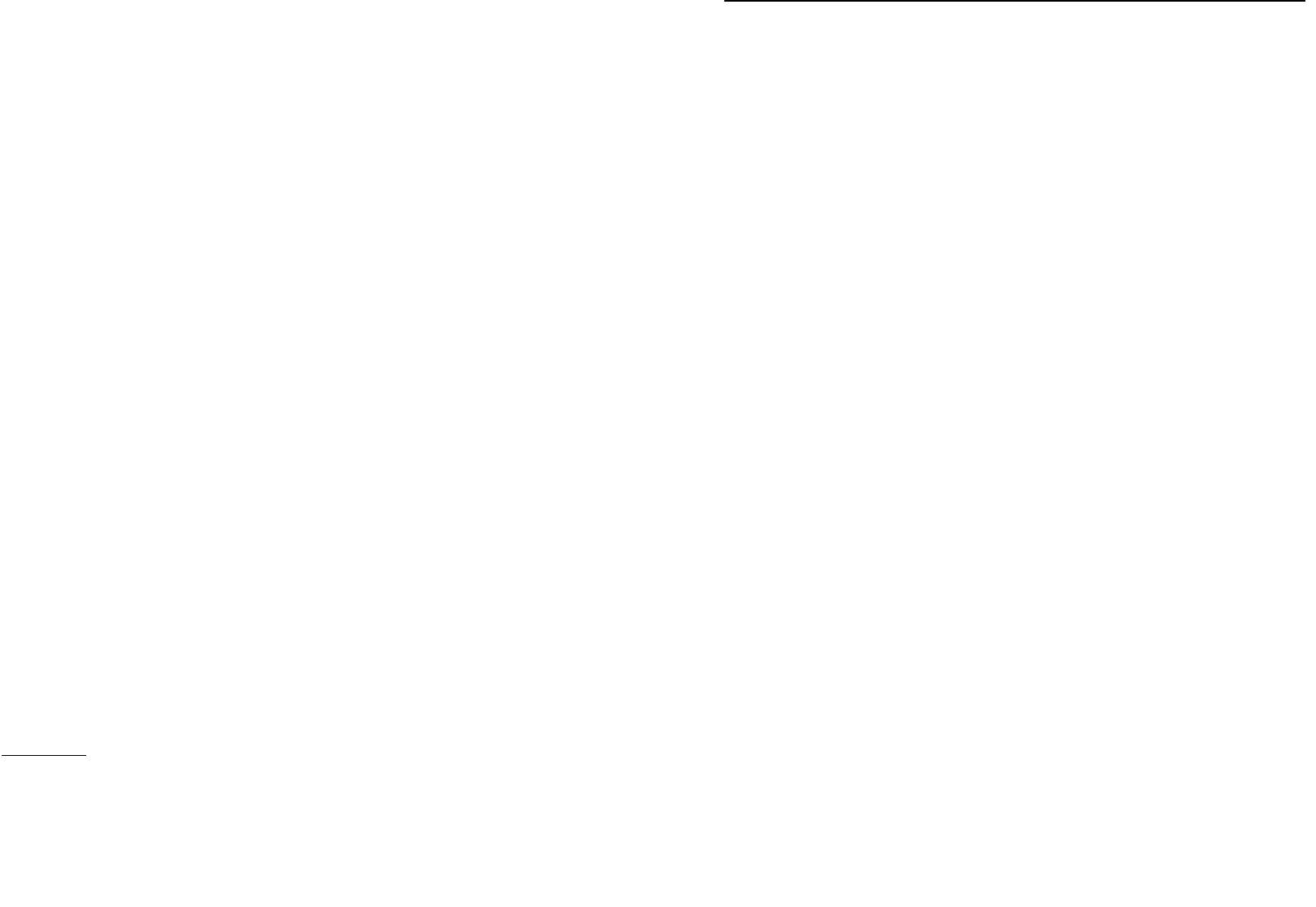
линию на ограничение торговли с гитлеровской Германией и т. п. Поми-
мо большей части антивоенного движения, за противодействие агрессорам
стояли многие представители профсоюзов, интеллигенции, часть деловых
кругов.
Однако правительство и не стремилось к проведению подлинно ин-
тернационалистской политики. Согласно программному заявлению Хэлла,
относящемуся к более позднему периоду, правительство желало «избе-
жать крайностей как интернационализма, так и изоляционизма... чтобы
служить нашим национальным интересам»
72
. США так и не смогли удов-
летворительно разрешить дилемму 30-х годов: отстаивать свои интересы
посредством международного сотрудничества или придерживаться изо-
ляции. Американский нейтралитет можно охарактеризовать как страте-
гию выжидания, способствовавшую развязыванию второй мировой вой-
ны и не отвечавшую подлинным национальным интересам США.
4. «УМИРОТВОРЕНИЕ» АГРЕССОРОВ
В феврале 1936 г., когда итальянская агрессия против Эфиопии еще
продолжалась, конгресс вновь рассматривал вопрос о нейтралитете. Это
было вызвано истечением 6-месячного срока действия эмбарго на экспорт
оружия. Правительство не проявило никакого стремления к отмене или
принципиальному изменению закона о нейтралитете, как того требовала
значительная часть общественности. Председатели комитетов по иност-
ранным делам палат конгресса К. Питтмэн и С. Макрейыолдс, через ко-
торых оно действовало, внесли соответственно в сенат и палату предста-
вителей идентичные резолюции с проектом нового закона. Такой билль,
писал К. Хэлл в мемуарах, «был основан на варианте, подготовленном в
государственном департаменте. В нем не делалось никакой попытки рас-
ширить дискреционную власть президента в применении эмбарго на ору-
жие»
73
. Единственное, что предлагало правительство,— это сохранение по-
ставок стратегического сырья в воюющие страны на уровне, достигнутом
перед войной. Такая позиция была на руку изоляционистам.
После непродолжительной борьбы в конгрессе было решено про-
длить действие статьи об эмбарго до 1 мая 1937 г. и внести в закон три
поправки: о запрещении займов и кредитов воюющим странам; об обя-
зательном распространении эмбарго на страны, оказавшиеся вовлечен-
ными в уже ведущуюся войну; об изъятии из-под действия закона лати-
ноамериканских стран в случае нападения на них неамериканского го-
сударства
74
.
Закон о нейтралитете был таким образом продлен, несмотря на то
г
что его применение в итало-эфиопской войне способствовало развенча-
нию нейтралитета как пути к миру. Плодами нейтралитета США вос-
пользовалась не только фашистская Италия. Нацистская Германия и ми-
литаристская Япония, планируя свою агрессию, могли не опасаться
активного противодействия с их стороны. Вопреки надеждам демокра-
72 Press Releases, 1938, Apr. 9, p. 451. Это заявление было сделано с
ведома и одобрения Рузвельта. См.: Pratt J. W. Gordell Hull, 1933—44: Vol. 1, 2.
N. Y., 1964, vol. tf
73 The Memoirs of Cordell Hull, vol. 1, p. 463.
74 Neutrality Laws, p. 6—7.
тически настроенной общественности нейтралитет не препятствовал, а спо-
собствовал войнам за пределами Америки.
Однако американская внешняя политика продолжалась в уже очер-
ченных рамках. Тем более что с вступлением США летом того же года
в период президентской избирательной кампании внутренние проблемы
отодвинули назад международные вопросы. Внешнеполитический раздел
предвыборной платформы демократической партии, повторно выдвинув-
шей кандидатуру Рузвельта, апеллировал к антивоенным и антиимпериа-
листическим настроениям масс. В нем содержалось обещание расширить
политику «доброго соседа», подтверждалась приверженность Пакту про-
тив войны 1928 г. И далее: «Мы будем продолжать соблюдать подлин-
ный нейтралитет в конфликтах между другими странами; решительно
противодействовать агрессии против нас самих; работать для дела мира
и изъять прибыли от войны; остерегаться вовлечения через политические
обстоятельства, международное банковское дело или частную торговлю в
любую войну, где бы она ни происходила»
75
.
Намерение расширить внешнюю торговлю путем снижения торговых
барьеров сопровождалось обязательством защитить внутренний рынок от
«нечестной конкуренции» и демпинга иностранных товаров. По призна-
нию Хэлла, ссылка на нейтралитет была в «прямом противоречии» с ин-
тересами содействия сохранению международного мира
76
.
Избирательная платформа республиканской партии делала больший
упор на «традиционную внешнюю политику Америки», выступая против
членства в Лиге наций и вообще против любых союзов, могущих вовлечь
в «иностранные дела». Еще более изоляционистской позиции придержи-
валась «Союзная партия», которая вообще была против «вовлечения в
иностранные дела» в любой форме.
Рузвельт следовал гибкой линии. Он заверял американцев, что сдела-
ет все, чтобы уберечь страну от войны, и одновременно осуждал тех, кто,
попирая «простые принципы чести», нарушает не только дух, но и букву
международных соглашений, подписанных Соединенными Штатами: «Мы
не являемся изоляционистами, исключая того, что мы стремимся полно-
стью изолировать себя от войны». Он также обещал, что «ни одна акция
Соединенных Штатов не будет содействовать возникновению или про-
должению войны»
77
. Но именно этому обещанию, как показала итало-
эфиопская война, не отвечал американский нейтралитет. Тем не менее
провозглашение стремления к миру наряду с осуждением агрессии фа-
шизма способствовало убедительной победе Рузвельта 3 ноября 1936 г.
Итоги выборов встретили положительный отклик в Англии и Франции,
тогда как руководители нацистской Германии и фашистской Италии,
опасавшиеся того, что «президент может сплотить все американские го-
сударства и противопоставить их фашистской Европе», были разочаро-
ваны
78
.
Еще до переизбрания Рузвельта в Испании против правительства На-
родного фронта вспыхнул военно-фашистский мятеж, тут же поддержан-
ный фашистскими диктаторами в Берлине и Риме. Официальная линия
75Documents of American History/Ed. by H. S. Commager. N. Y., 1945, p. 541.
76The Memoirs of Gordell Hull, vol. 1, p. 486.
77The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, 1936 vol., p. 288—289.
78 Дневник посла Додда, 1933—1938. M., 1961, с. 453—454.

304
II. КРИЗИС. «НОВЫЙ КУРС»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
305

США в испанских событиях 1936—1939 гг. вырабатывалась с учетом по-
зиции Великобритании и Франции, по инициативе которых 27 европей-
ских стран заключили Соглашение о невмешательстве. 11 августа 1936 г.
госдепартамент опубликовал циркуляр, в котором со ссылкой на закон о
нейтралитете заявлялось о решении правительства «строго воздерживать-
ся от вмешательства в злополучную испанскую ситуацию» и содержал-
ся призыв к американским гражданам «соблюдать» эту политику
79
.
Провозглашенное без санкции распущенного на каникулы конгресса фак-
тическое эмбарго на экспорт оружия в Испанию подтвердило поддержку
правительством основных принципов законодательства о нейтралитете.
Американские экспортеры оружия охотно последовали этому призыву
правительства. Однако воспользовавшись обращением одной из компаний
за лицензиями на экспорт авиационных товаров в Испанию, отказать
которой у госдепартамента не было юридических оснований, правитель-
ство решило формально распространить закон о нейтралитете на испан-
скую войну. Такое предложение содержалось в традиционном президент-
ском послании о положении страны, зачитанном Рузвельтом на совмест-
ном заседании палат конгресса 6 января 1937 г.
Принятие резолюции, объявившей «незаконным экспорт оружия, бое-
припасов и средств войны из любого места Соединенных Штатов и их
владений в Испанию»
80
, стало первым законодательным актом 75-го
конгресса. В сенате за резолюцию голосовали все присутствовавшие его
члены, в палате представителей против голосовал лишь член Фермерско-
рабочей партии Миннесоты Дж. Бернард. 8 января с подписанием резо-
люции президентом она приобрела силу закона.
Своим эмбарго на экспорт оружия в Испанию США пошли на прямое
нарушение международного права, лишив законное правительство оружия
для самозащиты. Вот почему эмбарго было встречено с нескрываемым
удовлетворением как испанскими мятежниками, так и их фашистскими
покровителями. Эту политику тогдашний американский посол в респуб-
ликанской Испании К. Бауэре назвал «сотрудничеством с державами
,,оси" в войне за уничтожение демократии в Испании»
81
.
Пример Советского Союза показывал, что проведение иной политики
было вполне возможным. СССР, желая помешать итало-германской ин-
тервенции против Испанской республики, сперва присоединился к Со-
глашению о невмешательстве в испанские дела. Но когда обнаружилось,
что Италия и Германия, заявившие о поддержке соглашения, продолжа-
ют снабжать мятежников оружием и даже переправляют на контролируе-
мую Франко территорию свои войска, Советский Союз вышел из лондон-
ского Комитета по невмешательству и стал оказывать республиканской
Испании разнообразную помощь, включая оружием. США же так и не
отошли от своего «нейтралитета» в испанских делах, который сыграл та-
кую же неприглядную роль, как и англо-французское «невмешательство».
Однако многие американцы с самого начала гражданской войны в
Испании сделали выбор, встав на сторону испанской демократии. Пи-
сатель Л. Стеффенс, один из «разгребателей грязи», в предсмертной ста-
79 F R US , Dipl o m ati c P ape r s, 1 9 36 : Vol . 1—5 . Was h . , 1 9 53—1 9 5 4. v ol. 2 , p. 4 71.
80 Congressional Record, vol. 81, pt 1, p. 75.
81 Bowers С G. My Mission to Spain: Watching the Rehearsal for World War II. N. Y.,
1954, p. 326.
тье завещал: «...мы, американцы, должны помнить, что нам придется
вести такой же бой с фашистами»
82
.
Вопреки официальному нейтралитету в стране развернулось и быст-
ро набрало силу массовое движение солидарности с испанской демокра-
тией. Был создан ряд организаций помощи испанским республиканцам,
крупнейшей из которых являлся Североамериканский комитет помощи
испанской демократии. Только через этот комитет с сентября 1936 г. по
январь 1937 г. было собрано различных пожертвований на сумму
1305 тыс. долл.
83
Наиболее ярким выражением антифашистской солидарности явилось
вступление американских граждан-добровольцев в республиканскую
армию. Инициатором и организатором отправки добровольцев была Ком-
мунистическая партия США. Всего в Испании было до 3800 американских
добровольцев, представлявших различные социальные слои; половина из
них отдали свою жизнь за дело свободы п демократии. С распростране-
нием действия закона о нейтралитете на Испанию власти усилили меры
против отправки добровольцев. Уже 11 января 1937 г. госдепартамент
объявил все паспорта «недействительными для Испании». Делами добро-
вольцев занялось ФБР. Американцы, находившиеся в Испании, были ли-
шены гражданства США. Однако попытки властей парализовать движе-
ние помощи испанскому народу не увенчались успехом. Под давлением
общественности в марте 1937 г. госдепартамент вынужден был разрешить
выдачу паспортов лицам, направлявшимся в Испанию для оказания меди-
цинской помощи
84
. Изменена была также внесенная в конгресс резолю-
ция Макрейнолдса с тем, чтобы разрешить сбор средств для оказания
гуманитарной помощи Испании.
Война в Испании п вызванные ею международные осложнения спо-
собствовали раскрытию негативных последствий американского нейтра-
литета для всеобщего мира. Хотя и выяснилось, что США не в состоя-
нии относиться безучастно к событиям за рубежом и что нейтралитет
может лишь увеличить опасность вовлечения в войну, они так и не от-
казались от своей политики фактического поощрения итало-германской
интервенции. В конечном счете правящие круги США руководствовались
классовыми мотивами, опасаясь более всего сохранения и упрочения строя
Народного фронта в Испании.
Весной 1937 г. истекал срок действия закона о нейтралитете, впервые
принятого в августе 1935 г. и продленного в феврале 1936 г. В конгресс
были внесены новые законопроекты о нейтралитете, в том числе одобрен-
ные госдепартаментом резолюции Питтмэна (в сенат) и Макрейнолдса
(в палату представителей). Они мало отличались от действовавшего за-
кона. Но поскольку сама проблема нейтралитета обострилась, вокруг них
развернулись, особенно вне правительства и конгресса, споры и полеми-
ка. Резче звучала критика политики нейтралитета, о чем свидетельство-
вали публичные слушания в комитете по иностранным делам палаты
представителей во второй половине февраля 1937 г.
Несмотря на растущее в стране недовольство, ни правительство, ни
конгресс не проявляли стремления к пересмотру внешнеполитического
курса. В начале марта сенат 63 голосами против 6 (У. Бора, X. Джонсон
82 Стеффенс Л. Разгребатели грязи. М., 1949, с. 15.
83 Daily Worker, 1937, Febr. 6.
84 Press Releases, 1937, Mar. 20, p. 154.

306 II. КРИЗИС. «НОВЫЙ КУРС»
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
307
