Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления
Подождите немного. Документ загружается.

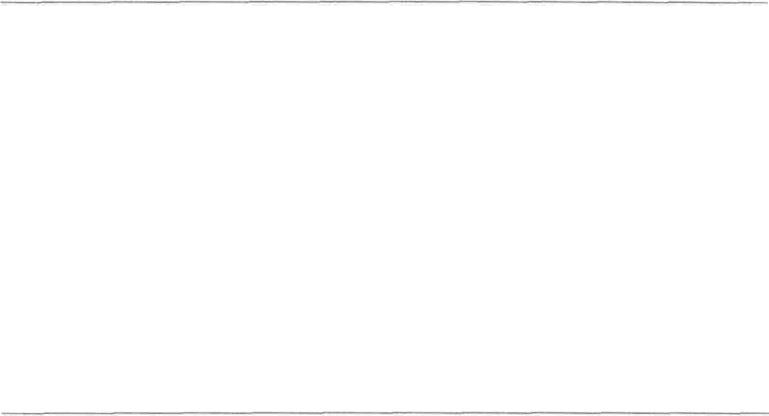
160
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
ным образом проявилась творческая личность Леонардо, он считает достойной
сожалений разбросанностью. Он разглядывает вплотную столь ценимую им
„фантазию" – „внутреннее" индивида – и отшатывается от нее.
Нужно вобрать в себя все „разнообразие" человеческих знаний и умений...
Нужно найти в „разнообразии" свое место... быть универсальным... быть ис-
ключительным...
Неявный спор пред-определений личности мы уже наблюдали и у Аль-
берти. У Кастильоне этот спор не только становится достаточно явным и осоз-
нанным. Автор „Придворного" разрабатывает любопытнейшие способы прими-
рить, свести разбредающиеся мнения о том, что мы назвали бы личностью.
Один из них заключается в идее „грации".
О ГРАЦИИ
„Придворный должен свои действия, жесты, [манеру] одеваться, словом, всякое
свое движение сопровождать грацией; и это, по-моему, вы должны сделать
приправой ко всему; без грации все остальные свойства и достоинства мало чего
стоили бы" (I, 24).
Что же такое „грация"?
„Универсальнейшее правило" для всех человеческих дел, как мы уже знаем,
требует „во всем избегать аффектации", то есть преувеличений и нарочитости,
„и, если воспользоваться, может быть, новым словом, употреблять во всем неко-
торую небрежность (или: непринужденность, sprezzatura), которая скрывала бы
искусство и являла то, что делают и говорят, сотворенным без труда и словно
бы не задумываясь. Отсюда, я полагаю, и проистекает сугубая грация". Каждый
знает редкость и трудность всего, что хорошо сделано. Поэтому впечатление
легкости, чего-то давшегося само собой родит величайшее удивление. В речах
должны быть видны „природа и истина", а не „старания и искусство". „Можно
бы сказать, что истинное искусство то, которое не кажется искусством, и ничто
не требует приложить старания в такой мере, как необходимость их скрыть".
Напротив, „тужиться и, как говорится, притаскивать за волосы – значит выказы-
вать величайшую неуклюжесть (disgrazia, отсутствие грации)" – (I, 26).
Это, вообще-то, изобретено не Кастильоне. Но необычно то, что Кастильоне
ставит требование „грации" во главу угла, развивает с чрезвычайной серьезно-
стью в качестве важнейшего условия и сути человеческого совершенства.
„Грация" – это идеальность, каким-то образом совпавшая с индивидуально-
стью; не „норма", не „правило", поставленное над отдельным человеком и кон-
кретным случаем, вне всего особенного, но внутренняя мера особенного – в
виде его и только его правильности. Таков, очевидно, единственный выход в от-
вет на немыслимое пожелание индивиду (существу отдельному, частичному, то
есть заведомо несовершенному) быть совершенным: само совершенство
должно стать индивидуальным!
Во-первых, „грация" – своя мера для каждого „обстоятельства", тактичное
сообразование с ним, умение найти всякий раз нужную манеру и тон. „Я не хо-
тел бы, чтобы он [придворный] всегда толковал важно и серьезно (in gravità),

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■
161
пусть говорит и о вещах забавных, об играх, остротах и шутках, но только обо
всем – чутко (sensatamente), ко времени, выказывая [в беседах] сноровистость и
обдуманное красноречие" (буквально: copia non confusa – ср. гл. III) – (I, 34).
Во-вторых, „грация" – своя мера для каждого индивида потому, что и при
одних и тех же обстоятельствах разные люди поведут себя по-разному. Мы уже
слышали от Кастильоне, что „разнообразие" внешнего мира, обстоятельств ула-
вливается через discrezione, способность к здравомысленному „различению", та-
кая способность принадлежит только индивиду, и пользоваться ею он выну-
жден на свой страх и риск, но сама по себе она все-таки общезначима, и в
каждом конкретном случае bon giudicio может быть отчуждено в своих рацио-
нальных основаниях и выводах от одного индивида и передано в распоряжение
другого. Правда, в некоторых случаях поделиться здравомыслием довольно
трудно, надо еще и лично почувствовать, когда, скажем, твоя острота к месту и
когда не к месту. Тут уже трудно провести границу между обычным житейским
здравомыслием и чем-то более неуловимым: „...основным мерилом является
нечто иррациональное, эстетический такт, грация"
17
.
Этот глубоко личный такт распространяется и на такие вещи, которых „спо-
собность суждения" вообще не касается, на телодвижения, владение оружием,
манеру ходить, танцевать и т. п.
„Грация" у каждого своя.
Не случайно слово это значит „благодать". Она совпадает с природой инди-
вида, с ним как таковым. Поэтому научить „грации", в сущности, нельзя.
Поскольку странно наставлять придворного тому, чему он не может обу-
читься, и поскольку в этом пункте возникала странная рассогласованность с важ-
ной аксиомой гуманизма (не просто оптимистичного в отношении возможно-
стей обучения, но и принципиально определявшего себя именно через studia,
как бы целиком перетекавшего поэтому в педагогику) – тут Кастильоне прихо-
дится задуматься. Снова внутренний спор.
Ну, разумеется, лучше всего, когда „грация" просто есть; например, Боккаччо
писал наиболее удачно тогда, когда „позволял себе руководствоваться [одним
лишь] талантом и своим природным инстинктом, не прибегая ни к каким иным
усилиям и не заботясь об отделке произведений". Но... все-таки сам он, Касти-
льоне, следовать этому примеру не собирается.
Точно так же и остроумие – „дар и благодать (grazia) природы, а не резуль-
тат искусства" (II, 42). (Кастильоне мог прочесть об этом у Цицерона и Квинти-
лиана.) Вообще „природа и талант... играют главную роль, наипаче же в том,
что относится к изобретению" (II, 43). „Но, конечно, в душе каждого человека,
каким бы благоодаренным он ни был, зарождаются идеи и благие и дурные в
большей или меньшей степени; однако затем рассудительность и искусство их
отделывают и исправляют, отбирая благие, а дурные отвергая".
Отлично, отвечают графу Лодовико, „так оставьте же то, что относится к
природному дарованию, и разъясните нам то, что подчиняется искусству" (I, 43).
В самом деле, а что если „грации" от природы недостает?
Грация – „часто дар природы и небес, а когда она не столь совершенна, ее
можно много увеличить стараниями и трудами". Да, но „какой же наукой и ка-
ким образом можно бы приобрести эту грацию – как в телесных упражнениях,
где она, как вы считаете, столь необходима, так и во всяком другом предмете, во
всем, что делают и говорят?"

162
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
Лодовико энергично возражает: „Я не брал на себя обязательств научить вас,
как обзавестись грацией или чем-либо еще, а только показать, каким должен
быть совершенный придворный. Я не взялся бы обучать этому совершенству".
Когда солдат заказывает в кузне оружие, разве он объясняет кузнецу, как тому
ковать? (I, 25).
Впрочем, хотя и говорят, что „грации не учатся", телесным упражнениям все
же нужно учиться. „Полезно наблюдать побольше разных людей соответству-
ющей профессии и, руководствуясь тем здравомыслием, которым всегда сле-
дует руководствоваться, отбирать и перенимать разное то у одного из них, то у
другого" (I, 26)
18
.
Итак, кое в чем „грацию" можно в себе развить подражанием – непременно
разным учителям, чтобы не сковывать себя чужой манерой и сохранить незави-
симость личного самовыражения
19
. Но, в общем, неизвестно, как обзавестись
„грацией"...
Это понятие понадобилось едва ли не для того, чтобы решить ренессансный
спор нормы и казуса (благодаря грации каждый и в каждом случае наилучшим
образом переводит известные ему „правила" в акциденции). На деле же вну-
треннее смысловое напряжение еще более усиливается. „Грация" грозит обес-
смыслить всякую норму вне индивида. Сравнительно с (действующими в том
же направлении) указаниями на необходимость „приспособиться" к варьета „об-
стоятельств" посредством собственного „здравомыслия" в понятии „грации"
центр тяжести окончательно перемещается на некую органичную индивидуаль-
ную целостность. Перемещается со статики на динамику, с предметного содер-
жания поведения (закрепленного в общезначимых „правилах") на его почти не
воспроизводимую, природную и личную форму. Этика переводится в эстетику.
В то „чуть-чуть", которым все решается.
Sprezzatura – качество, которое требуется от движений, речей, поступков
индивида, как и от стихотворения или картины. „Я" приравнивается к „безы-
скусному искусству". Вести себя дурно – значит быть топорным и безвкусным.
Индивид приучается смотреть на каждого, и прежде всего на себя, как на собст-
венное произведение. „Грация" не только результат, но и причина. То есть при-
чина себя же.
„Эстетизм" Возрождения не содержал, конечно, ни малейшего принижения
нравственности. Однако он был показателем ее преобразования. Во-первых, но-
вая нравственность не возвышала своих специальных требований среди прочих,
захватывавших все духовно-телесные силы человека, не претендовала на то,
чтобы подчинить себе остальное. Но и сама не подчинялась вере и послушанию.
Высшей ценностью не мог быть „нравственный", как, впрочем, и „прекрасный"
или „знающий" и никакой вообще частичный, но только целостный и универ-
сальный человек. Во-вторых, ренессансный эстетизм не что иное, как историче-
ский способ отождествить универсальное, совершенное, родовое существо с
конкретным индивидом. Иначе говоря: способ движения к новоевропейскому
понятию личности как фокуса решительно всех – социальных, правовых, поли-
тических, нравственных, эстетических, психологических – аспектов человече-
ского бытия.
Можно бы утверждать, что в трактате Кастильоне есть отличная формули-
ровка проблемы личности, хотя автору еще ничего о „личности" не известно.
Она возникает именно в контексте рассуждений о „грации": на пересечении по-
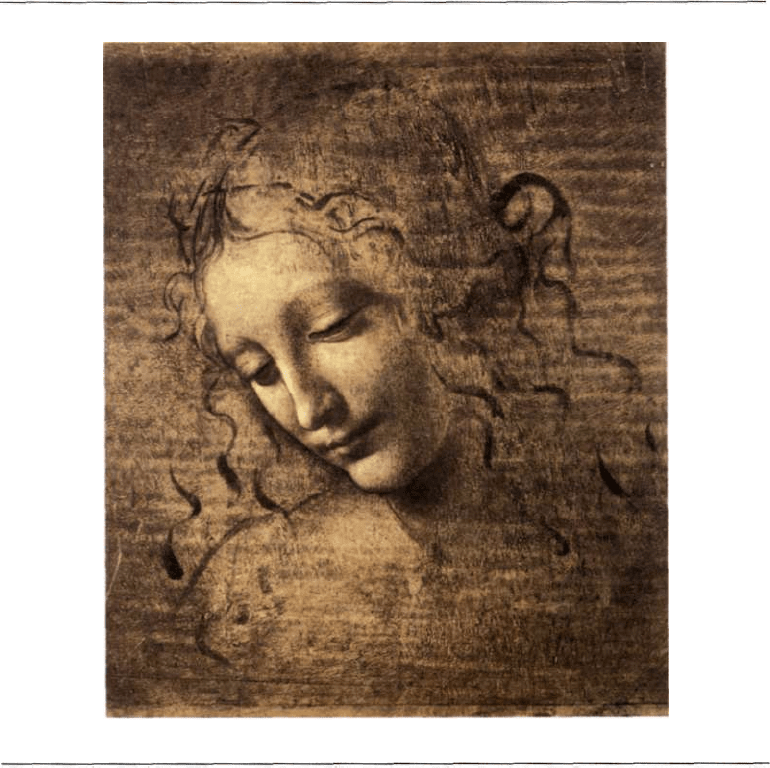
Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■
163
39. Голова девочки. 1490
нятий „разнообразия" и „совершенства", из парадоксального совмещения нормы
и казуса в „совершенном индивиде".
Я имею в виду известное место о музыке. У музыкантов, вообще-то, принято
избегать диссонансов, и роль нормативного совершенства здесь выполняет кон-
сонанс. Тем не менее, напоминает Кастильоне, непрерывные консонансы
производят отрицательное впечатление. „...Такая последовательность совер-
шенных (консонансов) порождает пресыщенность и обнаруживает чересчур аф-
фектированную гармонию". С другой стороны, пусть секунда или септима сами
по себе неприятны для слуха, но они помогают устранить монотонность и бед-
ность чистого совершенства. Если перемешать совершенные звукосочетания с
несовершенными, мы, сравнивая их, более жадно стремимся к совершенным.
Поэтому Кастильоне – как и Альберти или Полициано – возражает против из-
лишней отделки. Такая старательность и законченность вредит грации (I, 28).
Совершенство немыслимо без варьета. А значит, оно не должно быть, так
сказать, сплошным и равным себе совершенством. О совершенстве можно гово-
рить лишь тогда, когда оно включает в себя нечто несовершенное.

164
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
И, следовательно, об идеальном, когда идеальное – характерно? О всеоб-
щем, только если всеобщее единично и особенно? Не подводит ли понятие
„грации" довольно близко именно к такому парадоксальному тождеству?
Реплика о музыке вложена в уста Джулиано Медичи. Соглашаясь с ним, Ло-
довико припоминает популярное среди гуманистов место из „Естественной ис-
тории" Плиния Старшего. Апеллес упрекал Протогена, что тот живописал не
отрывая кисти от картины. Апеллес хотел этим сказать, поясняет Лодовико, что
Протоген не знал, „где следует остановиться". „Грация" (или „небрежность",
sprezzatura), в противоположность „аффектации", есть воплощенная мера. „Эта
добродетель", то есть чувство меры, – „истинный источник грации".
Но „сверх того", подчеркивает Кастильоне, она „несет с собою и другое укра-
шение". Грация не только выявляет в малейшем действии человека „умелость
того, что действует", но и заставляет окружающих считать его даже более искус-
ным, чем он есть на самом деле. Если кто-либо без видимых усилий хорошо,
скажем, танцует или поет, то может показаться, что „он способен на гораздо
большее, чем то, что делает, и, если бы приложил еще труд и старания, мог бы
сделать гораздо лучше".
„Другое украшение" – и, добавим, может быть, самая тонкая и принципиаль-
ная ренессансная подоплека „грации" – стало быть, состоит в том, что в центр
внимания попадают не танец, не пение, не действие, а тот, кто танцует или
поет, вообще что-либо делает – сам субъект действия и творчества. Субъект ока-
зывается больше своего действия, не совпадает с ним, следовательно, не совпа-
дает с собой.
Формулируя так, я, безусловно, договариваю за Кастильоне. Но наш автор
дает для этого основания. „Часто и в живописи один лишь свободный штрих,
один мазок кисти, извлеченный настолько легко, словно рука, не ведомая ника-
кой выучкой или искусством, сама собою двигалась как надо вслед за намере-
нием живописца, ясно обнаруживают совершенство художника" (I, 28). Важно
следующее. Художник, с этой точки зрения, не просто тот, кто создал произве-
дение, скрывается за ним, а тот, кто его мог создать, задумал, раскрывается в нем.
„Намерение" и вместе с тем спонтанное, нечаянное, непринужденное свиде-
тельство таланта – словом, индивидуальная творческая сила – вот что кажется
теперь неотделимым от... нормативного „совершенства".
Мы не должны воображать, будто грация – это естественность, какой бы она
ни была. Отдаваться на волю „природному инстинкту"? – но он может и подве-
сти. Скрывать выучку и обдуманность? – но и это само по себе не гарантирует
„грации". Делать на свой лад? – но нужна, как мы помним, общезначимая мера.
Все у Кастильоне неоднозначно.
„Кто из вас не смеялся, когда наш мессер Пьерпаоло танцует на свой особый
манер, с этими подпрыгиваниями и вытягиваниями ног вплоть до носков, с не-
подвижной, словно совсем одеревенелой головой и с такой сосредоточенно-
стью, что, кажется, он наверняка отсчитывает такт на ходу? Кто настолько слеп,
чтобы не увидеть в этом натянутой аффектации?" (I, 26).
Так говорит Лодовико. Но ему возражает мессер Бернардо Биббьена: в та-
ком случае примером непринужденности (sprezzatura) в танце служит мессер
Роберто, которому тут нет равных в мире. „Чтобы вполне показать, что он тан-
цует не задумываясь, он часто позволяет накидке слетать с плеч, а туфлям – с
ног и, не подбирая их, все равно продолжает танцевать". Нет, отвечает Лодо-
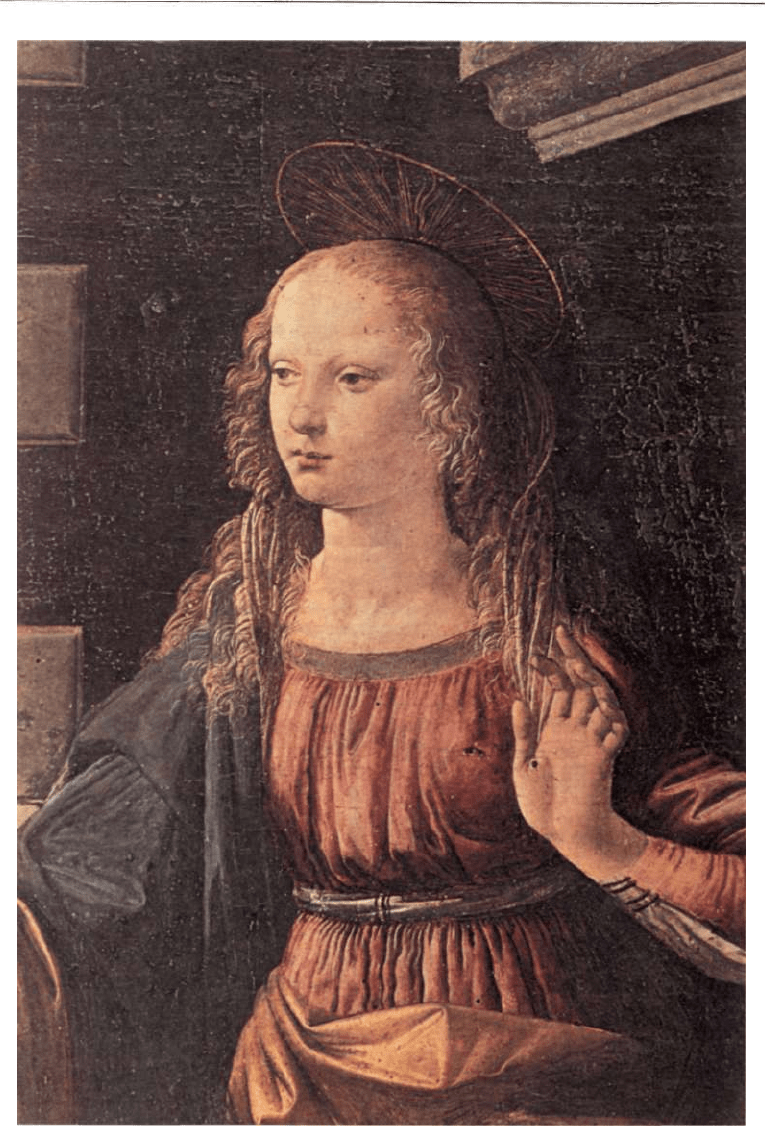
Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■
165
40. Дева Мария

166
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
вико, здесь нет никакой непринужденности, потому что непринужденность без
меры – поистине та же аффектация. „Ведь очень заметно, что он изо всех сил
старается показать себя раскованным, а это уже чрезмерная скованность" (I, 27).
Следует не обнаруживать искусства и не обнаруживать, что стараешься не
обнаружить искусства... У естественности „придворного" Кастильоне довольно
запутанные отношения с собой. „Грация" – такая нормативность, такая всеоб-
щая мера, которая органично исходит из природы индивида (ingegno) и подска-
зана его инстинктивным (или обдуманным, но скрытым) тактом. Но это, следо-
вательно, такая индивидность и особенность, которая способна стать...
образцовой?
Именно так.
Было бы большой ошибкой полагать, что Кастильоне, столь очевидно нару-
шая логическую симметрию „нормы" и индивидного казуса, все-таки удержи-
вает идеи „нормы" и „совершенства" лишь потому, что не в силах расстаться с
антично-средневековой традицией. То есть сами по себе эти идеи, конечно же,
были консервативными. Но их непременное сохранение в плане ренессансного
„индивидуализма" и „релятивизма" – в контексте поисков личности – было,
скорее, ферментом будущего.
Ведь вне совершенства, универсальности и пр. индивид, как выразился бы
Гегель, есть формальная отрицательность всеобщего. Поэтому: если его несо-
вершенство (особые пристрастия и т. п.) составляет интимное условие совер-
шенства (всеобщности, всезначимости) личности, то зато совершенство в ре-
шающей степени делает его особенность действительно полнокровной,
содержательной, квалифицированной, не в виде простой ничтожности. Челове-
ческая личность в любой существенный момент ее развертывания, здесь и сей-
час, есть всеобщее, притом не какая-то потенция всеобщего, но актуально-всеоб-
щее. Она есть полное бытие всечеловеческого в его единственной (так сказать,
номуналистической) реальности, то есть в качестве особенного.
И вот в понятии „грации" Кастильоне (или самое Возрождение в его лице)
угадывает нечто относящееся к этой диалектике. „Совершенство" логически
возвращается в тот самый момент, когда оно кажется изгнанным и торжествует
благодать индивидуально-прирожденного спонтанного, особенного. Оттеснив
надличные „правила", поставив себя выше их всех, „грация" вместе с тем обеспе-
чивает за частичным, преходящим, относительным достоинство всеобщности
(„божественности", „совершенства").
„Грация" – та логическая точка, в которой прирожденный дар отдельного
человека встречается с „разнообразием" „обстоятельств", требований жизни. В
этой точке пересечения акциденции и акциденции вдруг вспыхивает ослепи-
тельная возможность прекрасной меры. Индивид невероятно возвышается и
становится, страшно вымолвить, совершенным, не только ничуть не переставая
быть этим, но исключительно благодаря неотчуждаемой и невыразимой („гра-
циозной") самости.
Правда, как бы ни сцеплялись, ни рядополагались у Кастильоне разнонапра-
вленные определения личности, дело пока не доходило до такого их совмеще-
ния, при котором они становились бы вполне сознательным условием и вызо-
вом друг для друга и, в конце концов, парадоксальным одним и тем же, – сло-
вом, дело не доходило до „личности" как специфически новоевропейской цен-
ности.
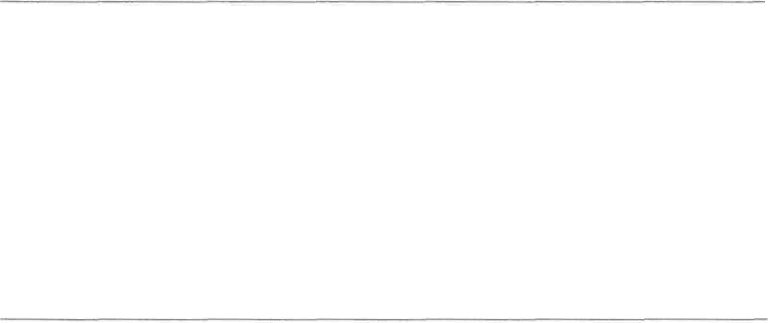
Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве и
167
В „грации", впрочем, уже заметен если не окончательный парадокс лично-
сти, то его, что ли, составляющие. Будущие определения личности начинают
взаимно притягиваться. Коллизия наметилась.
„Грация" – неправильная (укорененная в одном из переливов варьета, инди-
видуальная) правильность. Это образцовость, которой следует подражать, хотя,
собственно, подражать ей невозможно.
ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ПУТИ
К САМООБОСНОВАНИЮ ИНДИВИДА
Проблема „подражания" – в трактате еще один (наряду с „грацией") ход к поня-
тию личности
20
.
Кастильоне подхватывает, но сильно меняет, заостряет в нужном для себя
направлении место из Цицерона о „разнообразии" („Об ораторе", III, 7–9). Он
рассуждает о том, что живописцы, скульпторы, поэты, ораторы могут быть оди-
наково превосходными и при этом непохожими, так что оценки „лучше" или
„хуже" при их сопоставлении неуместны, – Кастильоне очень заметно убирает в
парафразе то, что это лишь различия внутри единства. И делает настойчивое
ударение на самодостаточном совершенстве индивидуального стиля. Мастер
подражает себе и выражает свою природу. Есть своя индивидуальность, свой
стиль и у каждого „века".
Вряд ли мы ошибемся, если заключим, что „совершенство" для Кастильоне в
конечном счете всегда конкретно: есть, следовательно, не просто разное в пре-
делах единого совершенства, но много разных совершенств (мы бы сказали –
„много всеобщностей"!). Только подлинно особенное (оригинальное, творче-
ское) и может быть всеобщим. Всеобщих столько же, сколько особенных?..
Проблема самообоснования индивида – вот что неким экзистенциальным,
логическим и социальным требованием стучалось в дверь, вот к чему вплотную
подвело Возрождение в двухтысячелетней европейской перспективе.
Такое толкование оказалось бы натянутым (модернизаторским) вне пред-
метной мыслительной ткани трактата, разобранной выше, вне коллизии „пра-
вил" и „обстоятельств", нормативности и варьета. Кастильоне нащупывал про-
блему личности в терминах своей эпохальной логики. Его конкретно занимало
следующее: как в каждом случае поступать правильно? – задача довольно стран-
ная, разве случай не потому и случаен, что он неправилен. По осознанности и
глубине вскрытия этой насквозь ренессансной проблемы Кастильоне можно по-
ставить только рядом с Макьявелли, который думал над этим всю жизнь (ср. гл.
5 моей книжки „Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности").
Все заходы Возрождения к понятию личности – через искусство. Это „ва-
рьета", то есть мир, увиденный глазами живописца, понятый как картина, где
„перемешаны, [находясь] на своих местах" (Альберти), вещи из „почти беско-
нечного" перечня (Манетти). Это „грация", то есть предвосхищение личности в
виде требования вкуса. Это „подражание себе" в творчестве певца, художника,
оратора, в индивидуальном „стиле".
Личность тут опознана художнически.

168
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
Более того, это художник. Индивид подходит к себе как к предмету худо-
жества, формирует, „кует себя по угодной ему форме" (Пико делла Миран-
дола).
Так как новоевропейская личность – человеческая самость, которая устана-
вливает себя собственным основанием, таким основанием для себя она, по-
нятно, не может быть, пребывая в тождестве с собой. Таким основанием эта са-
мость становится лишь в качестве другой. Индивид вступает в отношение с
собою же, как не собою, со своей определенностью – как неопределенностью,
со своей законченностью – как незаконченностью, со своей прирожденностью –
как материалом, нуждающимся в обработке или преодолении, со своей единич-
ностью – как всемирной отзывчивостью мысли и страсти, со своей конечностью
и бренностью – как моментом бесконечного диалога, неповторимым узелком
всей культуры, всей социальности, всей истории, всех тайн бытия.
В Новое и главным образом в Новейшее время личность, полностью осознав
и развив необходимые и созидающие ее самое противоречия одиночества и все-
человечноста, – личность ощутила себя трагической. Мгновенное перестало
быть только частью бесконечного, но – именно в своей мгновенности и непо-
вторимости – выступило полнотой бесконечности, рождающейся и умирающей
в индивиде.
Иногда превратно ощущают трагизм как следствие якобы потери всеобщего.
К всеобщему (абсолютному, вечному и т. д.) пытаются в этом случае приоб-
щиться, найти его где-то вне себя или – что одно и то же – в себе как „сверх-
ценность", как то, что „выше меня": то есть хотели бы уклониться от самого
трудного условия, избежать сомнений, перестать... быть личностью? В другом
случае признают лишь малость, единичность, частность существования: самодо-
вольно смиряются. Так или иначе рассчитывают отделаться от одного из полю-
сов личности, от самой этой непрерывно воспроизводимой полярности, от уси-
лий целой жизни, которые личность предполагает, принципиально не давая
взамен никаких утешений и гарантий
21
.
На исходе XX столетия поучительно оглянуться на ситуацию, в которой сов-
ременная личность рождалась.
Исходные определения личности в ренессансной культуре не просто „нераз-
витые" – тут неразвитость, собственно, состоит в фантастической избыточности,
в предельности этих определений, то есть в специфической исторической раз-
витости.
Часто думают, что непомерные и шокирующие ренессансные притязания ис-
ходили от личности. Будто бы в Италии и Европе тогда была некая готовая ин-
дивидуалистическая „личность" (уже сущая в психике, в понятии, в социальной
реальности) – и вот она-то предъявляла ребяческие эгоцентрические претензии
на „божественность", „совершенство", „гениальность", „величие", „безмерность"
и т. п. Но не личность создавала все эти героические мифы. Напротив, они ее
создавали.
Трактат Кастильоне, как и всякий культурный текст, нельзя понять, если
брать его семантику только буквально, на идеологическом и предметном
уровне. Иначе говоря, если брать только как отражение и результат, а не как
мощное порождение новых смыслов. За поверхностной семантикой сколько-
нибудь творческого текста всегда кроется экспериментальный подтекст, глубин-
ное мысленное „а что если...". Например: „А что если индивид способен стать

Мнения Бальдассаре Кастильоне об индивидуальном совершенстве ■
169
божественным, совершенным? Тогда..." Ренессансные авторы, конечно, не про-
сто думали о себе, что они „божественные" и т. п. С громадным интеллектуаль-
ным и эмоциональным усилием они, если угодно, предполагали это – предпо-
лагали себя, экспериментировали с собой.
Чтобы прочесть текст как текст культуры, нужно обнаружить в нем то, над
чем текст трудится, из чего он тем самым растет. И что сказывается на подспуд-
ной логике его построения, на внутренней форме мысли.
„Книга о придворном" написана не только и не столько о том, что в ней вы-
говорено буквально. Перед нами поучение о „совершенном придворном". Но
также учение о личности.
Спросим себя в последний раз: это с нашей точки зрения, это у Кастильоне...
или для Кастильоне? Ответ не может быть простым.
Внутреннюю напряженность трактата, который принято считать таким
изящно-гармоничным, надеюсь, удалось выявить достаточно наглядно. Пусть ре-
ально это споры о „правилах", „обстоятельствах", „грации", „подражании",
„стиле" – а не о „личности". Но по дороге из Средневековья (и Античности) к
нам. в „большом времени", во всемирно-исторической синхронии, это – ничуть
не менее реально – споры о личности и ни о чем другом.
То, что они не додуманы в качестве таковых, имеет положительное значе-
ние, иначе это не были бы именно ренессансные споры. Культурная ситуация
выглядит, естественно, по-разному, если находиться внутри нее или наблюдать
извне. Внутри себя она предстает перед современниками как трудность понима-
ния собственной проблемы. Я назову это непосредственной рефлексией или ре-
флексией на ходу, когда сразу и переживается, и творится, и обдумывается одно
и то же. Если эпоха вовсе никак не замечает проблемы, последней и нет в ней.
„Проблема", конечно, всегда относится к самой сути субъекта, и ее нет вне
языка; иное дело, что способ и язык, на котором она дала о себе знать, могут, с
чужой точки зрения, нуждаться в „прояснении", то есть в перекодировке. Но
если проблема отрефлектирована таким образом, что переведена на другой
язык (тоже историчный и специфический, но претендующий на то, чтобы стать
для обсуждаемого феномена метаязыком), – значит, „та" эпоха кончилась или
кончается.
Становление может быть ухвачено только в виде движения из прошлого в
будущее, следовательно, его синоним – настоящее.
Поэтому „переходность" Возрождения (и действовавшей в нем личности)
должна быть положена в качестве актуальной, то есть не в качестве наследу-
ющей Античности и Средневековью и не в качестве предшествующей Новому
времени, а в собственной существенной значимости. Эта значимость, может
быть, в первую очередь есть значимость личности, осуществившейся как возможность
личности.
