Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления
Подождите немного. Документ загружается.


280
■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи
тому, что никакой такой „субъективной" ограниченности для него не суще-
ствовало.
Приглядимся, например, какой смысл приобретает единичное в баснях Лео-
нардо, как странно этот смысл в них раздвигается и преобразуется. Участниками
басенного происшествия могут стать любое дерево, птица, орган тела, любое
природное явление или вещь. Причем мораль не подчиняет себе натуралисти-
ческого казуса (как и „правило" не завладевает „примером"). Прежде всего, не-
редко это мораль опущенная, лишь подразумеваемая, возможность какой-то мо-
рали, когда Леонардо ограничивается краткой записью сюжета, когда мы
располагаем лишь названием басни. Скажем, „Басня о языке, кусаемом зубами".
Догадаться, о чем была бы эта басня, нелегко. Или сюжет рассказан, но опять-
таки без морали: „Комок снега, чем больше, катясь, спускался со снежной горы,
тем больше рос в своей величине" (И. Пр., № 808)... и все... поучение выпало в
„и так далее"! Каждое событие в природе – „демонстрация" собственного пра-
вила, и точно так же каждая вещь уже есть некая басня. Когда морали у этой
басни нет, она превращается в загадку без отгадки (ср. о загадках-„пророчествах"
Леонардо ниже, в разделе о „точке" как Ничто).
Но пусть сюжет развернут и с первых слов ясно, что речь идет, допустим, о
наказанной гордыне, – все равно натуралистический казус довлеет себе. Морс-
кая вода возжелала испариться к небесам, но затем выпала дождем и была надо-
лго наказана заточением под землю, ее впитавшую: все равно связь между кру-
говоротом воды в природе и наказанной гордыней достаточно неожиданна, и
если сюжет наделяет всякую Леонардову басню естественностью и безусловно-
стью, то мораль, приписываемая круговороту воды или падению камня, выгля-
дит „слишком простой". Перед нами, в сущности, любимые флорентийским
живописцем аналогии, а всякая такая аналогия – разновидность той же загадки.
Поэтому басни Леонардо загадочны и тогда, когда поучения к ним приложены.
В Леонардовых баснях мораль, как известно, пессимистична, но пессимизм
не подтверждается историями из жизни природных вещей, ибо жизнь эта вне-
моральна. В натуралистических казусах содержится особость, которая вырази-
тельна сама по себе. Необязательный параллелизм назидания лишь помогает
это выявить, остраняя вещи. Басенные аллегории Леонардо глубоко антиаллего-
ричны, ибо это та же, что и в „пророчествах", игра с простыми, всем извест-
ными вещами, доводящая их до странности и, следовательно, до подлинной по-
нятности.
Леонардо взрывает традиционный жанр, делая не казус упаковкой для мо-
рали, а мораль поводом для казуса, так что казус оказывается неравным себе.
Мораль состоит, собственно, в установлении во всяком казусе какой-то значи-
тельности, так что перед чем угодно стоит остановиться, вглядеться и заду-
маться. Моралистическая прибавка („правило"), порой сводящаяся к намеку, не
завершает басенного сюжета, а лишь делает его неравным себе, заставляет еще
раз пережить всеобщность его конкретности. Вот и выходит, что всякая вещь,
всякая казусность басенна: сама себе смысл и правило. – „Дикая лоза, недоволь-
ная своим местом за изгородью, стала перекидывать ветви через общую дорогу
и цепляться за противоположную изгородь. Тогда прохожие ее сломали"
(И. Пр., № 816). И это все... Или: „Ручей нанес так много земли и камней себе в
ложе, что и сам принужден был покинуть свое русло" (И. Пр., № 803).
Вот два фрагмента, в которых Леонардо, обращаясь к читателю, поясняет,

„Примеры" и „правила" ■
281
что такое его „правила", как он это сам понимает. „Эти правила позволят тебе
отличить правду от лжи; а это ведет к тому, чтобы люди задавались лишь дости-
жимыми и скромными целями, и ты не будешь сбит с толку невежеством, по
вине которого, не добившись результата, ты в отчаянии предался бы меланхо-
лии" (Scr. lett., Proemi, 8). И еще, под названием: „Плоды моих правил (Effetto
delle mie regole)". „Если ты мне скажешь: „К чему ведут эти твои правила, что в
них хорошего?" – я тебе отвечу, что они накидывают узду на изобретателей и
исследователей и не позволяют им обещать ни себе, ни другим вещи невозмож-
ные, и уберегают от безумцев и плутов" (там же, 9). Итак, „правила" указывают
попросту правду: отличают то, что есть, от того, чего нет и быть не может. Не-
трудно заметить, что столь широкий критерий превращает в „правило" всякое
верное утверждение. Скажем, у Леонардо есть „Правило листьев, родившихся
на последней ветви за год" (TP, 832). Или „О тенях, которые ложатся на воды от
мостов" (TP, 505). Или целый ряд правил о светотени при изображении гор:
„Как горы, на которые ложатся тени облаков, приобретают голубой оттенок" и
т.п. (TP, 791 и сл.). У Леонардо нет и речи ни о каком отношении „конкрет-
ного" и „абстрактного", он, как и весь XVI век (по справедливой констатации
Люсьена Февра), никогда не пользовался этими терминами, ибо был еще далек
от этих и им подобных специфически научных понятий. „Правило" для Лео-
нардо – утверждение, относящееся к известному случаю или, точнее, к случаям
известного рода, ко всяким теням на воде под мостами и ко всяким отсветам об-
лаков на горах и т. п., или же это более общее утверждение, все равно обычно
подразумевающее выделение некоторого особого разряда вещей из мирового
обилия и разнообразия. В конечном счете это истина весьма различного объема,
в зависимости от числа природных казусов, к которым она приложима. Так или
иначе, это глубоко казуистичная истина.
„Итак, безграничное разнообразие единичного – перед ним лицом к лицу
оказываются и живописец, и ученый. Но как охватить такую бесконечность? Не
значит ли это уничтожить ее в самом ее существе?" И еще: „Как усмотреть в
единичном явлении общую закономерность, ragione. Не обедняя этого единич-
ного, не отрываясь от этого единичного? Иначе говоря, как возможна ботаника,
если в природе (далее В. П. Зубов цитирует Леонардо, TP, 501. – Л. Б.) „не най-
дется растения, которое вполне походило бы на другое, и не только растения,
но и среди ветвей, листьев и плодов их ты не найдешь ни одного, который в точ-
ности походил бы на другой" (с. 204–205).
На это можно бы ответить, что ботаника действительно была невозможна.
До ее окончательного появления оставалось более двухсот лет. Но у Леонардо
возможен ботаник. Это не значит, что он есть, нет, он именно возможен – в
ряду прочих. Леонардо не мог создать ботанику, потому что не был, так сказать,
готовым ботаником, как не был он ни механиком, ни анатомом, ни даже, в не-
котором смысле, живописцем! – что и поставили ему в упрек Вазари и другие.
Леонардо с несравненной завершенностью явил собой проект и ботаника, и ме-
ханика, и всякого ученого, и всякого художника. Он воплотил неограниченную
потенцию разнообразной творческой деятельности. Когда тот или иной из его
замыслов – например, замысел ботанической деятельности – вполне осущест-
вится и в 1735 году выйдет „Система природы", такого, наличного, ставшего (а
не только становящегося, свернутого в Леонардо) ботаника будут звать уже не
Леонардо, а Карлом Линнеем.

282
■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи
Но это, если быть точными, собственно, не „обобщения".
Леонардо умеет обобщать... Он теоретизирует не в терминах „общего" и
„единичного", а путем углубления в индивидуальную подробность, то есть во
всемирную варьета. Чем больше он нагромождает казусы (и „правила", с ними
совпадающие или их группирующие в природе), чем детальней учитывает осо-
бенности, чем выше уровень „обобщения" по-леонардовски, по-ренессансному,
то есть тем универсальней описываемое разнообразие. Но тем дальше Леонардо
уходит от всеобщего как такового и тем всеобщней любой индивидуальный слу-
чай, становящийся еще одним центром бесконечного, не имеющего центра раз-
нообразия бытия. Леонардо пробивается к „правилу", норме, канону, а обретает
всякий раз еще одну особенность, новую аномалию. Это не абстрагирующее
мышление, но это и не эмпирическое мышление. Это мышление на основе
идеи varietà, обнаружение самой возможности мышления о целостном бытии
на переходе от одного индивидуального случая к другому, в паузе посреди пе-
речня.
В ином плане проблема перехода (как тайны и кануна) продемонстрирована
Леонардо в незаконченном „Святом Иерониме" (см. ил. 103). Пустынный каме-
нистый пейзаж выражает опустошение и оцепенение души, во взгляде Иеро-
нима – „мука петрификации" (Ж. Брион). Но примечательно ведь другое. Если
лев на переднем плане превращается в изваяние льва, если в картине, где все ка-
мень, Иероним тоже окаменевает и фактурно его тело дано как скульптура, –
то зато невероятная, ни с чем не только у Леонардо, но, очевидно, и во всей ита-
льянской ренессансной живописи не сравнимая внутренняя экспрессия истяза-
ющего себя Иеронима, его абсолютно не скульптурного движения, задает кар-
тине обратный смысловой ход. Если это мука окаменения, то в такой же мере и
мука оживания камня, вопль пробудившейся к страданию души и пустыни. Пре-
дел безжизненности, каменности есть одновременно предел жизни и движе-
ния. В картине (которую тоже оказалось невозможным закончить) явлена неяв-
ная граница между самым каменным и самым некаменным, смертью и жизнью,
криком и безмолвием, а заодно живописью и скульптурой – граница, где они
неделимы, где их, следовательно, нет, но где они поэтому ощущаются в велича-
йшей степени. На их границе, там, где они Ничто, но где зато становится воз-
можным все индивидуальное, боль и бесчувствие бесконечны.
Подчеркну, что окаменение живого и оживление камня в „Св. Иерониме" –
непривычная для нас чисто художественная ассоциация. Леонардо и здесь по-
знает вещь тем, что загадывает ее как иную. Если под „ассоциацией" мы раз-
умеем способность эстетического воображения связывать далеко отстоящие
вещи через их выразительность, обращая одну из них в метафору другой, – то
ренессансный живописец, собственно, не ассоциирует, а очарованно всматрива-
ется в предлежащие ассоциации самого божественного бытия, не придумывает
метафоры, а наблюдает метаморфозы. Он предельно, как мы теперь сказали бы,
онтологичен и натуралистичен, словом, он только послушно изображает!
Леонардо писал, что „живопись объемлет и содержит в себе все вещи, кото-
рые производит природа и к которым приводит акцидентальная деятельность
людей, и в последнем счете то, что можно понять глазами" (TP, 73). „Понима-
ющие глаза" видят в вещах „демонстрации" неких „правил". Но никакая вещь не
предстает при этом единичным проявлением отвлеченного закона или симво-
лическим замещением всеобщего, то есть не истолковывается на будущий на-

„Примеры" и „правила" ■
283
учный или на средневековый лад. Правильно понятый казус не остается всего
лишь казусом, ибо он одновременно и наличность и собственная возможность.
Разумность мира не за казусом или над ним, это он сам. „Правила" не стягива-
ются в своды, не ведут к чему-то внеположному единичным вещам, но расхо-
дятся по этим вещам. Их можно взять в руки, пощупать, увидеть; существова-
ние правил в качестве казусов и называется „демонстрацией". Конечно,
„правила" и „примеры" не тождественны. Но „правило" – бирка на перечне.
„Науке живописи" доступно все акцидентальное, перечень вселенского разнооб-
разия, а такой перечень – и есть ренессансное всеобщее постольку, поскольку
перечень остается нескончаемым, открытым, сохраняется вечная возможность
другого. Узнать особую „правильность" вещи нельзя, не перейдя от нее к другой
особенности и, следовательно, к другой правильности. Говорить о всеобщем для
Леонардо – это и значит перечислять, перечислять, перечислять: „...разве ты не
видишь, сколько разных животных, и деревьев, и трав, цветов, разнообразие
горных местностей и долин, источников, рек, городов, общественных и частных
зданий, орудий, необходимых для человеческого употребления, разных одежд,
и украшений, и искусств?"
„Правило" не цель наблюдения, а толчок для следующего наблюдения. „Пра-
вило" не только исходит из ряда сходных наблюдений и туда же возвращается,
но делает их именно определенным рядом, то есть помечает очередную серию,
вносит начальную упорядоченность во вселенское обилие казусов. Леонардо от-
части пытается укрупнить „правила", выдвигая понятия „сила", „импульс", „впе-
чатление" и т. п., наконец, понятия простых и акцидентальных состояний при-
роды. Но совершенно очевидно, что он озабочен отнюдь не тем, чтобы
достроить свое миропонимание в этом направлении. С гораздо большим рве-
нием Леонардо разукрупняет „правила", отыскивая особые правила для все но-
вых и новых случаев.
Сколькими способами вода может вытекать через устье той же величины?
Леонардо насчитывает таких способов семнадцать! – в зависимости от перепада
уровней, скорости течения, наклона стенок стока, толщины краев, формы устья,
ширины и т. д. и т. п. – вплоть до „зависимости от того, имеются ли против
этого устья на дне бугры или впадины" и „дует ли ветер на воду, которая прохо-
дит через это устье" (ИЕП, с. 383–384). Или: „У тебя есть 61-е правило
7-й книги, которое доказывает, что всякое судно имеет тяжесть единственно по
линии своего движения и ни по какой другой" (ИЕП, с. 369).
Галилею придется ввести то, что В. С. Библер называет „челноком идеаль-
ного-реального"
54
, после того как наблюдательность XVI века наворотила
столько материала реальности, что понимание стало попросту недоступным.
Леонардо увидел бы сотню разных „правил" свободного падения тел там, где Га-
лилей увидит только одно, отвлекшись от формы тел, трения и пр., поставив
идеальный мысленный эксперимент. Это значило решительно преодолеть ре-
нессансное „разнообразие". Но, конечно, без накопления Леонардова, условно
говоря, опыта и без потребности в его преодолении не было бы механики Га-
лилея.
Итак, „правило" Леонардо объединяет единичные случаи в одном ряду, оно
есть результат их сравнения, притом Леонардо старается установить как можно
больше правил, а не свести их, как этого впоследствии будет добиваться наука, к
наименьшему числу. Логический объем Леонардовых правил неясно колеб-

284
■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи
лется: от сближения разнородных явлений самого широкого круга – до совпа-
дения „правила" с особым случаем. Хотя некоторые догадки Леонардо полу-
чили в дальнейшем научное подтверждение и развитие, другие оказались мни-
мыми закономерностями (например, об общей волновой природе света,
тепла ... и мыслей), третьи же после XVI века постепенно навсегда перешли в
разряд поэтических фантазий, – логическая основа всех „правил" Леонардо, и
выведенных наблюдением, и сделанных игрою воображения, все-таки клонится
к аналогии. Аналогическое мышление занимает у Леонардо то положение, ко-
торое позже будет занято научным (теоретическим) мышлением. Аналогия как
раз давала возможность объяснить явление, ничуть не поступаясь его конкрет-
ностью, оставляя его на принадлежащем только ему месте, лишь включая в не-
кую рядоположенность. Ольшки иронизировал над „игрой мнимых аналогий" у
Леонардо, когда анатомия человека сравнивается с анатомией лошади, ток
крови – с течением вод, волны – с ниспадающими женскими волосами и ни-
вами под ветром, земля в целом – с живым организмом, например, земля ды-
шит водой, как воздухом, подобно рыбам, и т. п.
55
. Горы – это кости земли;
туфы – ее сухожилия; океан – находящееся позади сердца озеро крови; морс-
кие приливы и отливы – биение пульса. Но куда отнести приводившееся выше
„правило" Леонардо, в котором при помощи понятий impeto и impressione объ-
единяются слуховые и зрительные ощущения непрерывности на самом деле ди-
скретных вещей: вращения колеса, дрожания ножа? Его нельзя счесть метафо-
рой, вроде сравнения земли и тела на 203-м листе „Атлантического кодекса".
Но, сближая разнородные явления по внешнему признаку, оно носит все же
квазитеоретический характер. Шаткость границы между метафорой, общим ме-
стом и опытным выведением здесь очень заметна.
И проницательные правила и произвольные (с позднейшей точки зрения!)
аналогии выполняют у Леонардо одну и ту же роль. Собственно, Леонардо ни-
чего не знает об аналогиях ... для него есть лишь „правила". Без правил, иногда
похожих на аналогии, и аналогий, выдаваемых за правила, мировая варьета рас-
палась бы. Аналогии противостоят всеобщему несходству, при котором в при-
роде нет двух вполне одинаковых растений и даже двух совсем подобных ли-
стьев. И самое близкое – несходно. Зато и самое отдаленное – земля и
человеческое тело, волны и волосы – перекликается. Традиционные средневе-
ковые аналогии всего со всем подключаются у Леонардо к идее варьета. Анало-
гия и опытное правило, вроде передачи удара по твердому телу в окружающую
среду, будь то рыбы в воде или рука, держащая камень, – не что иное, как воз-
можность перехода от одного случая к иному. Индивидуальные феномены ока-
зываются сопоставимыми, и для этого незачем отвлекаться от их особенности.
Напротив, „обобщения" Леонардо, даже когда они изложены „слишком про-
сто", то есть слишком отвлеченно, дают простор и повод для углубления в под-
робности. Обобщать по-настоящему – для Леонардо значит не упустить в не-
скончаемом перечне ничего, не забыть ни одного казуса, поочередно показывая
универсальное как вот это и вот то.
„Изобрази здесь все волны вместе и каждое движение в отдельности, и ка-
ждый водоворот в отдельности и раздели рамками, отделяя одно от другого по
порядку. А также отражения всех видов, какие только бывают, каждый в от-
дельности, равно как и падения вод. И отметь различия в движениях и ударах
мутных и светлых вод, бешеных и медлительных, разлившихся и мелких; бе-

Похвала Глазу ■
285
шенство разлившихся в сравнении с мелкими, бешенство узких рек в сравнении
с широкими. И различия текущих по крупным камням, по мелким, или по пе-
ску, или по туфу. И тех, что падают с высоты, ударяясь о различные камни с раз-
нообразными отскоками и прыжками, и тех, которые текут по прямому пути,
соприкасаясь и прилегая к ровному дну, и тех, которые падают в воздухе, имея
фигуру круглую, тонкую, широкую, рассыпающуюся или цельную. И потом
опиши природу ударов о поверхность, о середину, о дно, и различные их на-
клоны, и различную природу предметов, и различные формы предметов"... и
т.д. и т.п. (ИЕП, с. 345–346).
Я думаю – и попытался выше обосновать, – что для оценки интеллектуаль-
ного стиля подобных пассажей Леонардо совершенно недостаточно ссылки на
его „научно-художественный синкретизм". Такая ссылка исходит из поздней-
ших, кристаллизовавшихся и резко разошедшихся значений „научного" и „худо-
жественного", то есть ренессансное мышление толкуется ретроспективно, как
если бы оно было всего лишь исходным сращенным состоянием этих катего-
рий. Выход слишком прост. Но ведь „научного" и „художественного", как мы их
понимаем, не было вовсе в тогдашнем сознании, а значит – не было и в „синкре-
тическом" виде. Ибо термин „синкретизм" последователен, уместен, когда
имеют в виду неразрывное скрещивание и совмещение неких элементов, стало
быть, способных существовать порознь, потому-то и опознаваемых в сплаве и
могущих вступить в синкретические отношения. Если же перед нами то, что
раздельно вовсе немыслимо, – это, очевидно, не „синкретизм", мы называем так
задним числом нечто иное? С другой стороны: как же иначе „это" называть? как
выработать объяснение „мышления Леонардо", с необходимостью пользуясь по-
нятиями, этому мышлению до ужаса чуждыми, и тем не менее именно ими
очерчивая то, что в них входит и, в свой черед, чуждо нам самим? и как, нако-
нец, определить культурологически (сделать всеобщим) явление уникальное, то
есть такое, которое – как раз в силу его уникальности – нельзя определить, не-
льзя помыслить иначе, чем самотождественным?
...Дальнейшие соображения высказаны в начале этого параграфа.
ПОХВАЛА ГЛАЗУ
Хорошо известно, что Леонардо восхвалял глаз превыше всего, чем наделен от
природы человек, вместе же с Глазом – и живопись превыше прочих искусств.
Но на каких основаниях?
„Глаз, который называют окном души, это главный путь, посредством кото-
рого общее чувство может рассматривать бесконечные произведения природы в
наибольшем обилии и великолепии..." (TP, 19). Или: „...глаза, через которые
перед душой предстают все различные природные вещи" (TP, 24). Тот, кто те-
ряет зрение, лишается самого дорогого – „красоты мира со всеми формами
тварных вещей" (TP, 27). „Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городс-
кое жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля через горы и долины, как
не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты насла-
ждаешься только посредством зрения?" (И. Пр., № 469; TP, 23). Рассказ древних

286
■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи
о Демокрите, решившемся ослепить себя ради вящего умозрения, заставляет
Леонардо громко негодовать: „Разве не мог он зажмурить глаза, когда впадал в
такое неистовство, и держать их зажмуренными до тех пор, пока неистовство
не истощится само собой? Но безумцем был этот человек, и рассуждение это –
безумное, и величайшей глупостью было вырывать себе глаза" (TP, 16; И. Пр.,
№ 465).
Ибо что может быть ужасней для ренессансного понимания, чем расстаться
со вселенским разнообразием !
Бесспорно, Леонардо столь возвышает зрение и, соответственно, живопись в
первую очередь за способность к максимальному восприятию и воплощению ва-
рьета, что подтверждается несколькими соображениями и прежде всего, ко-
нечно, самым простым (ср. с Кастильоне): доступностью для зрения, в отличие
от других чувств, всей полноты предметности, поистине неисчерпаемой номен-
клатуры телесного бытия, любого особенного в мировом перечне. „Услажда-
ется живописец, сочиняя истории, обилием и разнообразием (copia e varietà) и
избегает повторения какой-либо детали, дабы эти новизна и богатство привле-
кли к себе и усладили бы глаза зрителя, и я говорю, что в истории требуется,
чтобы, будучи на своих местах, оказались бы перемешаны люди разные обли-
ком, в разных одеждах и разного возраста, перемешаны вместе с женщинами,
детьми, собаками, лошадьми, зданиями, селами и холмами..." (TP, 183). Очень
похоже на конспект из трактата Альберти! – текстуальная близость к извест-
ному месту о разнообразии очевидна. „И это искусство (живописи. – Л. Б.) объ-
емлет и сосредоточивает в себе все видимые вещи, чего не может сделать бед-
ность скульптуры, то есть цвета всех вещей и их очертания... живописец
покажет тебе разные расстояния с различениями в цвете воздуха, находящегося
между предметами и глазом, он покажет облака... он покажет дождь... он по-
кажет пыль, он покажет более или менее густые дымы; этот [живописец] пока-
жет тебе рыб, резвящихся под поверхностью вод... он покажет звезды на раз-
личных высотах над нами, а также другие неисчислимые эффекты,
недосягаемые для скульптуры" (TP, 40).
Леонардо, по обыкновению, неутомим в назывании всего того, что доступно
одному лишь зрению, улавливающему новые и новые спецификации. „Столько
есть различных расстояний, на которых теряются цвета предметов, сколько су-
ществует разных времен дня и сколько может быть разных, плотных и тонких,
слоев воздуха, сквозь которые проникают к глазу особенности раскраски упомя-
нутых предметов. И об этом здесь мы не дадим никакого другого правила" (TP,
195). Ведь „смешение цвета (то есть число цветовых оттенков. – Л. Б.) устремля-
ется к бесконечности" (TP, 213). Разве в состоянии скульптор изобразить дале-
кую воздушную перспективу, или сверкание тел, или отражение, или облака,
или темноту „и бесконечно много вещей, которые было бы утомительно упоми-
нать" (TP, 38). „Скульптор не может различать разнородные цвета, живопись же
не упускает ни одного из них" (там же).
Когда Леонардо переходит к сопоставлению живописи с поэзией, изображе-
ния со словом, – характер аргументации меняется мало. Главный довод по-
прежнему состоит в том, что „живопись простирается на несравненно большее
разнообразие", чем то, которое дает поэзия (TP, 15). Замечательно, что Лео-
нардо приписывает поэзии ту же цель, что и живописи: как можно более на-
глядное и конкретное изображение разных вещей. И поэзия, понятное дело,
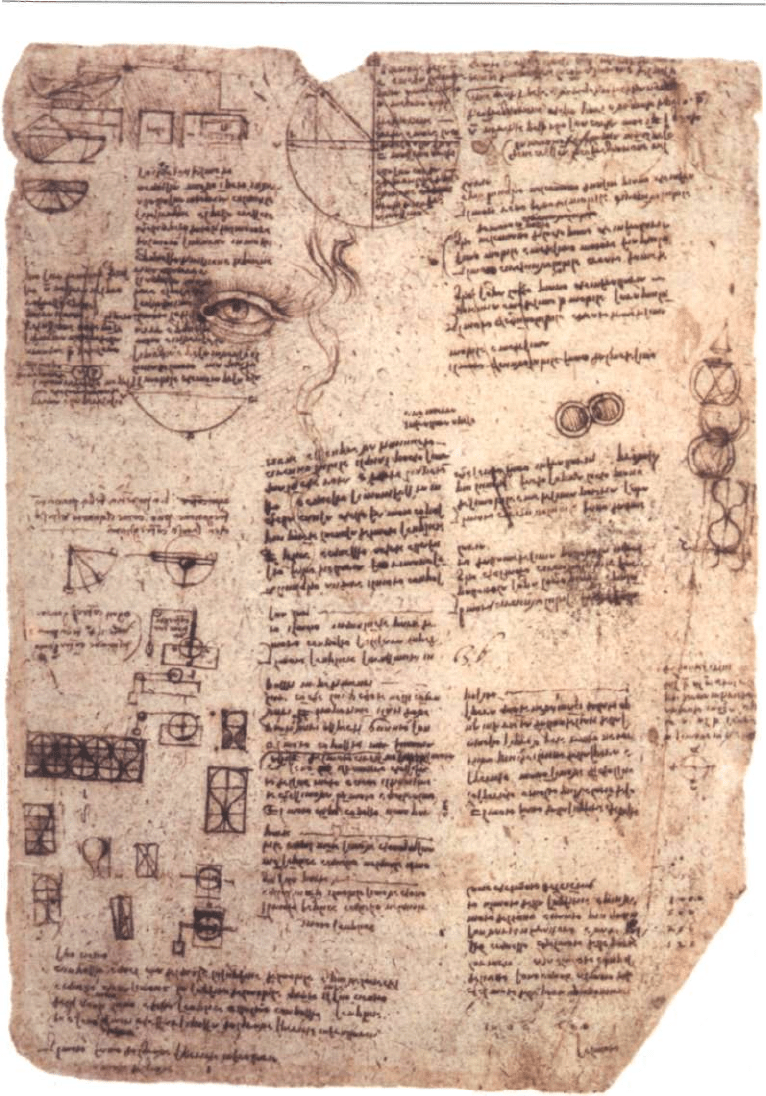
Похвала Глазу ■
287
92. Лист рукописи с изображением глаза

288
■ Часть вторая. Воплощенная варьета: Леонардо да Винчи
оказывается ниже живописи в решении сугубо живописной задачи. Это не рито-
рическая уловка, потому что никакой другой задачи для искусства и даже во-
обще для интеллектуальной деятельности Леонардо себе и не представляет.
„Если вы, историки, или поэты, или математики, не видели глазами вещей, то и
не сможете хорошо описать их" (TP, 19). Впрочем, недостаточность поэзии вы-
текает уже из того, что она не в силах, например, „пересказать все движения",
то есть дать всякую фигуру в этом и только этом облике, как и показать воочию
„тенистые долины, прорезанные игрой змеящихся рек", и т. п. – как будто для
поэзии нет иного критерия, кроме „способности видеть" (TP, 23). Перечислив –
по десяти параметрам! – всяческие красоты природы, Леонардо утверждает,
что поэзии далеко до настоящей фигуративности. Он называет поэзию „сле-
пой"! – и в его устах это, конечно, наиболее сильное возражение (TP, 20).
Дело в том, что „если живопись обнимает все природные формы", то у по-
этов есть лишь „имена", имена же, в отличие от форм, не универсальны. Каза-
лось бы, все обстоит как раз наоборот? Разве всякое имя не определяет вещь та-
ким образом, что вырывает ее из единично-конкретного состояния, включает во
всеобщность словесного языка и мышления, лишает непосредственной вещно-
сти и делает отвлеченным знаком вещи, понятием вещи, – короче, универсали-
зует? Леонардо, разумеется, понимал это, но саму „универсальность" толковал
совершенно иначе. Скажем, „дерево" или „зеленый цвет", по Леонардо, по-ви-
димому, тогда лишь взяты нами универсально, когда мы способны не упустить
ни одного оттенка зеленого и ни одной особенности разных деревьев, сколько
их ни существует на свете. Универсум – множество форм, и каждая – форма
вот этого, только формами закреплены бесчисленные конкретные подробности
бытия, и только через наблюдение, перечисление, охватывание таких подробно-
стей мы можем стать соразмерными мировому бытию, стать „универсальными"
в ренессансном, Леонардовом смысле. Но это значит, что к универсальности ве-
дет одно только зрение. Только живопись! Чем конкретней, чем предметней –
тем и универсальней ... и Леонардо ценит живопись несравненно больше по-
эзии, потому что поэзии не дано, как живописи, „подделывать" формы всех ве-
щей. „Имена" же вовсе не „универсальны" как раз потому, что дают общее, а не
отдельное. Они суть „эффекты демонстраций", а не „демонстрации эффектов"
(TP, 19). „Дай мне вещь, которую я мог бы видеть и трогать..." (TP, 27).
Характерно, что Леонардо называет искусство живописца „акциденталь-
ным". Это – важнейшее достоинство, поскольку именно в акциденциях творче-
ская изобретательность природы являет полноту и блеск. И живописец кладет
светотень, „благодаря акцидентальному искусству, в тех же местах, где это раз-
умно сделала бы природа" (TP, 38).
Чрезвычайно важный аргумент в пользу превосходства живописи не только
над поэзией, но и над музыкой, помимо несопоставимо большей номенклатуры,
чувственного богатства и определенности „разнообразия", состоит в том, что
„живописец дает увидеть все одновременно" (TP, 32). Словесное описание, как
и движение музыки, вынуждено расставаться, переходя к новой „части", с преж-
ними „частями". Даже в той мере, в какой временные искусства могут творить
варьета, для них остается недоступным подлинное со-поставление разного, а
ведь только рядом друг с другом „части" мирового разнообразия вполне обнару-
живают и несходство и единство в несходстве, то есть гармонию. Так – в при-
роде, где все вещи существуют сразу, где „почти бесконечность" перечня, его не-

Похвала Глазу ■
289
завершенность, не мешает ему быть, в принципе, целостным и обозримым в
пространстве.
Ренессансная культура тяготела к свертыванию прошлого и будущего в бес-
конечности настоящего, к синхронизации, иначе говоря, к пространственному
истолкованию времени и истории. „Историей" называли композицию картины.
По Леонардо, если музыка добивается этого в той степени, в какой звуки не
только следуют друг за другом, но и разные голоса сопрягаются вертикально, в
полифонической единовременности, поэзия же вовсе „не властна говорить в
одно и то же время разные вещи", – то, конечно, только живопись достигает со-
вершенной синхронности, только ее пропорциональность „складывается в еди-
ное время из различных частей, и о прелести их составляется суждение в еди-
ное время, как в общем, так и в частностях" (И. Пр., № 473, TP, 32; см. также TP,
21–22).
Но в сугубо живописном миропонимании, столь дорожащем возможностью
увидеть разные вещи одновременно, на первый план выходит тот, кто смо-
трит – прежде всего именно смотрит, рисует, наблюдает со стороны. Не только
вещи рядополагаются в общем пространстве, но с ними – и зритель-живописец.
Не только вещи в своем несходстве, в своей отдельности отнесены на известное
расстояние друг от друга, но и между наблюдателем и вещами непременно
должно возникнуть расстояние и должно хотя бы начаться расставание, иначе
ведь нельзя было бы наблюдать. Средневековье, как известно, жило Словом; не
наблюдало, а прислушивалось, беря и вещь через слово, через наименование,
придавая больше значения фантастической этимологии, чем очевидности, на-
ходя в вещи смысл, неизмеримо превышающий собственно вещь.
Теперь, на пороге Нового времени, место достоверного слова занимает адек-
ватное изображение. Правда, ренессансный наблюдатель смотрит на природу в
целом еще отнюдь не со стороны, а как бы из центра, он – „скрепа мира", венец
божьего творения и сам „как бы бог" природы. А все-таки Леонардова апология
Глаза предвещает многое, многое в истории европейской культуры Нового вре-
мени, что разовьется из этой напряженной установки на разглядывание. Пусть
человек и вещь еще не скоро разойдутся так, чтобы оказаться в чисто гносеоло-
гическом отношении, но они уже более не слиты в мистическом тождестве. Ра-
нее, чтобы истолковать вещь-символ, надобно было проницать ее изнутри и во-
брать в себя, преодолеть какое бы то ни было, внешнее ли, внутреннее ли,
расстояние и отстраненность, дабы, елико возможно, приблизиться и прича-
ститься незримому и бестелесному. Ренессансный человек-живописец, напро-
тив, отходит на физическую и мыслительную дистанцию, достаточную, чтобы
узреть вещь как таковую.
„Ведь живописец с большим удобством сидит перед своим произведением,
хорошо одетый, и движет легчайшую кисть с чарующими красками" (И. Пр.,
№ 477; TP, 36). Леонардо любит подчеркивать, что живопись – это „наука", и
притом наивысшая, универсальнейшая, „вся исполненная тончайших созерца-
ний", что живопись – это, прежде всего, „умственное рассуждение" (TP, 38, 40).
Занятия живописью, как их описывает Леонардо, сопровождаются музыкой или
чтением „различных и прекрасных произведений", в отличие от грубого „меха-
нического" труда скульптора. Новая духовность основана на независимости жи-
вописца и от богословских отвлеченностей, не поддающихся проверке, и от кос-
ного материала. С природой незачем ни брататься, как Франциск Ассизский,
