Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

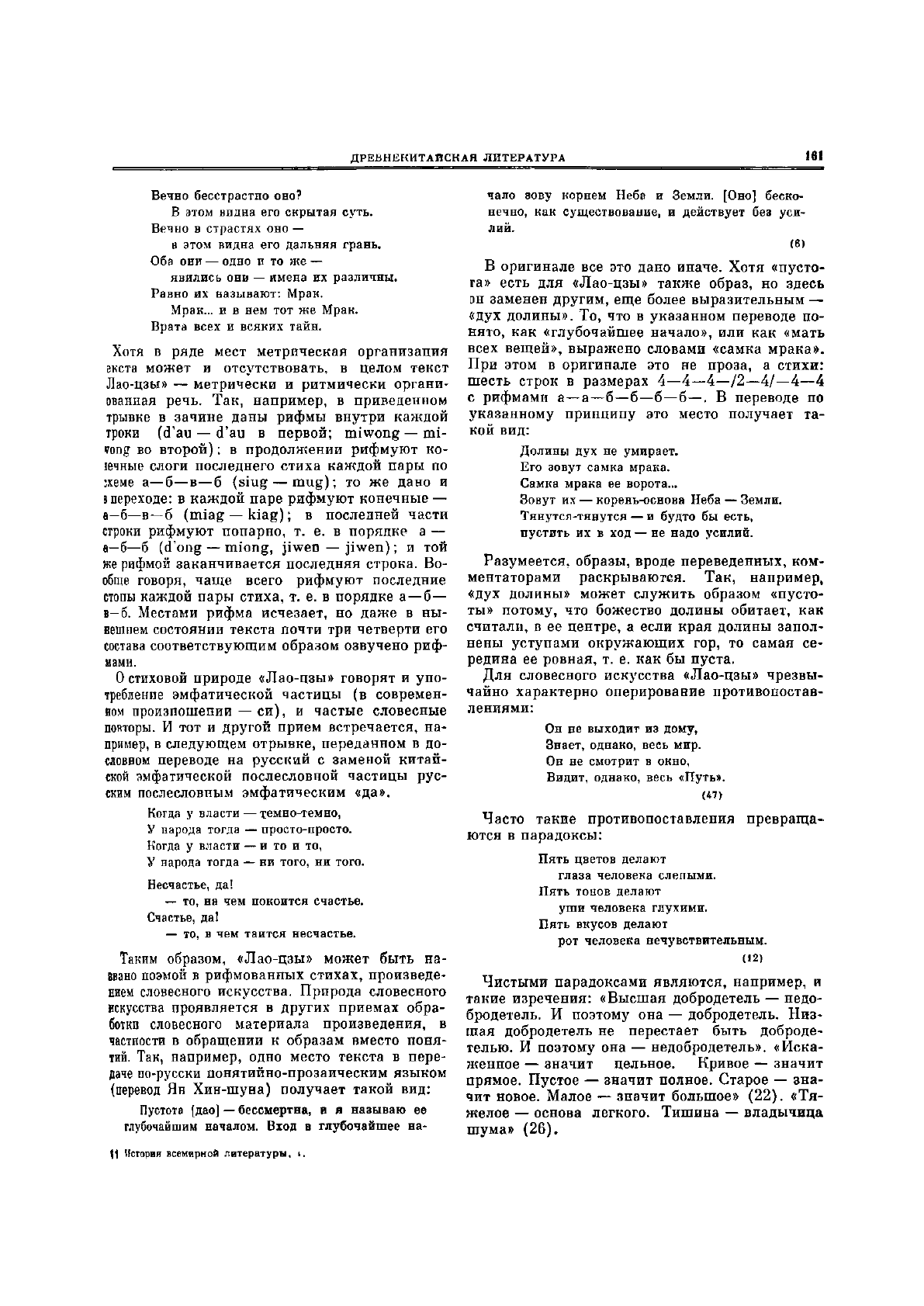
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
Вечно бесстрастно оно?
В этом видна его скрытая суть.
Вечно в страстях оно —
в этом видна его дальняя грань.
Оба они — одно п то же —
явились они — имена их различны.
Равно их называют: Мрак.
Мрак... и в нем тот же Мрак.
Врата всех и всяких тайн.
Хотя в ряде мест метрическая организация
вкста может и отсутствовать, в целом текст
JIao-цзы» — метрически и ритмически органи-
ованная речь. Так, например, в приведенном
трывке в зачине даны рифмы внутри каждой
троки ((Гаи — сТаи в первой; miwong — mi-
vong во второй); в продолжении рифмуют ко-
1ечные слоги последнего стиха каждой пары по
:хеме а—б—в—б (siug— mug); то же дано и
в
переходе: в каждой паре рифмуют конечные —
а—б—в—б (miag — kiag); в последней части
строки рифмуют попарно, т. е. в порядке а —
а—б—б (cTong — miong, jiwen—jiwen); и той
же рифмой заканчивается последняя строка. Во-
обще говоря, чаще всего рифмуют последние
стопы каждой пары стиха, т. е. в порядке а—б—
в—б. Местами рифма исчезает, но даже в ны-
нешнем состоянии текста почти три четверти его
состава соответствующим образом озвучено риф-
мами.
О
стиховой природе «JIao-цзы» говорят и упо-
требление эмфатической частицы (в современ-
ном произношении — си), и частые словесные
повторы. И тот и другой прием встречается, на-
пример, в следующем отрывке, переданном в до-
словном переводе на русский с заменой китай-
ской эмфатической послесловной частицы рус-
ским послесловным эмфатическим «да».
Когда у власти — темно-темно,
У парода тогда — просто-просто.
Когда у власти — и то и то,
У народа тогда — ни того, ни того.
Несчастье, да!
— то, на чем покоится счастье.
Счастье, да!
— то, в чем таится несчастье.
Таким образом, «JIao-цзы» может быть на-
звано поэмой в рифмованных стихах, произведе-
нием словесного искусства. Природа словесного
искусства проявляется в других приемах обра-
ботки словесного материала произведения, в
частности в обращении к образам вместо поня-
тий. Так, например, одно место текста в пере-
даче по-русски понятийно-прозаическим языком
(перевод Ян Хин-шуна) получает такой вид:
Пустота [дао] — бессмертна, в я называю ее
глубочайшим началом. Вход в глубочайшее на-
чало зову корнем Неба и Земли. [Оно] беско-
нечно, как существование, и действует без уси-
лий.
(6)
В оригинале все это дано иначе. Хотя «пусто-
та» есть для «JIao-цзы» также образ, но здесь
эн заменен другим, еще более выразительным —
«дух долины». То, что в указанном переводе по-
нято, как «глубочайшее начало», или как «мать
всех вещей», выражено словами «самка мрака».
При этом в оригинале это не проза, а стихи:
шесть строк в размерах 4—4—4—/2—4/—4—4
с рифмами а—а—б—б—б—б—. В переводе по
указанному принципу это место получает та-
кой вид:
Долины дух не умирает.
Его зовут самка мрака.
Самка мрака ее ворота...
Зовут их — корень-основа Неба — Земли.
Тянутся-тянутся — и будто бы есть,
пустить их в ход — не надо усилий.
Разумеется, образы, вроде переведенных, ком-
ментаторами раскрываются. Так, например,
«дух долины» может служить образом «пусто-
ты» потому, что божество долины обитает, как
считали, в ее центре, а если края долины запол-
нены уступами окружающих гор, то самая се-
редина ее ровная, т. е. как бы пуста.
Для словесного искусства «JIao-цзы» чрезвы-
чайно характерно оперирование противопостав-
лениями:
Он не выходит из дому,
Знает, однако, весь мир.
Он не смотрит в окно,
Видит, однако, весь «Путь».
(47)
Часто такие противопоставления превраща-
ются в парадоксы:
Пять цветов делают
глаза человека слепыми.
Пять тонов делают
уши человека глухими.
Пять вкусов делают
рот человека нечувствительным.
(12)
Чистыми парадоксами являются, например, и
такие изречения: «Высшая добродетель — не до-
бродетель. И поэтому она — добродетель. Низ-
шая добродетель не перестает быть доброде-
телью. И поэтому она — недобродетель». «Иска-
женное — значит цельное. Кривое — значит
прямое. Пустое — значит полное. Старое — зна-
чит новое. Малое — значит большое» (22). «Тя-
желое — основа легкого. Тишина — владычица
шума» (26).
tl История всемирной литературы, i.
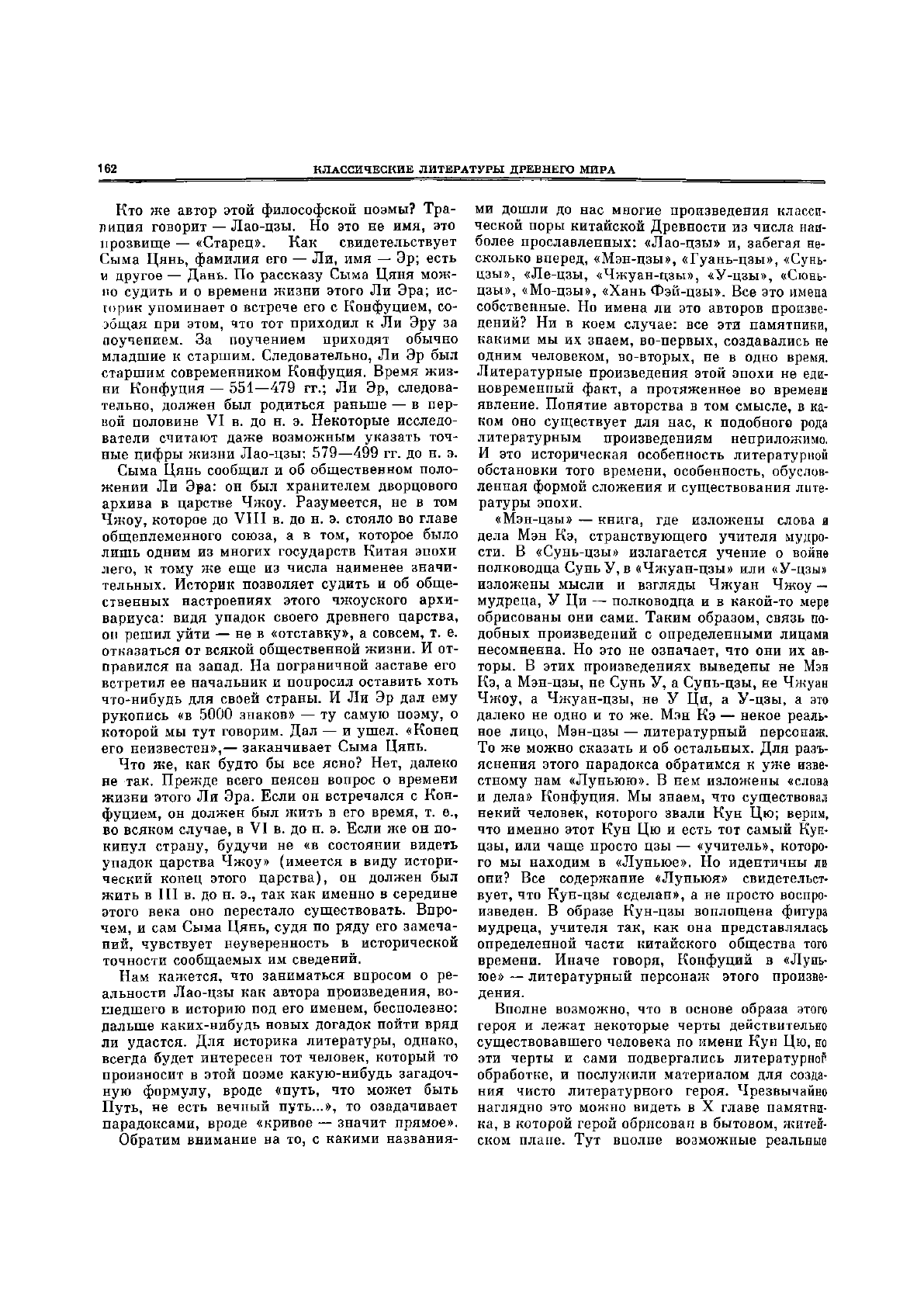
162 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
Кто же автор этой философской поэмы? Тра-
диция говорит — JIao-цзы. Но это не имя, это
прозвище — «Старец». Как свидетельствует
Сыма Цянь, фамилия его — Ли, имя — Эр; есть
и другое — Дань. По рассказу Сыма Цяня мож-
но судить и о времени жизни этого Ли Эра; ис-
торик упоминает о встрече его с Конфуцием, со-
общая при этом, что тот приходил к Ли Эру за
поучением. За поучением приходят обычно
младшие к старшим. Следовательно, Ли Эр был
старшим современником Конфуция. Время жиз-
ни Конфуция — 551—479 гг.; Ли Эр, следова-
тельно, должен был родиться раньше — в пер-
вой половине VI в. до н. э. Некоторые исследо-
ватели считают даже возможным указать точ-
ные цифры жизни Лао-цзы; 579—499 гг. до н. э.
Сыма Цянь сообщил и об общественном поло-
жении Ли Эра: он был хранителем дворцового
архива в царстве Чжоу. Разумеется, не в том
Чжоу, которое до VIII в. до н. э. стояло во главе
общеплеменного союза, а в том, которое было
лишь одним из многих государств Китая эпохи
лего, к тому же еще из числа наименее значи-
тельных. Историк позволяет судить и об обще-
ственных настроениях этого чжоуского архи-
вариуса: видя упадок своего древнего царства,
он решил уйти — не в «отставку», а совсем, т. е.
отказаться от всякой общественной жизни. И от-
правился на запад. На пограничной заставе его
встретил ее начальник и попросил оставить хоть
что-нибудь для своей страны. И Ли Эр дал ему
рукопись «в 5000 знаков» — ту самую поэму, о
которой мы тут говорим. Дал — и ушел. «Конец
его неизвестен»,— заканчивает Сыма Цянь.
Что же, как будто бы все ясно? Нет, далеко
не так. Прежде всего неясен вопрос о времени
жизни этого Ли Эра. Если он встречался с Кон-
фуцием, он должен был жить в его время, т. е.,
во всяком случае, в VI в. до н. э. Если же он по-
кинул страну, будучи не «в состоянии видеть
упадок царства Чжоу» (имеется в виду истори-
ческий конец этого царства), он должен был
жить в III в. до н. э., так как именно в середине
этого века оно перестало существовать. Впро-
чем, и сам Сыма Цянь, судя по ряду его замеча-
ний, чувствует неуверенность в исторической
точности сообщаемых им сведений.
Нам кажется, что заниматься впросом о ре-
альности Лао-цзы как автора произведения, во-
шедшего в историю под его именем, бесполезно:
дальше каких-нибудь новых догадок пойти вряд
ли удастся. Для историка литературы, однако,
всегда будет интересен тот человек, который то
произносит в этой поэме какую-нибудь загадоч-
ную формулу, вроде «путь, что может быть
Путь, не есть вечный путь...», то озадачивает
парадоксами, вроде «кривое — значит прямое».
Обратим внимание на то, с какими названия-
ми дошли до нас многие произведения класси-
ческой поры китайской Древности из числа наи-
более прославленных: «Лао-цзы» и, забегая не-
сколько вперед, «Мэн-цзы», «Гуань-цзы», «Сунь-
цзы», «Ле-цзы, «Чжуан-цзы», «У-цзы», «Сюнь-
цзы», «Мо-цзы», «Хань Фэй-цзы». Все это имена
собственные. Но имена ли это авторов произве-
дений? Ни в коем случае: все эти памятники,
какими мы их знаем, во-первых, создавались не
одним человеком, во-вторых, не в одно время.
Литературные произведения этой эпохи не еди-
новременный факт, а протяженное во времени
явление. Понятие авторства в том смысле, в ка-
ком оно существует для нас, к подобного рода
литературным произведениям неприложимо.
И это историческая особенность литературной
обстановки того времени, особенность, обуслов-
ленная формой сложения и существования лите-
ратуры эпохи.
«Мэн-цзы» — книга, где изложены слова и
дела Мэн Кэ, странствующего учителя мудро-
сти. В «Сунь-цзы» излагается учение о войне
полководца Сунь У, в «Чжуан-цзы» или «У-цзы»
изложены мысли и взгляды Чжуан Чжоу
—
мудреца, У Ци — полководца и в какой-то мере
обрисованы они сами. Таким образом, связь по-
добных произведений с определенными лицами
несомненна. Но это не означает, что они их ав-
торы. В этих произведениях выведены не Мэн
Кэ, а Мэн-цзы, не Сунь У, а Сунь-цзы, не Чжуан
Чжоу, а Чжуан-цзы, не У Ци, а У-цзы, а это
далеко не одно и то же. Мэн Кэ — некое реаль-
ное лицо, Мэн-цзы — литературный персонаж.
То же можно сказать и об остальных. Для разъ-
яснения этого парадокса обратимся к уже изве-
стному нам «Луньюю». В нем изложены «слова
и дела» Конфуция. Мы знаем, что существовал
некий человек, которого звали Кун Цю; верим,
что именно этот Кун Цю и есть тот самый Кун-
цзы, или чаще просто цзы — «учитель», которо-
го мы находим в «Луньюе». Но идентичны ли
они? Все содержание «Луньюя» свидетельст-
вует, что Кун-цзы «сделан», а не просто воспро-
изведен. В образе Кун-цзы воплощена фигура
мудреца, учителя так, как она представлялась
определенной части китайского общества того
времени. Иначе говоря, Конфуций в «Лунь-
юе» — литературный персонаж этого произве-
дения.
Вполне возможно, что в основе образа этого
героя и лежат некоторые черты действительно
существовавшего человека по имени Кун Цю, но
эти черты и сами подвергались литературной
обработке, и послужили материалом для созда-
ния чисто литературного героя. Чрезвычайно
наглядно это можно видеть в X главе памятни-
ка, в которой герой обрисован в бытовом, житей-
ском плане. Тут вполне возможные реальные
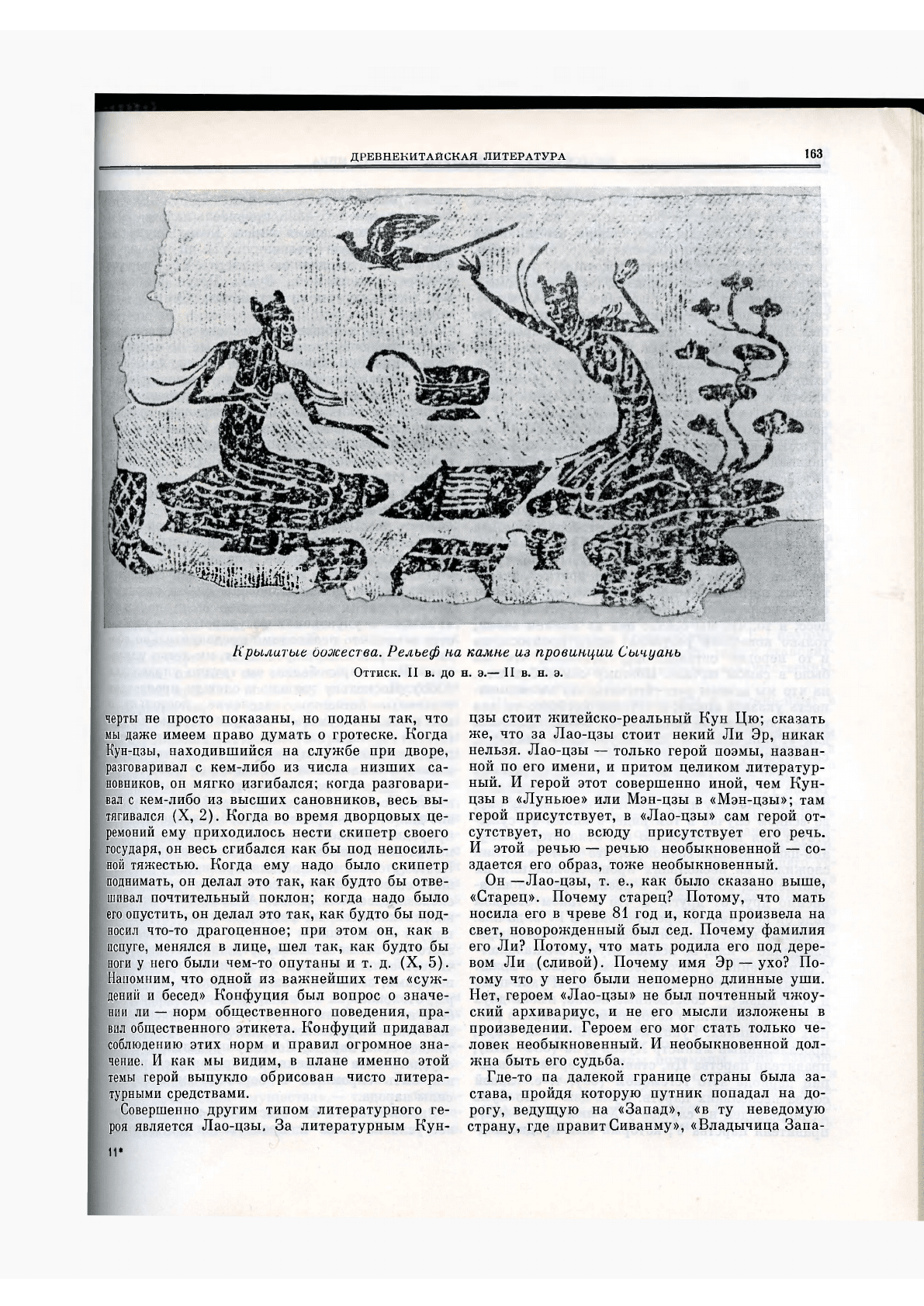
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 163
щтт
Крылатые божества. Рельеф на камне из провинции Сычуань
Оттиск. II в. до н. э.— II в. н. э.
черты не просто показаны, но поданы так, что
мы даже имеем право думать о гротеске. Когда
Кун-цзы, находившийся на службе при дворе,
разговаривал с кем-либо из числа низших са-
новников, он мягко изгибался; когда разговари-
вал с кем-либо из высших сановников, весь вы-
тягивался (X, 2). Когда во время дворцовых це-
ремоний ему приходилось нести скипетр своего
государя, он весь сгибался как бы под непосиль-
ной тяжестью. Когда ему надо было скипетр
поднимать, он делал это так, как будто бы отве-
шивал почтительный поклон; когда надо было
его
опустить, он делал это так, как будто бы под-
носил что-то драгоценное; при этом он, как в
испуге, менялся в лице, шел так, как будто бы
ноги у него были чем-то опутаны и т. д. (X, 5).
Наномним, что одной из важнейших тем «суж-
дений и бесед» Конфуция был вопрос о значе-
нии ли — норм общественного поведения, пра-
вил общественного этикета. Конфуций придавал
соблюдению этих норм и правил огромное зна-
чение. И как мы видим, в плане именно этой
темы герой выпукло обрисован чисто литера-
турными средствами.
Совершенно другим типом литературного ге-
роя является JIao-цзы, За литературным Кун-
цзы стоит житейско-реальный Кун Цю; сказать
же, что за Лао-цзы стоит некий Ли Эр, никак
нельзя. Лао-цзы — только герой поэмы, назван-
ной по его имени, и притом целиком литератур-
ный. И герой этот совершенно иной, чем Кун-
цзы в «Луныое» или Мэн-цзы в «Мэн-цзы»; там
герой присутствует, в «Лао-цзы» сам герой от-
сутствует, но всюду присутствует его речь.
И этой речью — речью необыкновенной — со-
здается его образ, тоже необыкновенный.
Он —Лао-цзы, т. е., как было сказано выше,
«Старец». Почему старец? Потому, что мать
носила его в чреве 81 год и, когда произвела на
свет, новорожденный был сед. Почему фамилия
его Ли? Потому, что мать родила его под дере-
вом Ли (сливой). Почему имя Эр — ухо? По-
тому что у него были непомерно длинные уши.
Нет, героем «Лао-цзы» не был почтенный чжоу-
ский архивариус, и не его мысли изложены в
произведении. Героем его мог стать только че-
ловек необыкновенный. И необыкновенной дол-
жна быть его судьба.
Где-то па далекой границе страны была за-
става, пройдя которую путник попадал на до-
рогу, ведущую на «Запад», «в ту неведомую
страну, где правит Сиванму», «Владычица Запа-
10*
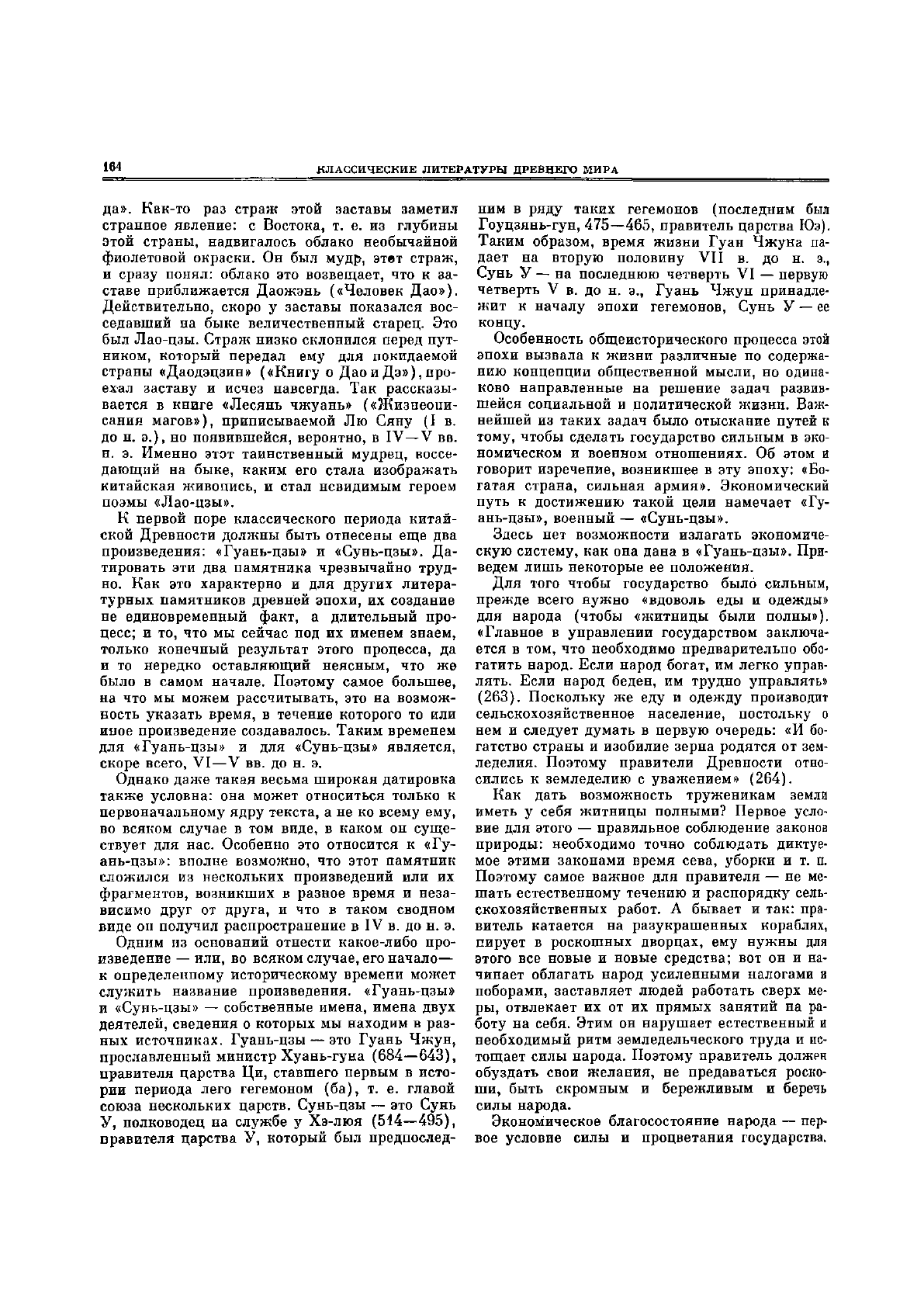
164
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
да». Как-то раз страж этой заставы заметил
странное явление: с Востока, т. е. из глубины
этой страны, надвигалось облако необычайной
фиолетовой окраски. Он был мудр, этот страж,
и сразу понял: облако это возвещает, что к за-
ставе приближается Даожэнь («Человек Дао»).
Действительно, скоро у заставы показался вос-
седавший на быке величественный старец. Это
был Лао-цзы. Страж низко склонился перед пут-
ником, который передал ему для покидаемой
страны «Даодэцзин» («Книгу о Дао и Дэ»), про-
ехал заставу и исчез навсегда. Так рассказы-
вается в книге «Лесянь чжуань» («Жизнеопи-
сания магов»), приписываемой Лю Сяну (I в.
до н. э.), но появившейся, вероятно, в IV—
V
вв.
н. э. Именно этот таинственный мудрец, воссе-
дающий на быке, каким его стала изображать
китайская живопись, и стал невидимым героем
поэмы «Лао-цзы».
К первой поре классического периода китай-
ской Древности должны быть отнесены еще два
произведения: «Гуань-цзы» и «Сунь-цзы». Да-
тировать эти два памятника чрезвычайно труд-
но. Как это характерно и для других литера-
турных памятников древней эпохи, их создание
не единовременный факт, а длительный про-
цесс; и то, что мы сейчас под их именем знаем,
только конечный результат этого процесса, да
и то нередко оставляющий неясным, что же
было в самом начале. Поэтому самое большее,
на что мы можем рассчитывать, это на возмож-
ность указать время, в течение которого то или
иное произведение создавалось. Таким временем
для «Гуань-цзы» и для «Сунь-цзы» является,
скоре всего, VI—V вв. до н. э.
Однако дая^е такая весьма широкая датировка
также условна: она может относиться только к
первоначальному ядру текста, а не ко всему ему,
во всяком случае в том виде, в каком он суще-
ствует для нас. Особенно это относится к «Гу-
ань-цзы»: вполне возможно, что этот памятник
сложился из нескольких произведений или их
фрагментов, возникших в разное время и неза-
висимо друг от друга, и что в таком сводном
виде он получил распространение в IV в. до н. э.
Одним из оснований отнести какое-либо про-
изведение — или, во всяком случае, его начало—
к определенному историческому времени может
служить название произведения. «Гуань-цзы»
и «Супь-цзы» — собственные имена, имена двух
деятелей, сведения о которых мы находим в раз-
ных источниках. Гуань-цзы — это Гуань Чжун,
прославленный министр Хуань-гуна (684—643),
правителя царства Ци, ставшего первым в исто-
рии периода лего гегемоном (ба), т. е. главой
союза нескольких царств. Сунь-цзы — это Сунь
У, полководец на службе у Хэ-люя (514—495),
правителя царства У, который был предпослед-
ним в ряду таких гегемонов (последним был
Гоуцзянь-гун, 475—465, правитель царства Юэ).
Таким образом, время жизни Гуан Чжуна па-
дает на вторую половину VII в. до н. э.,
Сунь У — на последнюю четверть VI — первую
четверть V в. до н. э., Гуань Чжун принадле-
жит к началу эпохи гегемонов, Сунь У — ее
концу.
Особенность общеисторического процесса этой
эпохи вызвала к жизни различные по содержа-
нию концепции общественной мысли, но одина-
ково направленные на решение задач развив-
шейся социальной и политической жизни. Важ-
нейшей из таких задач было отыскание путей к
тому, чтобы сделать государство сильным в эко-
номическом и военном отношениях. Об этом и
говорит изречение, возникшее в эту эпоху: «Бо-
гатая страна, сильная армия». Экономический
путь к достижению такой цели намечает «Гу-
ань-цзы», военный — «Сунь-цзы».
Здесь нет возможности излагать экономиче-
скую систему, как она дана в «Гуань-цзы». При-
ведем лишь некоторые ее положения.
Для того чтобы государство было сильным,
прежде всего нужно «вдоволь еды и одежды»
для народа (чтобы «житницы были полны»).
«Главное в управлении государством заключа-
ется в том, что необходимо предварительно обо-
гатить народ. Если народ богат, им легко управ-
лять. Если народ беден, им трудно управлять»
(263). Поскольку же еду и одежду производит
сельскохозяйственное население, постольку о
нем и следует думать в первую очередь: «И бо-
гатство страны и изобилие зерна родятся от зем-
леделия. Цоэтому правители Древности отно-
сились к земледелию с уважением» (264).
Как дать возможность труженикам земли
иметь у себя житницы полными? Первое усло-
вие для этого — правильное соблюдение законов
природы: необходимо точно соблюдать диктуе-
мое этими законами время сева, уборки и т. п.
Поэтому самое важное для правителя — не ме-
шать естественному течению и распорядку сель-
скохозяйственных работ. А бывает и так: пра-
витель катается на разукрашенных кораблях,
пирует в роскошных дворцах, ему нужны для
этого все новые и новые средства; вот он и на-
чинает облагать народ усиленными налогами и
поборами, заставляет людей работать сверх ме-
ры, отвлекает их от их прямых занятий на ра-
боту на себя. Этим он нарушает естественный и
необходимый ритм земледельческого труда и ис-
тощает силы народа. Поэтому правитель должен
обуздать свои желания, не предаваться роско-
ши, быть скромным и бережливым и беречь
силы народа.
Экономическое благосостояние народа — пер-
вое условие силы и процветания государства.
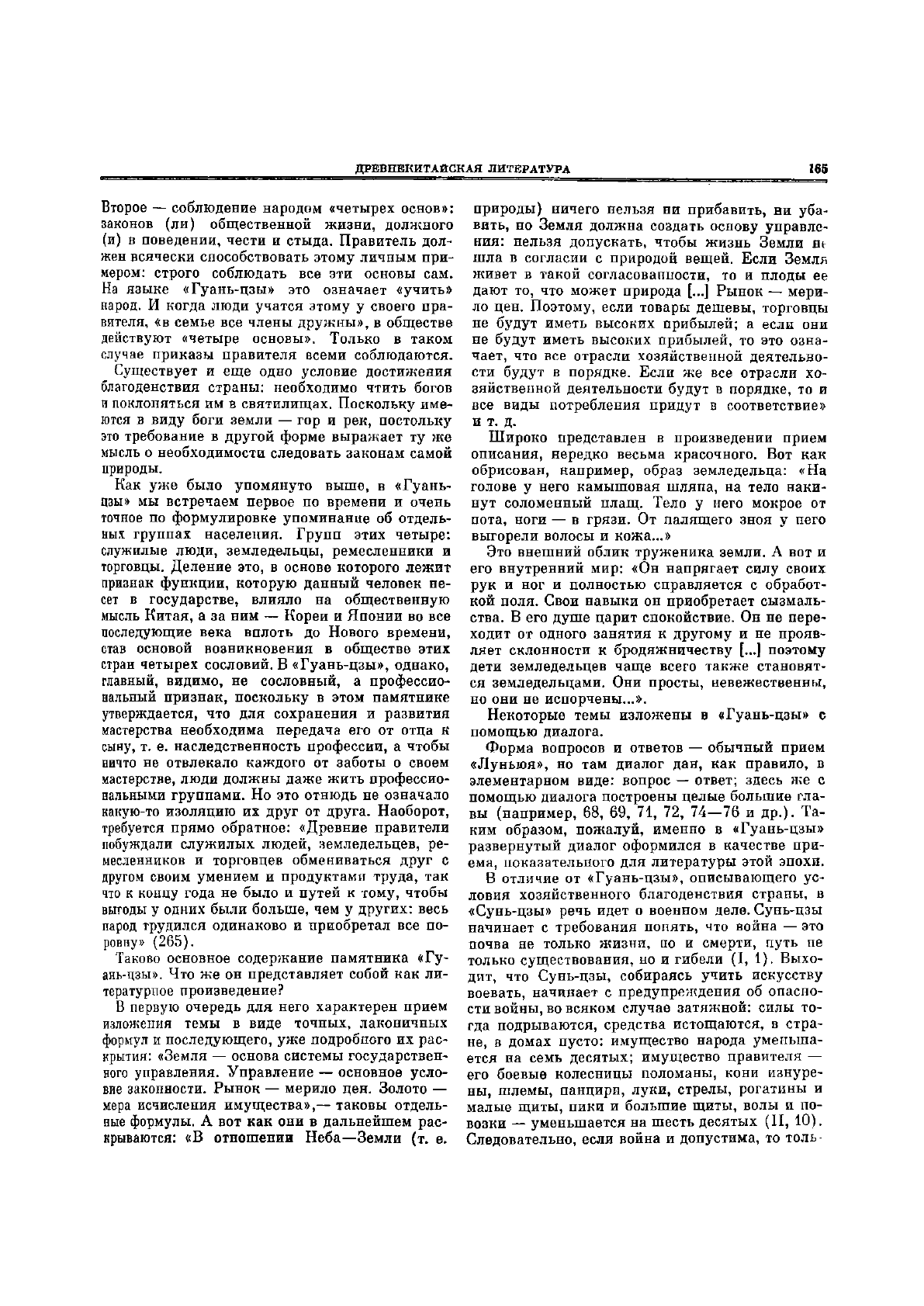
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
Второе — соблюдение народом «четырех основ»:
законов (ли) общественной жизни, должного
(и) в поведении, чести и стыда. Правитель дол-
жен всячески способствовать этому личным при-
мером: строго соблюдать все эти основы сам.
На языке «Гуань-цзы» это означает «учить»
народ. И когда люди учатся этому у своего пра-
вителя, «в семье все члены дружны», в обществе
действуют «четыре основы». Только в таком
случае приказы правителя всеми соблюдаются.
Существует и еще одно условие достижения
благоденствия страны: необходимо чтить богов
и поклоняться им в святилищах. Поскольку име-
ются в виду боги земли — гор и рек, постольку
это требование в другой форме выражает ту же
мысль о необходимости следовать законам самой
природы.
Как уже было упомянуто выше, в «Гуань-
цзы» мы встречаем первое по времени и очень
точное по формулировке упоминание об отдель-
ных группах населения. Групп этих четыре:
служилые люди, земледельцы, ремесленники и
торговцы. Деление это, в основе которого лежит
признак функции, которую данный человек не-
сет в государстве, влияло на общественную
мысль Китая, а за ним — Кореи и Японии во все
последующие века вплоть до Нового времени,
став основой возникновения в обществе этих
стран четырех сословий. В «Гуань-цзы», однако,
главный, видимо, не сословный, а профессио-
нальный признак, поскольку в этом памятнике
утверждается, что для сохранения и развития
мастерства необходима передача его от отца к
сыну, т. е. наследственность профессии, а чтобы
ничто не отвлекало каждого от заботы о своем
мастерстве, люди должны даже жить профессио-
нальными группами. Но это отнюдь не означало
какую-то изоляцию их друг от друга. Наоборот,
требуется прямо обратное: «Древние правители
побуждали служилых людей, земледельцев, ре-
месленников и торговцев обмениваться друг с
другом своим умением и продуктами труда, так
что к концу года не было и путей к тому, чтобы
выгоды у одних были больше, чем у других: весь
народ трудился одинаково и приобретал все по-
ровну» (265).
Таково основное содержание памятника «Гу-
ань-цзы». Что же он представляет собой как ли-
тературное произведение?
В первую очередь для него характерен прием
изложения темы в виде точных, лаконичных
формул и последующего, уже подробного их рас-
крытия: «Земля — основа системы государствен-
ного управления. Управление — основное усло-
вие законности. Рынок — мерило цен. Золото —
мера исчисления имущества»,— таковы отдель-
ные формулы. А вот как они в дальнейшем рас-
крываются: «В отношении Неба—Земли (т. е.
природы) ничего нельзя ни прибавить, ни уба-
вить, но Земля должна создать основу управле-
ния: нельзя допускать, чтобы жизнь Земли не
шла в согласии с природой вещей. Если Земля
живет в такой согласованности, то и плоды ее
дают то, что может природа [...] Рынок — мери-
ло цен. Поэтому, если товары дешевы, торговцы
не будут иметь высоких прибылей; а если они
не будут иметь высоких прибылей, то это озна-
чает, что все отрасли хозяйственной деятельно-
сти будут в порядке. Если же все отрасли хо-
зяйственной деятельности будут в порядке, то и
все виды потребления придут в соответствие»
и т. д.
Широко представлен в произведении прием
описания, нередко весьма красочного. Вот как
обрисован, например, образ земледельца: «На
голове у него камышовая шляпа, на тело наки-
нут соломенный плащ. Тело у него мокрое от
пота, ноги — в грязи. От палящего зноя у него
выгорели волосы и кожа...»
Это внешний облик труженика земли. А вот и
его внутренний мир: «Он напрягает силу своих
рук и ног и полностью справляется с обработ-
кой поля. Свои навыки он приобретает сызмаль-
ства. В его душе царит спокойствие. Он не пере-
ходит от одного занятия к другому и не прояв-
ляет склонности к бродяжничеству [...] поэтому
дети земледельцев чаще всего также становят-
ся земледельцами. Они просты, невежественны,
но они не испорчены...».
Некоторые темы изложены в «Гуань-цзы» с
помощью диалога.
Форма вопросов и ответов — обычный прием
«Луныоя», но там диалог дан, как правило, в
элементарном виде: вопрос — ответ; здесь я^е с
помощью диалога построены целые большие гла-
вы (например, 68, 69, 71, 72, 74—76 и др.). Та-
ким образом, пожалуй, именно в «Гуань-цзы»
развернутый диалог оформился в качестве при-
ема, показательного для литературы этой эпохи.
В отличие от «Гуань-цзы», описывающего ус-
ловия хозяйственного благоденствия страны, в
«Сунь-цзы» речь идет о военном деле. Сунь-цзы
начинает с требования понять, что война — это
почва не только жизни, по и смерти, путь не
только существования, но и гибели (I, 1). Выхо-
дит, что Сунь-цзы, собираясь учить искусству
воевать, начинает с предупреждения об опасно-
сти войны, во всяком случае затяжной: силы то-
гда подрываются, средства истощаются, в стра-
не, в домах пусто: имущество народа уменьша-
ется на семь десятых; имущество правителя —
его боевые колесницы поломаны, кони изнуре-
ны, шлемы, панцири, луки, стрелы, рогатины и
малые щиты, пики и большие щиты, волы и по-
возки — уменьшается на шесть десятых (II, 10).
Следовательно, если война и допустима, то толь
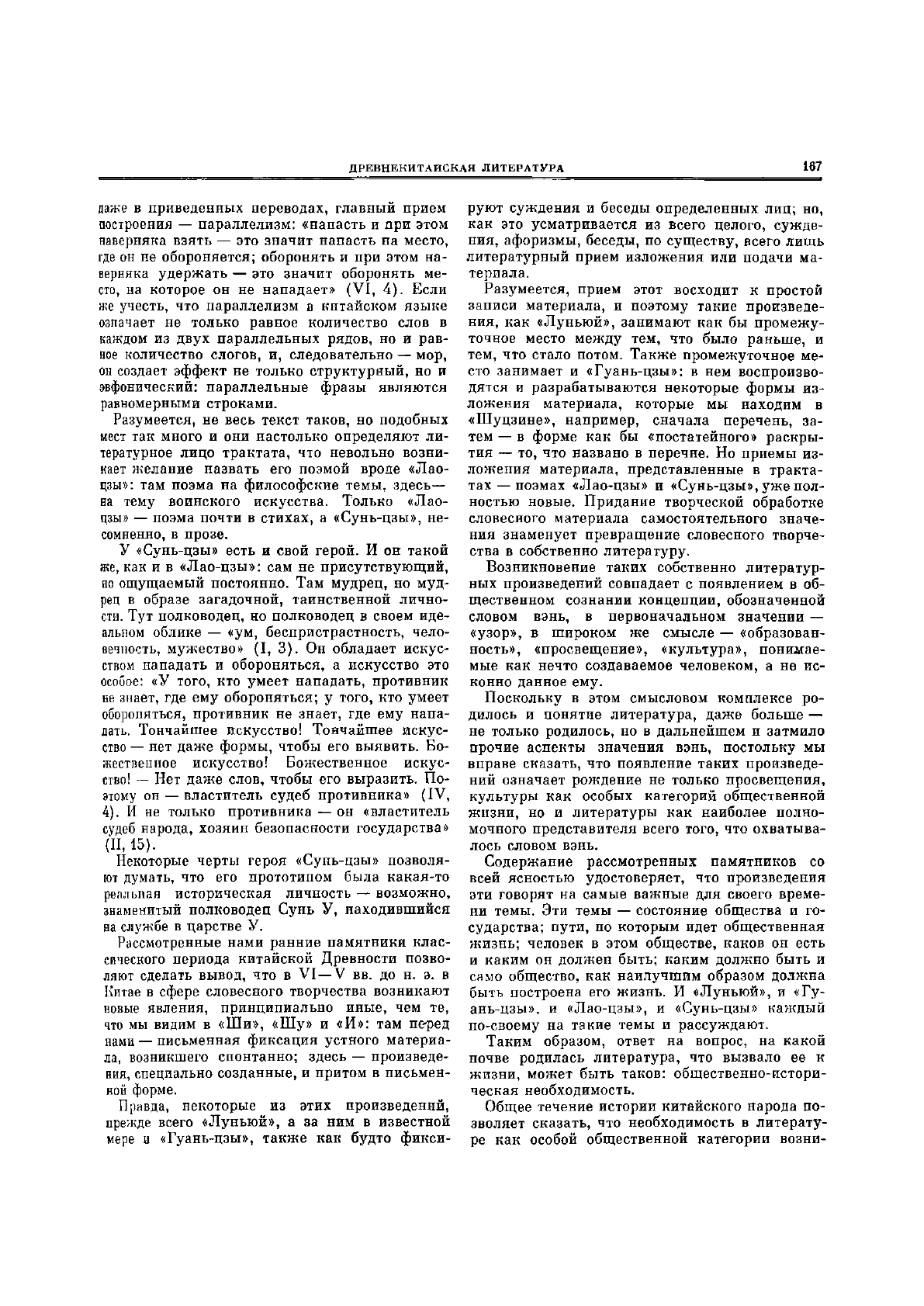
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
даже в приведенных переводах, главный прием
построения — параллелизм: «напасть и при этом
наверняка взять — это значит напасть на место,
где он не обороняется; оборонять и при этом на-
верняка удержать — это значит оборонять ме-
сто, на которое он не нападает» (VI, 4). Если
же учесть, что параллелизм в китайском языке
означает не только равное количество слов в
каждом из двух параллельных рядов, но и рав-
ное количество слогов, и, следовательно — мор,
он создает эффект не только структурный, но и
эвфонический: параллельные фразы являются
равномерными строками.
Разумеется, не весь текст таков, но подобных
мест так много и они настолько определяют ли-
тературное лицо трактата, что невольно возни-
кает Ячелание назвать его поэмой вроде «Лао-
цзы»: там поэма на философские темы, здесь—
на тему воинского искусства. Только «Лао-
цзы» — поэма почти в стихах, а «Сунь-цзы», не-
сомненно, в прозе.
У «Сунь-цзы» есть и свой герой. И он такой
же, как и в «Лао-цзы»: сам не присутствующий,
но ощущаемый постоянно. Там мудрец, но муд-
рец в образе загадочной, таинственной лично-
сти. Тут полководец, но полководец в своем иде-
альном облике — «ум, беспристрастность, чело-
вечность, мужество» (I, 3). Он обладает искус-
ством нападать и обороняться, а искусство это
особое: «У того, кто умеет нападать, противник
не знает, где ему обороняться; у того, кто умеет
обороняться, противник не знает, где ему напа-
дать. Тончайшее искусство! Тончайшее искус-
ство
—
нет даже формы, чтобы его выявить. Бо-
жественное искусство! Божественное искус-
ство! — Нет даже слов, чтобы его выразить. По-
этому он — властитель судеб противника» (IV,
4). И не только противника — он «властитель
судеб народа, хозяин безопасности государства»
(II, 15).
Некоторые черты героя «Сунь-цзы» позволя-
ют думать, что его прототипом была какая-то
реальпая историческая личность — возможно,
знаменитый полководец Сунь У, находившийся
на службе в царстве У.
Рассмотренные нами ранние памятники клас-
сического периода китайской Древности позво-
ляют сделать вывод, что в VI—V вв. до н. э. в
Китае в сфере словесного творчества возникают
новые явления, принципиально иные, чем те,
что мы видим в «Ши», «Шу» и «И»: там перед
нами
—
письменная фиксация устного материа-
ла, возникшего спонтанно; здесь — произведе-
ния, специально созданные, и притом в письмен-
ной форме.
Правда, некоторые из этих произведений,
прежде всего «Луньюй», а за ним в известной
мере и «Гуань-цзы», также как будто фикси-
руют суждения и беседы определенных лиц; но,
как это усматривается из всего целого, сужде-
ния, афоризмы, беседы, по существу, всего лишь
литературный прием изложения или подачи ма-
териала.
Разумеется, прием этот восходит к простой
записи материала, и поэтому такие произведе-
ния, как «Луньюй», занимают как бы промежу-
точное место между тем, что было раньше, и
тем, что стало потом. Также промежуточное ме-
сто занимает и «Гуань-цзы»: в нем воспроизво-
дятся и разрабатываются некоторые формы из-
ложения материала, которые мы находим в
«Шуцзине», например, сначала перечень, за-
тем — в форме как бы «постатейного» раскры-
тия — то, что названо в перечне. Но приемы из-
ложения материала, представленные в тракта-
тах— поэмах «Лао-цзы» и «Сунь-цзы», уже пол-
ностью новые. Придание творческой обработке
словесного материала самостоятельного значе-
ния знаменует превращение словесного творче-
ства в собственно литературу.
Возникновение таких собственно литератур-
ных произведений совпадает с появлением в об-
щественном сознании концепции, обозначенной
словом вэнь, в первоначальном значении —
«узор», в широком же смысле — «образован-
ность», «просвещение», «культура», понимае-
мые как нечто создаваемое человеком, а не ис-
конно данное ему.
Поскольку в этом смысловом комплексе ро-
дилось и понятие литература, даже больше —
не только родилось, но в дальнейшем и затмило
прочие аспекты значения вэнь, постольку мы
вправе сказать, что появление таких произведе-
ний означает рождение не только просвещения,
культуры как особых категорий общественной
жизни, но и литературы как наиболее полно-
мочного представителя всего того, что охватыва-
лось словом вэнь.
Содержание рассмотренных памятников со
всей ясностью удостоверяет, что произведения
эти говорят на самые важные для своего време-
ни темы. Эти темы — состояние общества и го-
сударства; пути, по которым идет общественная
жизнь; человек в этом обществе, каков он есть
и каким он должен быть; каким должно быть и
само общество, как наилучшим образом должна
быть построена его жизнь. И «Луньюй», и «Гу-
ань-цзы», и «Лао-цзы», и «Сунь-цзы» каждый
по-своему на такие темы и рассуждают.
Таким образом, ответ на вопрос, на какой
почве родилась литература, что вызвало ее к
жизни, может быть таков: общественно-истори-
ческая необходимость.
Общее течение истории китайского народа по-
зволяет сказать, что необходимость в литерату-
ре как особой общественной категории возни-
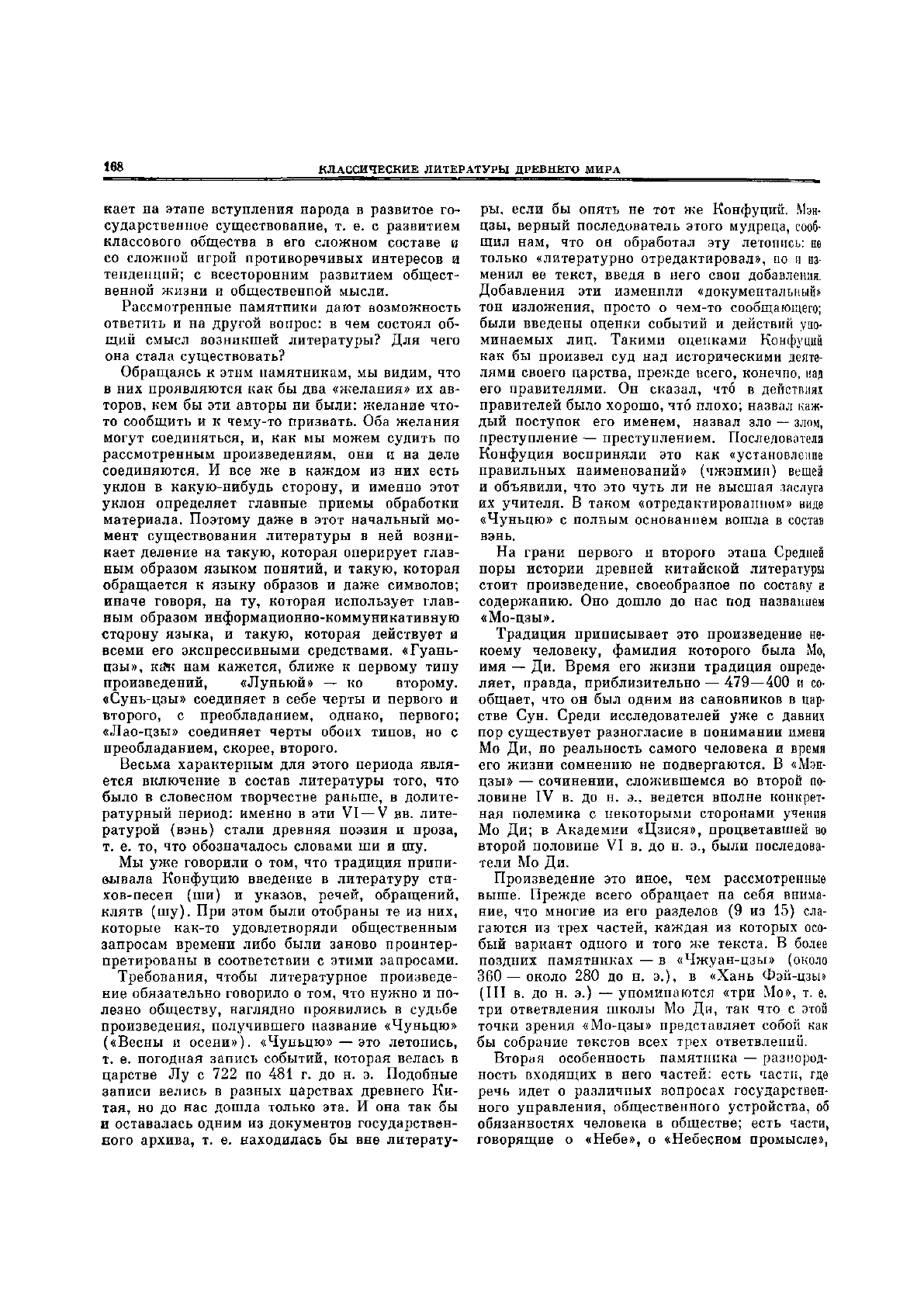
168
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
кает на этапе вступления народа в развитое го-
сударственное существование, т. е. с развитием
классового общества в его сложном составе и
со сложной игрой противоречивых интересов и
тенденций; с всесторонним развитием общест-
венной жизни и общественной мысли.
Рассмотренные памятники дают возможность
ответить и на другой вопрос: в чем состоял об-
щий смысл возникшей литературы? Для чего
она стала существовать?
Обращаясь к этим памятникам, мы видим, что
в них проявляются как бы два «желания» их ав-
торов, кем бы эти авторы ни были: желание что-
то сообщить и к чему-то призвать. Оба желания
могут соединяться, и, как мы можем судить по
рассмотренным произведениям, они и на деле
соединяются. И все же в каждом из них есть
уклон в какую-нибудь сторону, и имеяпо этот
уклон определяет главные приемы обработки
материала. Поэтому даже в этот начальный мо-
мент существования литературы в ней возни-
кает деление на такую, которая оперирует глав-
ным образом языком понятий, и такую, которая
обращается к языку образов и даже символов;
иначе говоря, на ту, которая использует глав-
ным образом информационно-коммуникативную
сторону языка, и такую, которая действует и
всеми его экспрессивными средствами. «Гуань-
цзы», кс?к нам кажется, ближе к первому типу
произведений, «Луньюй» — ко второму.
«Сунь-цзы» соединяет в себе черты и первого и
второго, с преобладанием, однако, первого;
«Лао-цзы» соединяет черты обоих типов, но с
преобладанием, скорее, второго.
Весьма характерным для этого периода явля-
ется включение в состав литературы того, что
было в словесном творчестве раньше, в долите-
ратурный период: именно в эти VI—V вв. лите-
ратурой (вэнь) стали древняя поэзия и проза,
т. е. то, что обозначалось словами ши и шу.
Мы уже говорили о том, что традиция припи-
сывала Конфуцию введение в литературу сти-
хов-песен (ши) и указов, речей, обращений,
клятв (шу). При этом были отобраны те из них,
которые как-то удовлетворяли общественным
запросам времени либо были заново проинтер-
претированы в соответствии с этими запросами.
Требования, чтобы литературное произведе-
ние обязательно говорило о том, что нужно и по-
лезно обществу, наглядно проявились в судьбе
произведения, получившего название «Чуньцю»
(«Весны и осени»). «Чуньцю» — это летопись,
т. е. погодная запись событий, которая велась в
царстве Л у с 722 по 481 г. до н. э. Подобные
записи велись в разных царствах древнего Ки-
тая, но до нас дошла только эта. И она так бы
и оставалась одним из документов государствен-
ного архива, т. е. находилась бы вне литерату-
ры, если бы опять не тот же Конфуций. Мэн-
цзы, верный последователь этого мудреца, сооб-
щил нам, что он обработал эту летопись: не
только «литературно отредактировал», но и из-
менил ее текст, введя в него свои добавления.
Добавления эти изменили «документальный»
тон изложения, просто о чем-то сообщающего;
были введены оценки событий и действий упо-
минаемых лиц. Такими оценками Конфуций
как бы произвел суд над историческими деяте-
лями своего царства, прежде всего, конечно, над
его правителями. Он сказал, что в действиях
правителей было хорошо, что плохо; назвал каж-
дый поступок его именем, назвал зло — злом,
преступление — преступлением. Последователи
Конфуция восприняли это как «установление
правильных наименований» (чжэнмин) вещей
и объявили, что это чуть ли не высшая заслуга
их учителя. В таком «отредактированном» виде
«Чуньцю» с полным основанием вошла в состав
вэнь.
На грани первого и второго этапа Средней
поры истории древней китайской литературы
стоит произведение, своеобразное по составу и
содержанию. Оно дошло до нас под названием
«Мо-цзы».
Традиция приписывает это произведение не-
коему человеку, фамилия которого была Мо,
имя — Ди. Время его жизни традиция опреде-
ляет, правда, приблизительно — 479—400 и со-
общает, что он был одним из сановников в цар-
стве Сун. Среди исследователей уже с давних
пор существует разногласие в понимании имени
Мо Ди, но реальность самого человека и время
его жизни сомнению не подвергаются. В «Мэн-
цзы» — сочинении, сложившемся во второй по-
ловине IV в. до н. э.. ведется вполне конкрет-
ная полемика с некоторыми сторонами учения
Мо Ди; в Академии «Цзися», процветавшей во
второй половине VI в. до н. э., были последова-
тели Мо Ди.
Произведение это иное, чем рассмотренные
выше. Прежде всего обращает на себя внима-
ние, что многие из его разделов (9 из 15) сла-
гаются из грех частей, каждая из которых осо-
бый вариант одного и того же текста. В более
поздних памятниках — в «Чжуан-цзы» (около
360 — около 280 до н. э.), в «Хань Фэй-цзы»
(III в. до н. э.) — упоминаются «три Мо», т. е.
три ответвления школы Мо Ди, так что с этой
точки зрения «Мо-цзы» представляет собой как
бы собрание текстов всех трех ответвлений.
Вторая особенность памятника — разнород-
ность входящих в него частей: есть части, где
речь идет о различных вопросах государствен-
ного управления, общественного устройства, об
обязанностях человека в обществе; есть части,
говорящие о «Небе», о «Небесном промысле»,
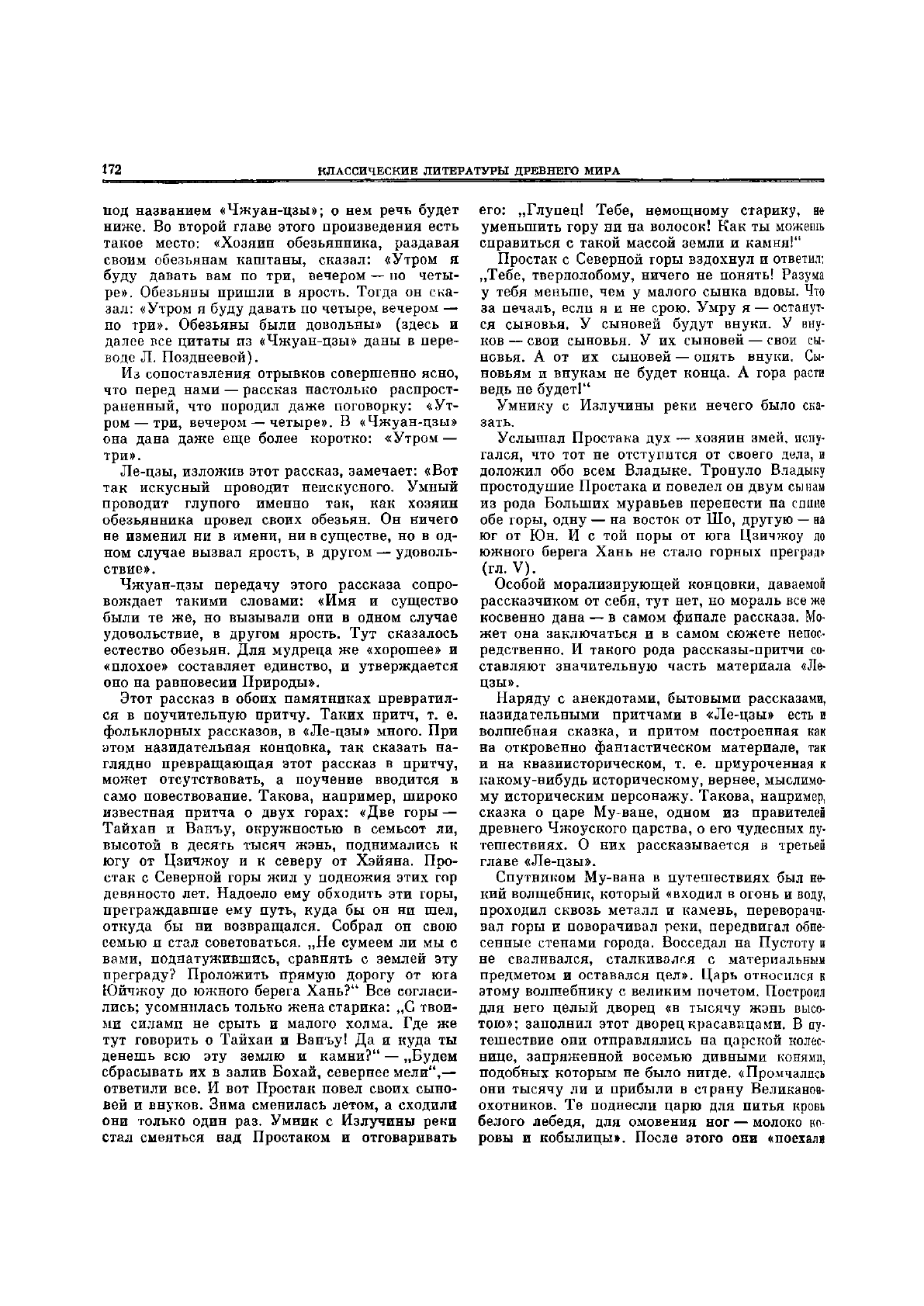
172
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
под названием «Чжуан-цзы»; о нем речь будет
ниже. Во второй главе этого произведения есть
такое место: «Хозяин обезьянника, раздавая
своим обезьянам каштаны, сказал: «Утром я
буду давать вам по три, вечером — но четы-
ре». Обезьяны пришли в ярость. Тогда он ска-
зал: «Утром я буду давать по четыре, вечером —
по три». Обезьяны были довольны» (здесь и
далее все цитаты из «Чжуан-цзы» даны в пере-
воде JI. Позднеевой).
Из сопоставления отрывков совершенно ясно,
что перед нами — рассказ настолько распрост-
раненный, что породил даже поговорку: «Ут-
ром— три, вечером — четыре». В «Чжуан-цзы»
она дана даже еще более коротко: «Утром —
три».
JIe-цзы, изложив этот рассказ, замечает: «Вот
так искусный проводит неискусного. Умный
проводит глупого именно так, как хозяин
обезьянника провел своих обезьян. Он ничего
не изменил ни в имени, ни в существе, но в од-
ном случае вызвал ярость, в другом — удоволь-
ствие».
Чжуан-цзы передачу этого рассказа сопро-
вождает такими словами: «Имя и существо
были те же, но вызывали они в одном случае
удовольствие, в другом ярость. Тут сказалось
естество обезьян. Для мудреца же «хорошее» и
«плохое» составляет единство, и утверждается
оно на равновесии Природы».
Этот рассказ в обоих памятниках превратил-
ся в поучительную притчу. Таких притч, т. е.
фольклорных рассказов, в «Ле-цзы» много. При
этом назидательная концовка, так сказать на-
глядно превращающая этот рассказ в притчу,
может отсутствовать, а поучение вводится в
само повествование. Такова, например, широко
известная притча о двух горах: «Две горы —
Тайхан и Ванъу, окружностью в семьсот ли,
высотой в десять тысяч жэнь, поднимались к
югу от Цзичжоу и к северу от Хэйяна. Про-
стак с Северной горы жил у подножия этих гор
девяносто лет. Надоело ему обходить эти горы,
преграждавшие ему путь, куда бы он ни шел,
откуда бы ни возвращался. Собрал он свою
семью и стал советоваться. „Не сумеем ли мы с
вами, поднатужившись, сравнять с землей эту
преграду? Проложить прямую дорогу от юга
Юйчжоу до южного берега Хань?" Все согласи-
лись; усомнилась только жена старика: „С твои-
ми силами не срыть и малого холма. Где же
тут говорить о Тайхан и Ванъу! Да и куда ты
денешь всю эту землю и камни?" — „Будем
сбрасывать их в залив Бохай, севернее мели",—
ответили все. И вот Простак повел своих сыно-
вей и внуков. Зима сменилась летом, а сходили
они только один раз. Умник с Излучины реки
стал смеяться над Простаком и отговаривать
его: „Глупец! Тебе, немощному старику, не
уменьшить гору ни на волосок! Как ты можешь
справиться с такой массой земли и камня!"
Простак с Северной горы вздохнул и ответил:
„Тебе, твердолобому, ничего не понять! Разума
у тебя меньше, чем у малого сынка вдовы. Что
за печаль, если я и не срою. Умру я — останут-
ся сыновья. У сыновей будут внуки. У вну-
ков — свои сыновья. У их сыновей — свои сы-
новья. А от их сыновей — опять внуки. Сы-
новьям и внукам не будет конца. А гора расти
ведь не будет!"
Умнику с Излучины реки нечего было ска-
зать.
Услышал Простака дух — хозяин змей, испу-
гался, что тот не отступится от своего дела, и
доложил обо всем Владыке. Тронуло Владыку
простодушие Простака и повелел он двум сынам
из рода Больших муравьев перенести на спине
обе горы, одну — на восток от Шо, другую
— на
юг от Юн. И с той поры от юга Цзичжоу до
южного берега Хань не стало горных преград»
(гл. V).
Особой морализирующей концовки, даваемой
рассказчиком от себя, тут нет, но мораль все же
косвенно дана — в самом финале рассказа. Мо-
жет она заключаться и в самом сюжете непос-
редственно. И такого рода рассказы-притчи со-
ставляют значительную часть материала «JIe-
цзы».
Наряду с анекдотами, бытовыми рассказами,
назидательными притчами в «Ле-цзы» есть и
волшебная сказка, и притом построенная как
на откровенно фантастическом материале, так
и на квазиисторическом, т. е. приуроченная к
какому-нибудь историческому, вернее, мыслимо-
му историческим персонажу. Такова, например,
сказка о царе Му-ване, одном из правителей
древнего Чжоуского царства, о его чудесных пу-
тешествиях. О них рассказывается в третьей
главе «Ле-цзы».
Спутником Му-вана в путешествиях был не-
кий волшебник, который «входил в огонь и воду,
проходил сквозь металл и камень, переворачи-
вал горы и поворачивал реки, передвигал обне-
сенные стенами города. Восседал на Пустоту и
не сваливался, сталкивался с материальным
предметом и оставался цел». Царь относился к
этому волшебнику с великим почетом. Построил
для него целый дворец «в тысячу жэнь высо-
тою»; заполнил этот дворец красавицами. В пу-
тешествие они отправлялись на царской колес-
нице, запряженной восемью дивными конями,
подобных которым не было нигде. «Промчались
они тысячу ли и прибыли в страну Великанов-
охотников. Те поднесли царю для питья кровь
белого лебедя, для омовения ног — молоко ко-
ровы и кобылицы». После этого они «поехали
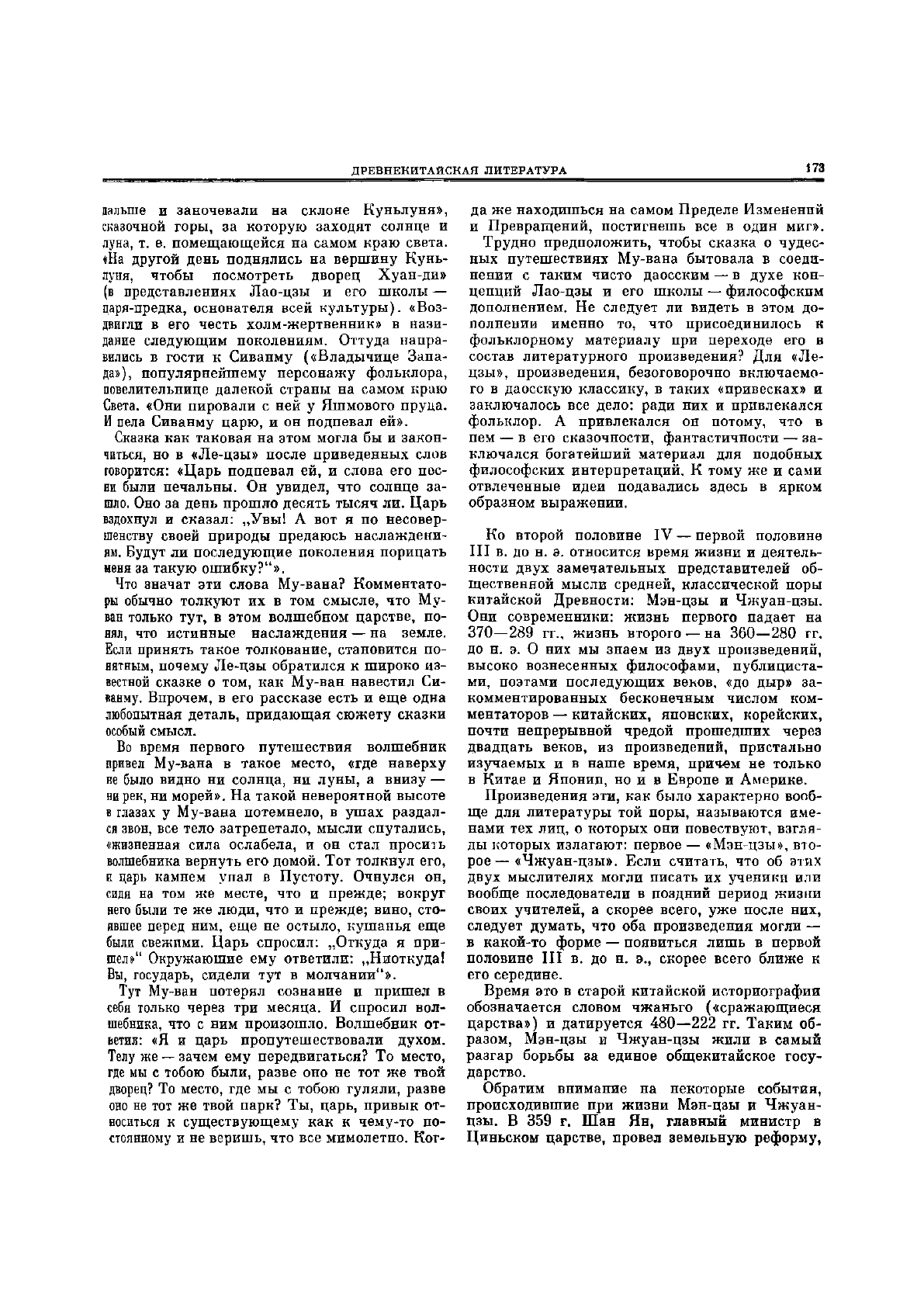
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
дальше и заночевали на склоне Куньлуня»,
сказочной горы, за которую заходят солнце и
луна, т. е. помещающейся на самом краю света.
«На другой день поднялись на вершину Кунь-
луня, чтобы посмотреть дворец Хуан-ди»
(в представлениях Лао-цзы и его школы —
царя-предка, основателя всей культуры). «Воз-
двигли в его честь холм-жертвенник» в нази-
дание следующим поколениям. Оттуда напра-
вились в гости к Сиванму («Владычице Запа-
да»), популярнейшему персонажу фольклора,
повелительнице далекой страны на самом краю
Света. «Они пировали с ней у Яшмового пруда.
И
пела Сиванму царю, и он подпевал ей».
Сказка как таковая на этом могла бы и закон-
читься, но в «Ле-цзы» после приведенных слов
говорится: «Царь подпевал ей, и слова его пес-
ни были печальны. Он увидел, что солнце за-
шло. Оно за день прошло десять тысяч ли. Царь
вздохнул и сказал: „Увы! А вот я по несовер-
шенству своей природы предаюсь наслаждени-
ям. Будут ли последующие поколения порицать
меня за такую ошибку?
44
».
Что значат эти слова Му-вана? Комментато-
ры обычно толкуют их в том смысле, что Mv-
ван только тут, в этом волшебном царстве, по-
нял, что истинные наслаждения — на земле.
Если принять такое толкование, становится по-
нятным, почему Ле-цзы обратился к широко из-
вестной сказке о том, как Му-ван навестил Си-
ванму. Впрочем, в его рассказе есть и еще одна
любопытная деталь, придающая сюжету сказки
особый смысл.
Во время первого путешествия волшебник
привел Му-вана в такое место, «где наверху
не было видно ни солнца, ни луны, а внизу —
ни
рек, ни морей». На такой невероятной высоте
в глазах у Му-вана потемнело, в ушах раздал-
ся звон, все тело затрепетало, мысли спутались,
«жизненная сила ослабела, и он стал просить
волшебника вернуть его домой. Тот толкнул его,
и царь камнем упал в Пустоту. Очнулся он,
сидя на том же месте, что и прежде; вокруг
него были те же люди, что и прежде; вино, сто-
явшее перед ним, еще не остыло, кушанья еще
были свежими. Царь спросил: „Откуда я при-
шел»
4
' Окружающие ему ответили: „Ниоткуда!
Вы, государь, сидели тут в молчании
44
».
Тут Му-ван потерял сознание и пришел в
себя только через три месяца. И спросил вол-
шебника, что с ним произошло. Волшебник от-
ветил: «Я и царь пропутешествовали духом.
Телу же
—
зачем ему передвигаться? То место,
где мы с тобою были, разве оно не тот же твой
дворец? То место, где мы с тобою гуляли, разве
оно не тот же твой парк? Ты, царь, привык от-
носиться к существующему как к чему-то по-
стоянному и не веришь, что все мимолетно. Ког-
да же находишься на самом Пределе Изменений
и Превращений, постигнешь все в один миг».
Трудно предположить, чтобы сказка о чудес-
ных путешествиях Му-вана бытовала в соеди-
нении с таким чисто даосским — в духе кон-
цепций Лао-цзы и его школы — философским
дополнением. Не следует ли видеть в этом до-
полнении именно то, что присоединилось к
фольклорному материалу при переходе его в
состав литературного произведения? Для «Ле-
цзы», произведения, безоговорочно включаемо-
го в даосскую классику, в таких «привесках» и
заключалось все дело: ради них и привлекался
фольклор. А привлекался он потому, что в
пем — в его сказочности, фантастичности — за-
ключался богатейший материал для подобных
философских интерпретаций. К тому же и сами
отвлеченные идеи подавались здесь в ярком
образном выражении.
Ко второй половине IV — первой половине
III в. до н. э. относится время жизни и деятель-
ности двух замечательных представителей об-
щественной мысли средней, классической поры
китайской Древности: Мэн-цзы и Чжуан-цзы.
Они современники: жизнь первого падает на
370—289 гг., жизнь второго —на 360—280 гг.
до н. э. О них мы знаем из двух произведений,
высоко вознесенных философами, публициста-
ми, поэтами последующих веков, «до дыр» за-
комментированных бесконечным числом ком-
ментаторов — китайских, японских, корейских,
почти непрерывной чредой прошедших через
двадцать веков, из произведений, пристально
изучаемых и в наше время, причем не только
в Китае и Японии, но и в Европе и Америке.
Произведения эти, как было характерно вооб-
ще для литературы той поры, называются име-
нами тех лиц, о которых они повествуют, взгля-
ды которых излагают: первое — «Мэн-цзы», вто-
рое— «Чжуан-цзы». Если считать, что об этих
двух мыслителях могли писать их ученики или
вообще последователи в поздний период жизни
своих учителей, а скорее всего, уже после них,
следует думать, что оба произведения могли —
в какой-то форме — появиться лишь в первой
половине III в. до н. э., скорее всего ближе к
его середине.
Время это в старой китайской историографии
обозначается словом чжаньго («сражающиеся
царства») и датируется 480—222 гг. Таким об-
разом, Мэн-цзы и Чжуан-цзы жили в самый
разгар борьбы за единое общекитайское госу-
дарство.
Обратим внимание на некоторые события,
происходившие при жизни Мэн-цзы и Чжуан-
цзы. В 359 г. Шан Ян, главный министр в
Циньском царстве, провел земельную реформу,
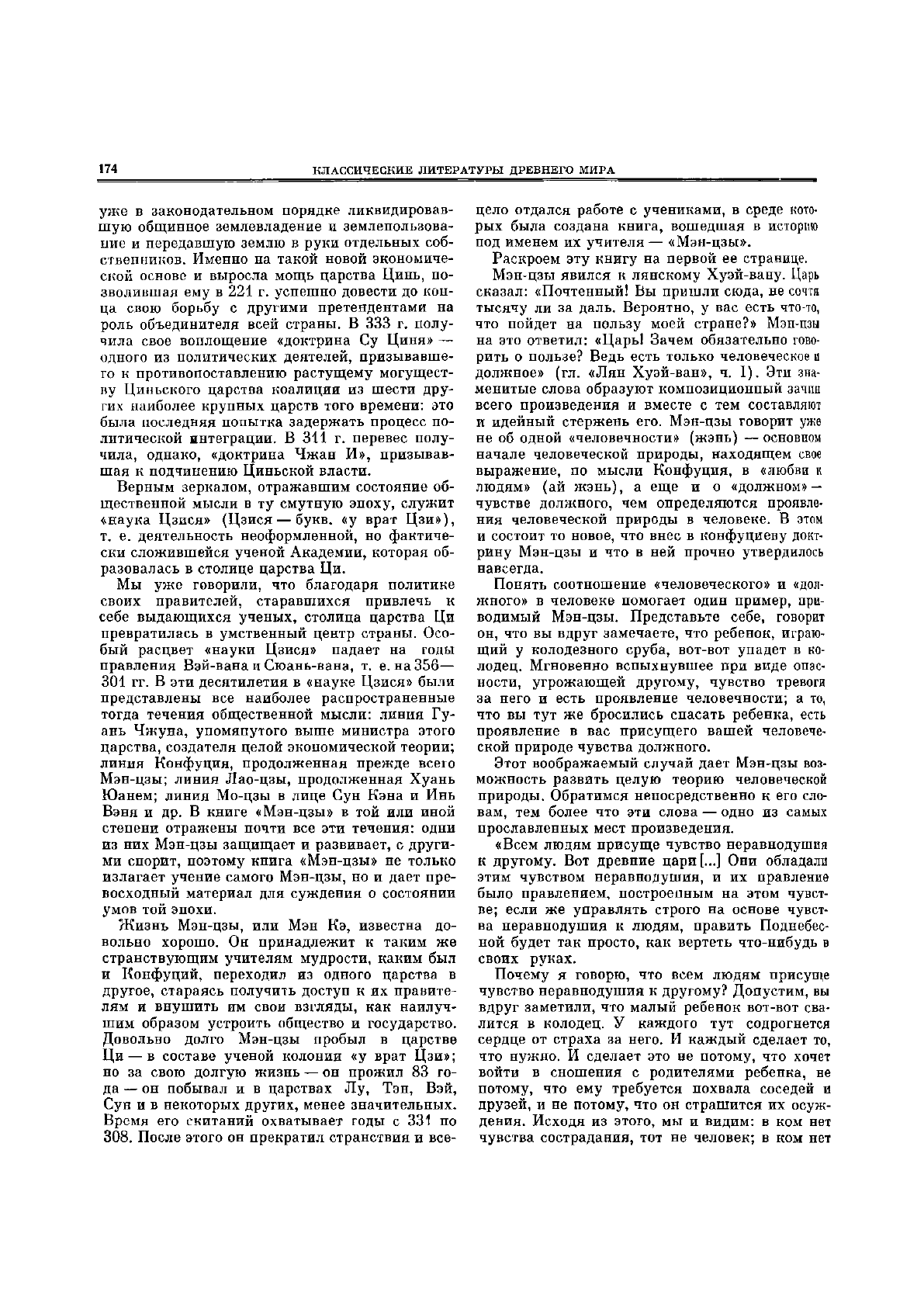
174
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
уже в законодательном порядке ликвидировав-
шую общинное землевладение и землепользова-
ние и передавшую землю в руки отдельных соб-
ственников. Именно на такой новой экономиче-
ской основе и выросла мощь царства Цинь, по-
зволившая ему в 221 г. успешно довести до кон-
ца свою борьбу с другими претендентами на
роль объединителя всей страны. В 333 г. полу-
чила свое воплощение «доктрина Су Циня» —
одного из политических деятелей, призывавше-
го к противопоставлению растущему могущест-
ву Циньского царства коалиции из шести дру-
гих наиболее крупных царств того времени: это
была последняя попытка задержать процесс по-
литической интеграции. В 311 г. перевес полу-
чила, однако, «доктрина Чжан И», призывав-
шая к подчинению Циньской власти.
Верным зеркалом, отражавшим состояние об-
щественной мысли в ту смутную эпоху, служит
«наука Цзися» (Цзися — букв, «у врат Цзи»),
т. е. деятельность неоформленной, но фактиче-
ски сложившейся ученой Академии, которая об-
разовалась в столице царства Ци.
Мы уже говорили, что благодаря политике
своих правителей, старавшихся привлечь к
себе выдающихся ученых, столица царства Ци
превратилась в умственный центр страны. Осо-
бый расцвет «науки Цзися» падает на годы
правления Вэй-вана и Сюань-вана, т. е. на 356—
301 гг. В эти десятилетия в «науке Цзися» были
представлены все наиболее распространенные
тогда течения общественной мысли: линия Гу-
ань Чжуна, упомянутого выше министра этого
царства, создателя целой экономической теории;
линия Конфуция, продолженная прежде всего
Мэн-цзы; линия JIao-цзы, продолженная Хуань
Юанем; линия Мо-цзы в лице Сун Кэна и Инь
Вэня и др. В книге «Мэн-цзы» в той или иной
степени отражены почти все эти течения: одни
из них Мэн-цзы защищает и развивает, с други-
ми спорит, поэтому книга «Мэн-цзы» не только
излагает учение самого Мэн-цзы, но и дает пре-
восходный материал для суждения о состоянии
умов той эпохи.
Жизнь Мэн-цзы, или Мэн Кэ, известна до-
вольно хорошо. Он принадлежит к таким же
странствующим учителям мудрости, каким был
и Конфуций, переходил из одного царства в
другое, стараясь получить доступ к их правите-
лям и внушить им свои взгляды, как наилуч-
шим образом устроить общество и государство.
Довольно долго Мэн-цзы пробыл в царстве
Ци — в составе ученой колонии «у врат Цзи»;
но за свою долгую жизнь — он прожил 83 го-
да — он побывал и в царствах Jly, Тэн, Вэй,
Сун и в некоторых других, менее значительных.
Время его скитаний охватывает годы с 331 по
308. После этого он прекратил странствия и все-
цело отдался работе с учениками, в среде кото-
рых была создана книга, вошедшая в историю
под именем их учителя — «Мэи-цзы».
Раскроем эту книгу на первой ее странице.
Мэн-цзы явился к лянскому Хуэй-вану. Царь
сказал: «Почтенный! Вы пришли сюда, не сочтя
тысячу ли за даль. Вероятно, у вас есть что-то,
что пойдет на пользу моей стране?» Мэн-цзы
на это ответил: «Царь! Зачем обязательно гово-
рить о пользе? Ведь есть только человеческое
и
должное» (гл. «Лян Хуэй-ван», ч. I). Эти зна-
менитые слова образуют композиционпый зачин
всего произведения и вместе с тем составляют
и идейный стержень его. Мэн-цзы говорит уже
не об одной «человечности» (жэнь) — основном
начале человеческой природы, находящем свое
выражение, по мысли Конфуция, в «любви к
людям» (ай жэнь), а еще и о «должном»
—
чувстве должного, чем определяются проявле-
ния человеческой природы в человеке. В этом
и состоит то новое, что внес в конфуциеву докт-
рину Мэн-цзы и что в ней прочно утвердилось
навсегда.
Понять соотношение «человеческого» и «дол-
жного» в человеке помогает один пример, при-
водимый Мэн-цзы. Представьте себе, говорит
он, что вы вдруг замечаете, что ребенок, играю-
щий у колодезного сруба, вот-вот упадет в ко-
лодец. Мгновенно вспыхнувшее при виде опас-
ности, угрожающей другому, чувство тревоги
за него и есть проявление человечности; а то,
что вы тут же бросились спасать ребенка, есть
проявление в вас присущего вашей человече-
ской природе чувства должного.
Этот воображаемый случай дает Мэн-цзы воз-
можность развить целую теорию человеческой
природы. Обратимся непосредственно к его сло-
вам, тем более что эти слова — одно из самых
прославленных мест произведения.
«Всем людям присуще чувство неравнодушия
к другому. Вот древние цари[...] Они обладали
этим чувством неравнодушия, и их правление
было правлением, построенным на этом чувст-
ве; если же управлять строго на основе чувст-
ва неравнодушия к людям, править Поднебес-
ной будет так просто, как вертеть что-нибудь в
своих руках.
Почему я говорю, что всем людям присуще
чувство неравнодушия к другому? Допустим, вы
вдруг заметили, что малый ребенок вот-вот сва-
лится в колодец. У каждого тут содрогнется
сердце от страха за него. И каждый сделает то,
что нужно. И сделает это не потому, что хочет
войти в сношения с родителями ребенка, не
потому, что ему требуется похвала соседей и
друзей, и не потому, что он страшится их осуж-
дения. Исходя из этого, мы и видим: в ком нет
чувства сострадания, тот не человек; в ком нет
