Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

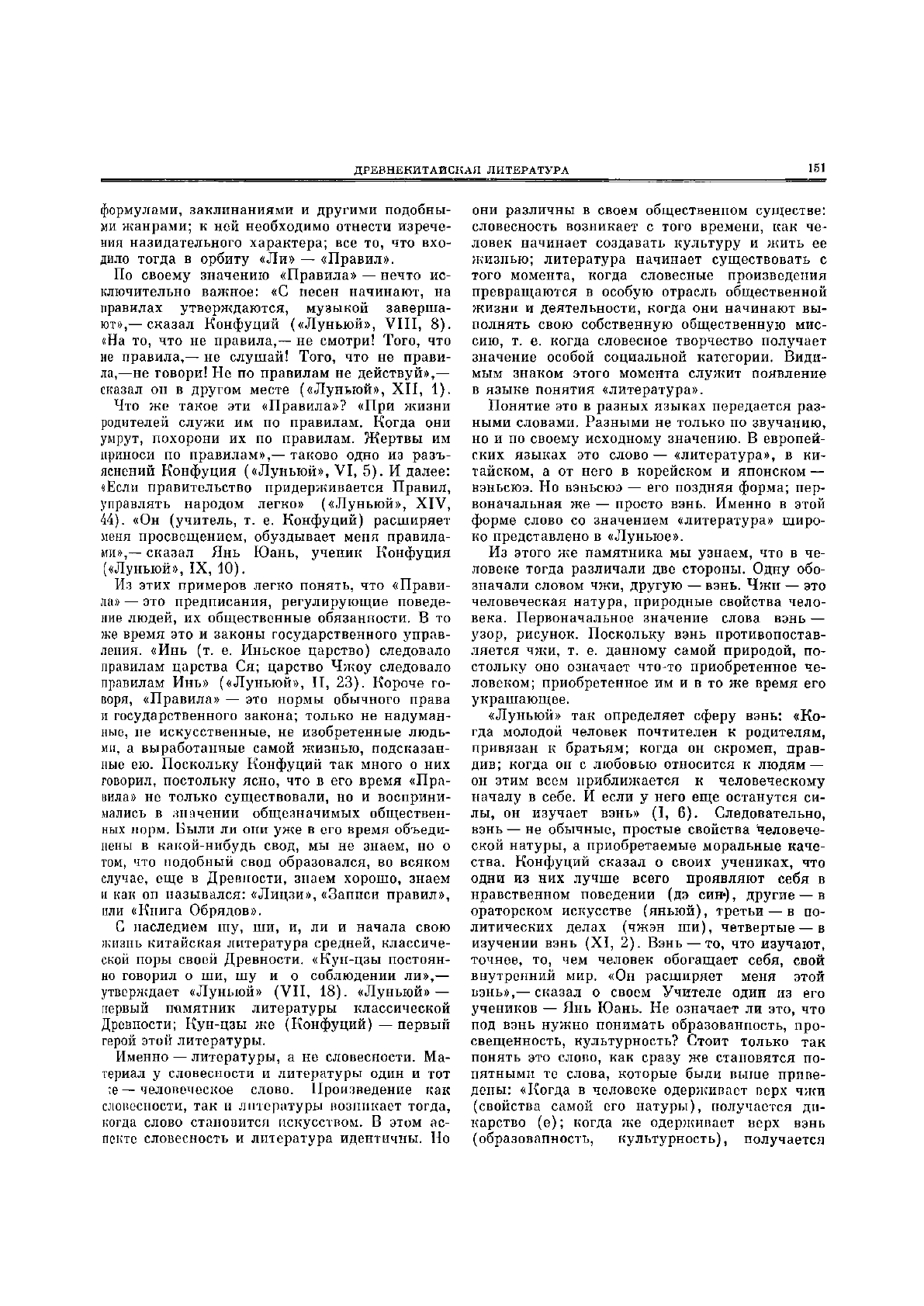
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
формулами, заклинаниями и другими подобны-
ми жанрами; к ней необходимо отнести изрече-
ния назидательного характера; все то, что вхо-
дило тогда в орбиту «Ли» — «Правил».
По своему значению «Правила» — нечто ис-
ключительно важное: «С песен начинают, на
правилах утверждаются, музыкой заверша-
ют»,—сказал Конфуций («Луныой», VIII, 8).
«На то, что не правила,— не смотри! Того, что
не правила,— не слушай! Того, что не прави-
ла,—не говори! Не по правилам не действуй»,—
сказал он в другом месте («Луныой», XII, 1).
Что же такое эти «Правила»? «При жизни
родителей служи им по правилам. Когда они
умрут, похорони их по правилам. Жертвы им
приноси по правилам»,— таково одно из разъ-
яснений Конфуция («Луньюй», VI, 5). И далее:
«Если правительство придерживается Правил,
управлять народом легко» («Луньюй», XIV,
44). «Он (учитель, т. е. Конфуций) расширяет
меня просвещением, обуздывает меня правила-
ми»,— сказал Янь Юань, ученик Конфуция
(«Луныой», IX, 10).
Из этих примеров легко понять, что «Прави-
ла» — это предписания, регулирующие поведе-
ние людей, их общественные обязанности. В то
же время это и законы государственного управ-
ления. «Инь (т. е. Иньское царство) следовало
правилам царства Ся; царство Чжоу следовало
правилам Инь» («Луньюй», II, 23). Короче го-
воря, «Правила» — это нормы обычного права
и государственного закона; только не надуман-
ные, не искусственные, не изобретенные людь-
ми, а выработанные самой жизнью, подсказан-
ные ею. Поскольку Конфуций так много о них
говорил, постольку ясно, что в его время «Пра-
вила» не только существовали, но и восприни-
мались в значении общезначимых обществен-
ных норм. Были ли они уже в его время объеди-
нены в какой-нибудь свод, мы не знаем, но о
том, что подобный свод образовался, во всяком
случае, еще в Древности, знаем хорошо, знаем
и как оп назывался: «Лицзи», «Записи правил»,
или «Книга Обрядов».
С наследием шу, ши, и, ли и начала свою
жизнь китайская литература средней, классиче-
ской поры своей Древности. «Кун-цзы постоян-
но говорил о ши, шу и о соблюдении ли»,—
утверждает «Луныой» (VII, 18). «Луньюй» —
первый памятник литературы классической
Древности; Кун-цзы же (Конфуций) —первый
герой этой литературы.
Именно — литературы, а не словесности. Ма-
териал у словесности и литературы один и тот
;е
—
человеческое слово. Произведение как
словесности, так и литературы возникает тогда,
когда слово становится искусством. В этом ас-
пекте словесность и литература идентичны. Но
они различны в своем общественном существе:
словесность возникает с того времени, как че-
ловек начинает создавать культуру и жить ее
жизнью; литература начинает существовать с
того момента, когда словесные произведения
превращаются в особую отрасль общественной
жизни и деятельности, когда они начинают вы-
полнять свою собственную общественную мис-
сию, т. е. когда словесное творчество получает
значение особой социальной категории. Види-
мым знаком этого момента служит появление
в языке понятия «литература».
Понятие это в разных языках передается раз-
ными словами. Разными не только по звучанию,
но и по своему исходному значению. В европей-
ских языках это слово — «литература», в ки-
тайском, а от него в корейском и японском —
вэньсюэ. Но вэньсюэ — его поздняя форма; пер-
воначальная же — просто вэнь. Именно в этой
форме слово со значением «литература» широ-
ко представлено в «Луньюе».
Из этого же памятника мы узнаем, что в че-
ловеке тогда различали две стороны. Одну обо-
значали словом чжи, другую — вэнь. Чжи — это
человеческая натура, природные свойства чело-
века. Первоначальное значение слова вэнь —
узор, рисунок. Поскольку вэнь противопостав-
ляется чжи, т. е. данному самой природой, по-
стольку оно означает что-то приобретенное че-
ловеком; приобретенное им и в то же время его
украшающее.
«Луньюй» так определяет сферу вэнь: «Ко-
гда молодой человек почтителен к родителям,
привязан к братьям; когда он скромен, прав-
див; когда он с любовыо относится к людям —
он этим всем приближается к человеческому
началу в себе. И если у него еще останутся си-
лы, он изучает вэнь» (I, 6). Следовательно,
вэнь — не обычные, простые свойства человече-
ской натуры, а приобретаемые моральные каче-
ства. Конфуций сказал о своих учениках, что
одни из них лучше всего проявляют себя в
нравственном поведении (дэ син«), другие — в
ораторском искусстве (яньюй), третьи — в по-
литических делах (чжэн ши), четвертые — в
изучении вэнь (XI, 2). Вэнь — то, что изучают,
точнее, то, чем человек обогащает себя, свой
внутренний мир. «Он расширяет меня этой
вэнь»,— сказал о своем Учителе один из его
учеников — Янь Юань. Не означает ли это, что
под вэнь нужно понимать образованность, про-
свещенность, культурность? Стоит только так
понять это слово, как сразу же становятся по-
пятными те слова, которые были выше приве-
дены: «Когда в человеке одерживает верх чжи
(свойства самой его натуры), получается ди-
карство (е); когда же одерживает верх вэнь
(образованность, культурность), получается
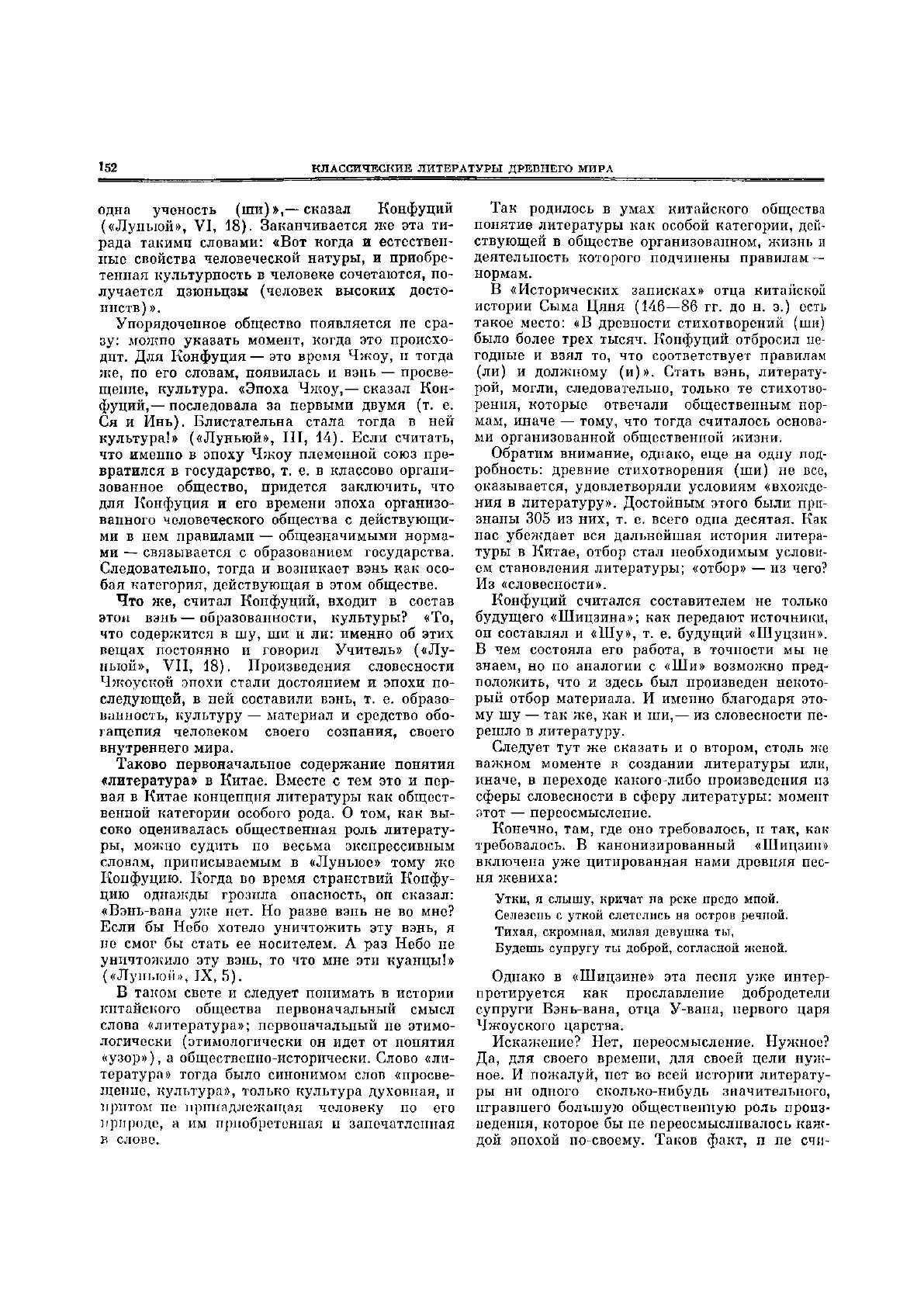
152
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
одна ученость (ши)»,— сказал Конфуций
(«Луныой», VI, 18). Заканчивается же эта ти-
рада такими словами: «Вот когда и естествен-
ные свойства человеческой натуры, и приобре-
тенная культурность в человеке сочетаются, по-
лучается цзюньцзы (человек высоких досто-
инств) ».
Упорядоченное общество появляется не сра-
зу: можпо указать момент, когда это происхо-
дит. Для Конфуция — это время Чжоу, и тогда
же, по его словам, появилась и вэнь — просве-
щение, культура. «Эпоха Чжоу,— сказал Кон-
фуций,— последовала за первыми двумя (т. е.
Ся и Инь). Блистательна стала тогда в ней
культура!» («Луныой», III, 14). Если считать,
что именно в эпоху Чжоу племенной союз пре-
вратился в государство, т. е. в классово органи-
зованное общество, придется заключить, что
для Конфуция и его времени эпоха организо-
ванного человеческого общества с действующи-
ми в нем правилами — общезначимыми норма-
ми — связывается с образованием государства.
Следовательно, тогда и возникает вэнь как осо-
бая категория, действующая в этом обществе.
Что же, считал Конфуций, входит в состав
этой вэнь — образованности, культуры? «То,
что содержится в шу, ши и ли: именно об этих
вещах постоянно и говорил Учитель» («Лу-
ныой», VII, 18). Произведения словесности
Чжоуской эпохи стали достоянием и эпохи по-
следующей, в ней составили вэнь, т. е. образо-
ванность, культуру — материал и средство обо-
гащения человеком своего сознания, своего
внутреннего мира.
Таково первоначальное содержание понятия
«литература» в Китае. Вместе с тем это и пер-
вая в Китае концепция литературы как общест-
венной категории особого рода. О том, как вы-
соко оценивалась общественная роль литерату-
ры, можно судить по весьма экспрессивным
словам, приписываемым в «Луныое» тому же
Конфуцию. Когда во время странствий Конфу-
цию однажды грозила опасность, он сказал:
«Вэнь-вана уже нет. Но разве вэнь не во мне?
Если бы Небо хотело уничтожить эту вэнь, я
не смог бы стать ее носителем. А раз Небо не
уничтожило эту вэнь, то что мне эти куанцы!»
(«Луныой», IX, 5).
В таком свете и следует понимать в истории
китайского общества первоначальный смысл
слова «литература»; первоначальный не этимо-
логически (этимологически он идет от попятия
«узор»), а общественно-исторически. Слово «ли-
тература» тогда было синонимом слов «просве-
щение, культура», только культура духовная, и
притом ие принадлежащая человеку по его
природе, а им приобретенная и запечатленная
в слове.
Так родилось в умах китайского общества
понятие литературы как особой категории, дей-
ствующей в обществе организованном, жизнь и
деятельность которого подчинены правилам
—
нормам.
В «Исторических записках» отца китайской
истории Сыма Цяня (146—86 гг. до н. э.) есть
такое место: «В древности стихотворений (ши)
было более трех тысяч. Конфуций отбросил не-
годные и взял то, что соответствует правилам
(ли) и должному (и)». Стать вэнь, литерату-
рой, могли, следовательно, только те стихотво-
рения, которые отвечали общественным нор-
мам, иначе — тому, что тогда считалось основа-
ми организованной общественной жизни.
Обратим внимание, однако, еще на одну под-
робность: древние стихотворения (ши) не все,
оказывается, удовлетворяли условиям «вхожде-
ния в литературу». Достойным этого были при-
знаны 305 из них, т. е. всего одна десятая. Как
нас убеждает вся дальнейшая история литера-
туры в Китае, отбор стал необходимым услови-
ем становления литературы; «отбор» — из чего?
Из «словесности».
Конфуций считался составителем не только
будущего «Шицзина»; как передают источники,
он составлял и «Шу», т. е. будущий «Шуцзин».
В чем состояла его работа, в точности мы не
знаем, но по аналогии с «Ши» возможно пред-
положить, что и здесь был произведен некото-
рый отбор материала. И именно благодаря это-
му шу — так же, как и ши,— из словесности пе-
решло в литературу.
Следует тут же сказать и о втором, столь же
важном моменте в создании литературы или,
иначе, в переходе какого-либо произведения из
сферы словесности в сферу литературы: момент
этот — переосмысление.
Конечно, там, где оно требовалось, и так, как
требовалось. В канонизированный «Шицзин»
включена уже цитированная нами древняя пес-
ня жениха:
Утки, я слышу, кричат на реке предо мной.
Селезень с уткой слетелись на остров речной.
Тихая, скромная, милая девушка ты,
Будешь супругу ты доброй, согласной женой.
Однако в «Шицзине» эта песня уже интер-
претируется как прославление добродетели
супруги Вэнь-вана, отца У-вана, первого царя
Чжоуского царства.
Искажение? Нет, переосмысление. Нужное?
Да, для своего времени, для своей цели нуж-
ное. И пожалуй, нет во всей истории литерату-
ры ни одного сколько-нибудь значительного,
игравшего большую общественную роль произ-
ведения, которое бы пе переосмысливалось каж-
дой эпохой по-своему. Таков факт, и пе ечн-
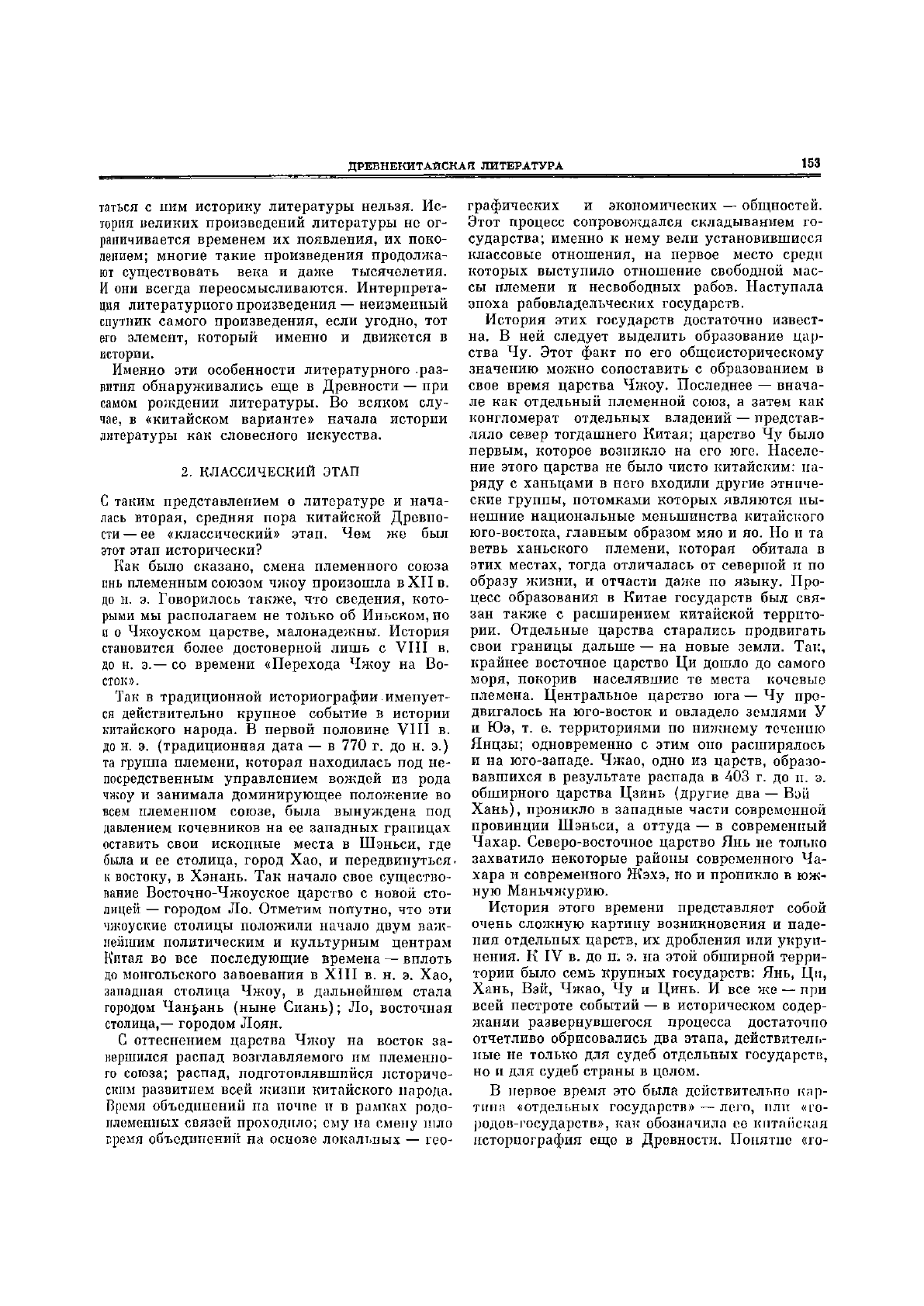
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
таться с ним историку литературы нельзя. Ис-
тория великих произведений литературы не ог-
раничивается временем их появления, их поко-
лением; многие такие произведения продолжа-
ют существовать века и даже тысячелетия.
И они всегда переосмысливаются. Интерпрета-
ция литературного произведения — неизменный
спутник самого произведения, если угодно, тот
его элемент, который именно и движется в
истории.
Именно эти особенности литературного раз-
вития обнаруживались еще в Древности — при
самом рождении литературы. Во всяком слу-
чае, в «китайском варианте» начала истории
литературы как словесного искусства.
2. КЛАССИЧЕСКИЙ ЭТАП
С таким представлением о литературе и нача-
лась вторая, средняя пора китайской Древно-
сти
—
ее «классический» этап. Чем же был
этот этап исторически?
Как было сказано, смена племенного союза
инь племенным союзом чжоу произошла в XII в.
до н. э. Говорилось также, что сведения, кото-
рыми мы располагаем не только об Иньском,но
и о Чжоуском царстве, малонадежны. История
становится более достоверной лишь с VIII в.
до н. э.— со времени «Перехода Чжоу на Во-
сток».
Так в традиционной историографии именует-
ся действительно крупное событие в истории
китайского народа. В первой половине VIII в.
до н. э. (традиционная дата — в 770 г. до н. э.)
та группа племени, которая находилась под не-
посредственным управлением вождей из рода
чжоу и занимала доминирующее положение во
всем племенном союзе, была вынуждена под
давлением кочевников на ее западных границах
оставить свои исконные места в Шэньси, где
была и ее столица, город Хао, и передвинуться,
к востоку, в Хэнань. Так начало свое существо-
вание Восточно-Чжоуское царство с новой сто-
лицей — городом Ло. Отметим попутно, что эти
чжоуские столицы положили начало двум важ-
нейшим политическим и культурным центрам
Китая во все последующие времена — вплоть
до монгольского завоевания в XIII в. н. э. Хао,
западная столица Чжоу, в дальнейшем стала
городом Чан^ань (ныне Сиань); Ло, восточная
столица,— городом Лоян.
С оттеснением царства Чжоу на восток за-
вершился распад возглавляемого им племенно-
го союза; распад, подготовлявшийся историче-
ским развитием всей жизни китайского народа.
Время объединений на почве и в рамках родо-
нлеменных связей проходило; ему на смену шло
время объединений на основе локальных — гео-
графических и экономических — общностей.
Этот процесс сопровождался складыванием го-
сударства; именно к нему вели установившиеся
классовые отношения, на первое место среди
которых выступило отношение свободной мас-
сы племени и несвободных рабов. Наступала
эпоха рабовладельческих государств.
История этих государств достаточно извест-
на. В ней следует выделить образование цар-
ства Чу. Этот факт по его общеисторическому
значению можно сопоставить с образованием в
свое время царства Чжоу. Последнее — внача-
ле как отдельный племенной союз, а затем как
конгломерат отдельных владений — представ-
ляло север тогдашнего Китая; царство Чу было
первым, которое возникло на его юге. Населе-
ние этого царства не было чисто китайским: на-
ряду с ханьцами в него входили другие этниче-
ские группы, потомками которых являются ны-
нешние национальные меньшинства китайского
юго-востока, главным образом мяо и яо. Но и та
ветвь ханьского племени, которая обитала в
этих местах, тогда отличалась от северной и по
образу жизни, и отчасти даже по языку. Про-
цесс образования в Китае государств был свя-
зан также с расширением китайской террито-
рии. Отдельные царства старались продвигать
свои границы дальше — на новые земли. Так,
крайнее восточное царство Ци дошло до самого
моря, покорив населявшие те места кочевые
племена. Центральное царство юга — Чу про-
двигалось на юго-восток и овладело землями У
и Юэ, т. е. территориями по нижнему течению
Янцзы; одновременно с этим оно расширялось
и на юго-западе. Чжао, одно из царств, образо-
вавшихся в результате распада в 403 г. до н. э.
обширного царства Цзинь (другие два — Вэй
Хань), проникло в западные части современной
провинции Шэньси, а оттуда — в современный
Чахар. Северо-восточное царство Янь не только
захватило некоторые районы современного Ча-
хара и современного Жэхэ, но и проникло в юж-
ную Маньчжурию.
История этого времени представляет собой
очень сложную картину возникновения и паде-
ния отдельных царств, их дробления или укруп-
нения. К IV в. до II. э. на этой обширной терри-
тории было семь крупных государств: Янь, Ци,
Хань, Вэй, Чжао, Чу и Цинь. И все же — при
всей пестроте событий — в историческом содер-
жании развернувшегося процесса достаточно
отчетливо обрисовались два этапа, действитель-
ные не только для судеб отдельных государств,
но н для судеб страны в целом.
В первое время это была действительно кар-
тина «отдельных государств» — лего, или «го-
родов-государств», как обозначила ее китайская
историография еще в Древности. Понятие «го-
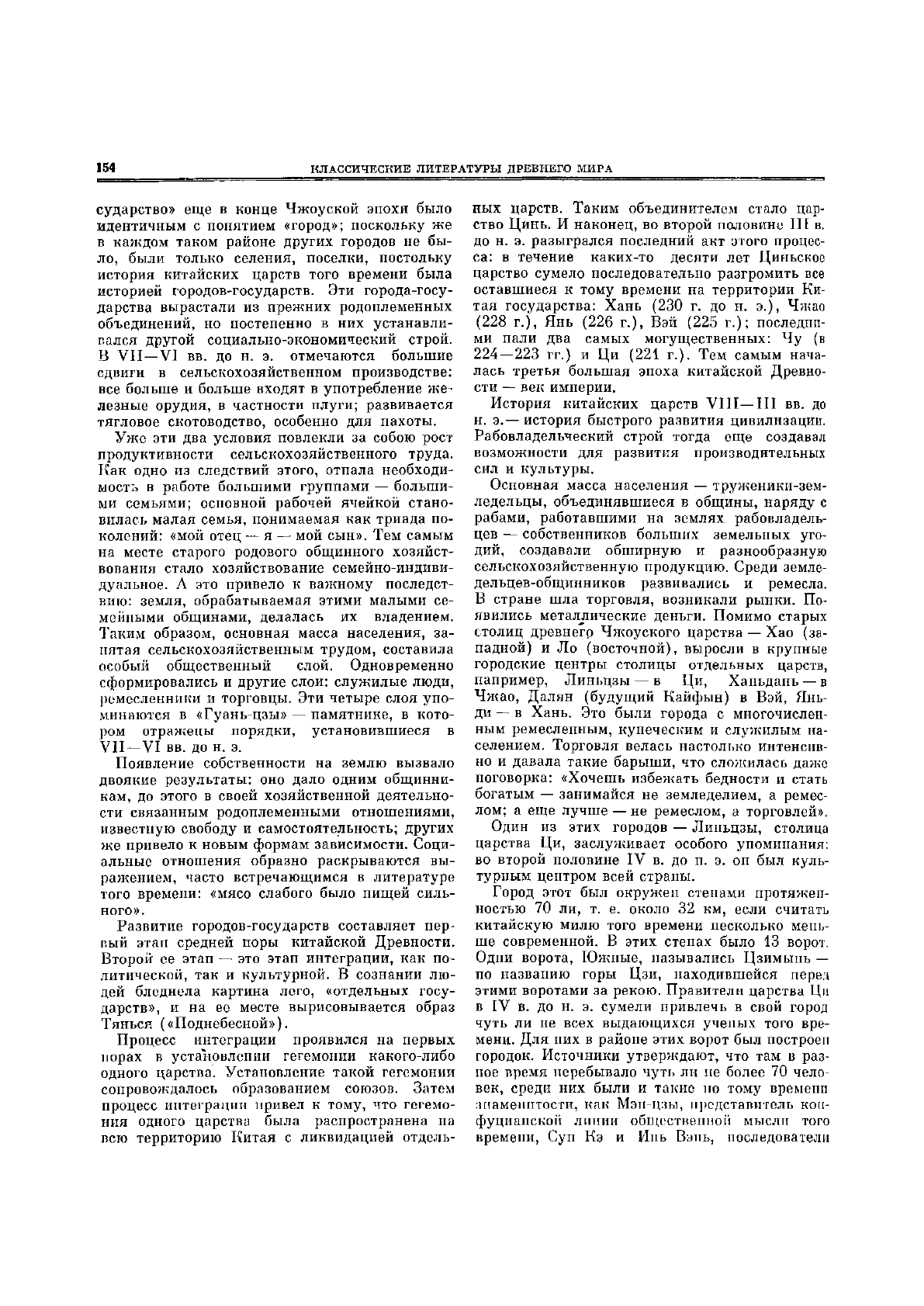
154
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
сударство» еще в конце Чжоуской эпохи было
идентичным с понятием «город»; поскольку же
в каждом таком районе других городов не бы-
ло, были только селения, поселки, постольку
история китайских царств того времени была
историей городов-государств. Эти города-госу-
дарства вырастали из прежних родоплеменных
объединений, но постепенно в них устанавли-
вался другой социально-экономический строй.
В VII—VI вв. до н. э. отмечаются большие
сдвиги в сельскохозяйственном производстве:
все больше и больше входят в употребление же-
лезные орудия, в частности плуги; развивается
тягловое скотоводство, особенно для пахоты.
Уже эти два условия повлекли за собою рост
продуктивности сельскохозяйственного труда.
Как одно из следствий этого, отпала необходи-
мость в работе большими группами — больши-
ми семьями; основной рабочей ячейкой стано-
вилась малая семья, понимаемая как триада по-
колений: «мой отец — я — мой сын». Тем самым
на месте старого родового общинного хозяйст-
вования стало хозяйствование семейно-индиви-
дуальиое. А это привело к важному последст-
вию: земля, обрабатываемая этими малыми се-
мейными общинами, делалась их владением.
Таким образом, основная масса населения, за-
пятая сельскохозяйственным трудом, составила
особый общественный слой. Одновременно
сформировались и другие слои: служилые люди,
ремесленники и торговцы. Эти четыре слоя упо-
минаются в «Гуань-цзы» — памятнике, в кото-
ром отражены порядки, установившиеся в
VII—VI вв. до н. э.
Появление собственности на землю вызвало
двоякие результаты: оно дало одним общинни-
кам, до этого в своей хозяйственной деятельно-
сти связанным родоплеменными отношениями,
известную свободу и самостоятельность; других
же привело к новым формам зависимости. Соци-
альные отношения образно раскрываются вы-
ражением, часто встречающимся в литературе
того времени: «мясо слабого было пищей силь-
ного».
Развитие городов-государств составляет пер-
вый этап средней поры китайской Древности.
Второй ее этап — это этап интеграции, как по-
литической, так и культурной. В сознании лю-
дей бледнела картина лего, «отдельных госу-
дарств», и на ее месте вырисовывается образ
Тянься («Поднебесной»).
Процесс интеграции проявился на первых
порах в установлении гегемонии какого-либо
одного царства. Установление такой гегемонии
сопровождалось образованием союзов. Затем
процесс интеграции привел к тому, что гегемо-
ния одного царства была распространена па
всю территорию Китая с ликвидацией отдель-
ных царств. Таким объединителем стало цар-
ство Цинь. И наконец, во второй половине III в.
до н. э. разыгрался последний акт этого процес-
са: в течение каких-то десяти лет Циньское
царство сумело последовательно разгромить все
оставшиеся к тому времени на территории Ки-
тая государства: Хань (230 г. до н. э.), Чжао
(228 г.), Янь (226 г.), Вэй (225 г.); последни-
ми пали два самых могущественных: Чу (в
224—223 гг.) и Ци (221 г.). Тем самым нача-
лась третья большая эпоха китайской Древно-
сти — век империи.
История китайских царств VIII—III вв. до
н. э.— история быстрого развития цивилизации.
Рабовладельческий строй тогда еще создавал
возможности для развития производительных
сил и культуры.
Основная масса населения — труженики-зем-
ледельцы, объединявшиеся в общины, наряду с
рабами, работавшими на землях рабовладель-
цев — собственников больших земельных уго-
дий, создавали обширную и разнообразную
сельскохозяйственную продукцию. Среди земле-
дельцев-общинников развивались и ремесла.
В стране шла торговля, возникали рынки. По-
явились металлические деньги. Помимо старых
столиц древнего Чжоуского царства — Хао (за-
падной) и JIo (восточной), выросли в крупные
городские центры столицы отдельных царств,
например, Линьцзы — в Ци, Хаиьдань
—
в
Чжао, Далян (будущий Кайфын) в Вэй, Янь-
ди — в Хань. Это были города с многочислен-
ным ремесленным, купеческим и служилым на-
селением. Торговля велась настолько интенсив-
но и давала такие барыши, что сложилась даже
поговорка: «Хочешь избежать бедности и стать
богатым — занимайся не земледелием, а ремес-
лом; а еще лучше — не ремеслом, а торговлей».
Один из этих городов — Линьцзы, столица
царства Ци, заслулшвает особого упоминания:
во второй половине IV в. до н. э. он был куль-
турным центром всей страны.
Город этот был окружен стенами протяжен-
ностью 70 ли, т. е. около 32 км, если считать
китайскую милю того времени несколько мень-
ше современной. В этих стенах было 13 ворот.
Одни ворота, Южные, назывались Цзимынь
—
по названию горы Цзи, находившейся перед
этими воротами за рекою. Правители царства Ци
в IV в. до н. э. сумели привлечь в свой город
чуть ли не всех выдающихся ученых того вре-
мени. Для них в районе этих ворот был построен
городок. Источники утверждают, что там в раз-
ное время перебывало чуть ли ие более 70 чело-
век, среди них были и такие по тому времени
знаменитости, как Мэп-цзы, представитель кон-
фуцианской линии общественной мысли того
времени, Суп Кэ и Инь Вэнь, последователи
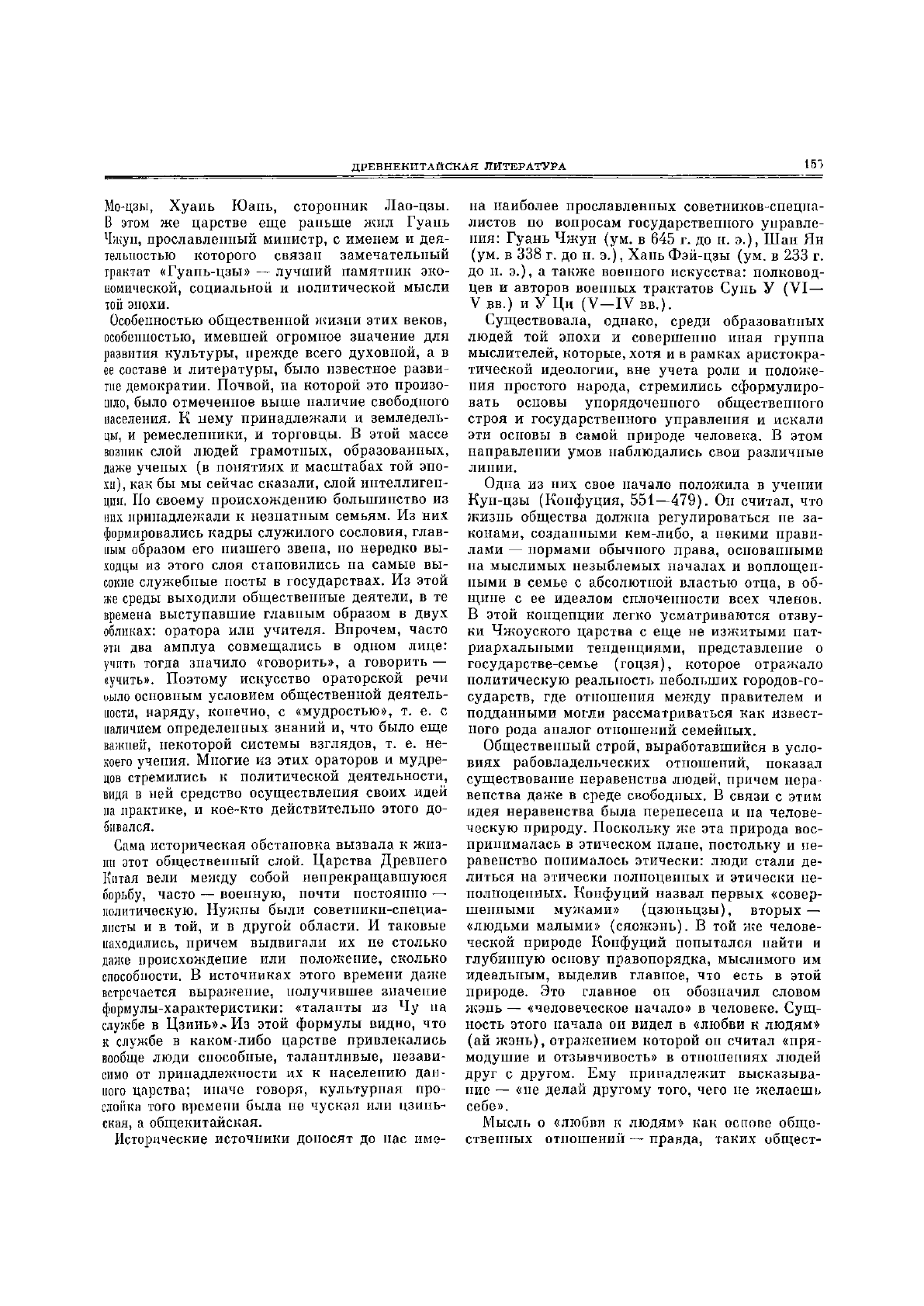
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
Мо-цзы, Хуаиь Юань, сторонник JIao-цзы.
В этом же царстве еще раньше жил Гуань
Чжун, прославленный министр, с именем и дея-
тельностью которого связан замечательный
трактат «Гуапь-цзы» — лучший памятник эко-
номической, социальной и политической мысли
той эпохи.
Особенностью общественной жизни этих веков,
особенностью, имевшей огромное зпачение для
развития культуры, прежде всего духовной, а в
ее составе и литературы, было известное разви-
тие демократии. Почвой, на которой это произо-
шло, было отмеченное выше наличие свободного
населения. К нему принадлежали и земледель-
цы, и ремесленники, и торговцы. В этой массе
возник слой людей грамотных, образованных,
даже ученых (в понятиях и масштабах той эпо-
хи), как бы мы сейчас сказали, слой интеллиген-
ции. По своему происхождению большинство из
них принадлежали к незнатным семьям. Из них
формировались кадры служилого сословия, глав-
ным образом его низшего звена, но нередко вы-
ходцы из этого слоя становились на самые вы-
сокие служебные посты в государствах. Из этой
же среды выходили общественные деятели, в те
времена выступавшие главным образом в двух
обликах: оратора или учителя. Впрочем, часто
эти два амплуа совмещались в одном лице:
учить тогда значило «говорить», а говорить —
«учить». Поэтому искусство ораторской речи
оыло основным условием общественной деятель-
ности, наряду, конечно, с «мудростью», т. е. с
наличием определенных знаний и, что было еще
важней, некоторой системы взглядов, т. е. не-
коего учения. Многие из этих ораторов и мудре-
цов стремились к политической деятельности,
видя в ней средство осуществления своих идей
на практике, и кое-кто действительно этого до-
бивался.
Сама историческая обстановка вызвала к жиз-
ни этот общественный слой. Царства Древнего
Китая вели между собой непрекращавшуюся
борьбу, часто — военную, почти постоянно —
политическую. Нужны были советники-специа-
листы и в той, и в другой области. И таковые
находились, причем выдвигали их ие столько
даже происхождение или положение, сколько
способности. В источниках этого времени даже
встречается выражение, получившее зпачение
формулы-характеристики: «таланты из Чу на
службе в Цзинь»> Из этой формулы видно, что
к службе в каком-либо царстве привлекались
вообще люди способные, талантливые, незави-
симо от принадлежности их к населению дан-
ного царства; иначе говоря, культурная про-
слойка того времени была не чуская или цзинь-
ская, а общекитайская.
Исторические источники доносят до нас име-
на наиболее прославленных советников-специа-
листов по вопросам государственного управле-
ния: Гуань Чжун (ум. в 645 г. до и. э.), Шан Ян
(ум. в 338 г. до н. э.), Хань Фэй-цзы (ум. в 233 г.
до н. э.), а также военного искусства: полковод-
цев и авторов военных трактатов Сунь У (VI—
V вв.) и У Ци (V—IV вв.).
Существовала, однако, среди образованных
людей той эпохи и совершенно иная группа
мыслителей, которые, хотя и в рамках аристокра-
тической идеологии, вне учета роли и положе-
ния простого народа, стремились сформулиро-
вать основы упорядоченного общественного
строя и государственного управления и искали
эти основы в самой природе человека. В этом
направлении умов наблюдались свои различные
линии.
Одна из них свое начало положила в учении
Кун-цзы (Конфуция, 551—479). Он считал, что
жизнь общества должна регулироваться пе за-
конами, созданными кем-либо, а некими прави-
лами — нормами обычного права, основанными
на мыслимых незыблемых началах и воплощен-
ными в семье с абсолютной властью отца, в об-
щине с ее идеалом сплоченности всех членов.
В этой концепции легко усматриваются отзву-
ки Чжоуского царства с еще ие изжитыми пат-
риархальными тенденциями, представление о
государстве-семье (гоцзя), которое отражало
политическую реальность небольших городов-го-
сударств, где отношения между правителем и
подданными могли рассматриваться как извест-
ного рода аналог отношений семейных.
Общественный строй, выработавшийся в усло-
виях рабовладельческих отношений, показал
существование неравенства людей, причем нера-
венства даже в среде свободных. В связи с этим
идея неравенства была перенесена и на челове-
ческую природу. Поскольку же эта природа вос-
принималась в этическом плане, постольку и не-
равенство понималось этически: люди стали де-
литься на этически полноценных и этически не-
полноценных. Конфуций назвал первых «совер-
шенными мужами» (цзюньцзы), вторых —
«людьми малыми» (сяожэнь). В той же челове-
ческой природе Конфуций попытался найти и
глубинную основу правопорядка, мыслимого им
идеальным, выделив главное, что есть в этой
природе. Это главное он обозначил словом
жэнь — «человеческое начало» в человеке. Сущ-
ность этого начала он видел в «любви к людям»
(ай жэнь), отражением которой он считал «пря-
модушие и отзывчивость» в отношениях людей
друг с другом. Ему принадлежит высказыва-
ние — «не делай другому того, чего ие желаешь
себе».
Мысль о «любви к людям» как основе обще-
ственных отношений — правда, таких общест-
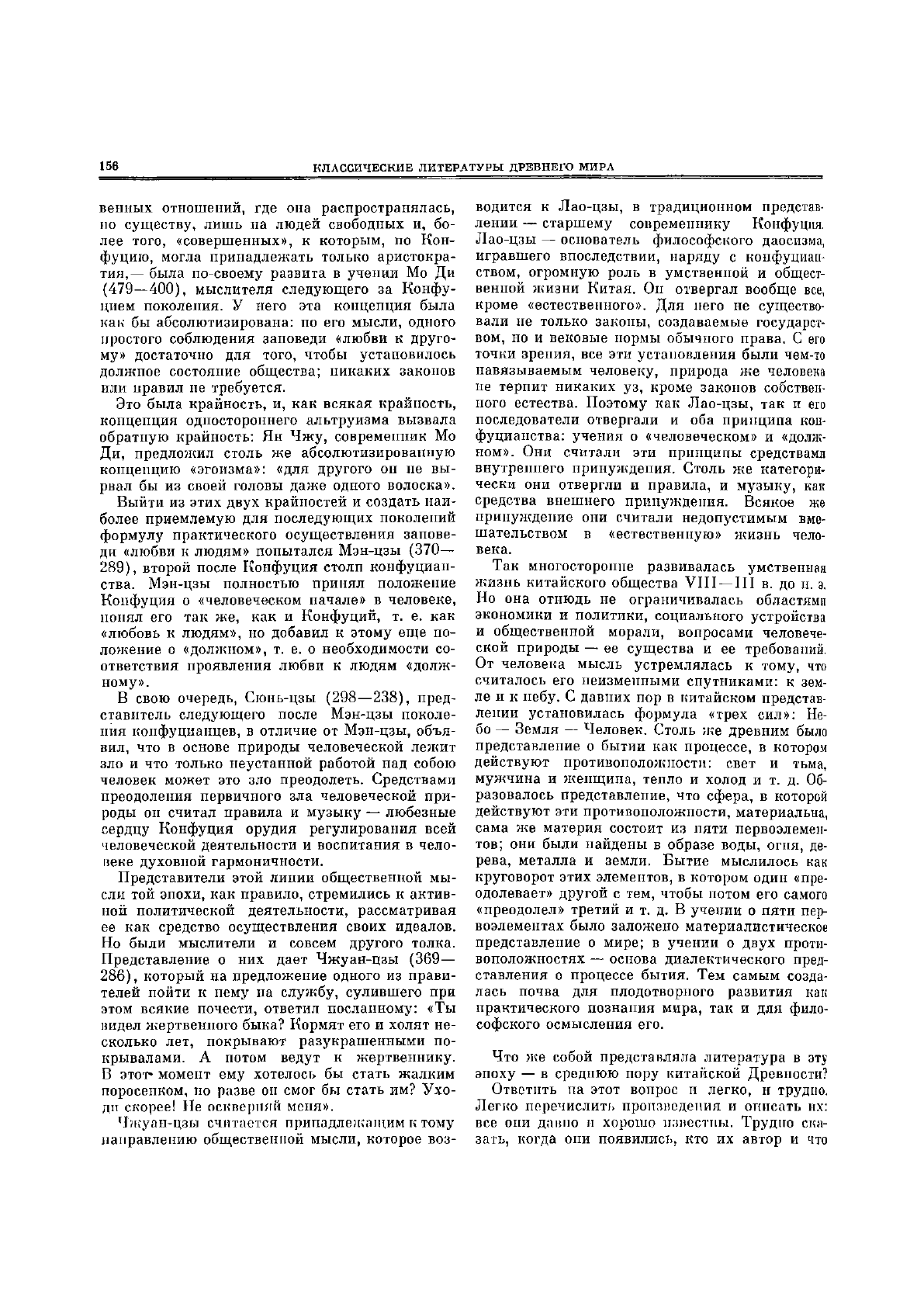
156
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
венных отношений, где она распространялась,
но существу, лишь на людей свободных и, бо-
лее того, «совершенных», к которым, по Кон-
фуцию, могла принадлежать только аристокра-
тия,— была по-своему развита в учении Мо Ди
(479—400), мыслителя следующего за Конфу-
цием поколения. У него эта концепция была
как бы абсолютизирована: по его мысли, одного
простого соблюдения заповеди «любви к друго-
му» достаточно для того, чтобы установилось
должное состояние общества; никаких законов
или правил не требуется.
Это была крайность, и, как всякая крайность,
концепция одностороннего альтруизма вызвала
обратную крайность: Ян Чжу, современник Мо
Ди, предложил столь же абсолютизированную
концепцию «эгоизма»: «для другого он не вы-
рвал бы из своей головы даже одного волоска».
Выйти из этих двух крайностей и создать наи-
более приемлемую для последующих поколений
формулу практического осуществления запове-
ди «любви к людям» попытался Мэн-цзы (370—
289), второй после Конфуция столп конфуциан-
ства. Мэн-цзы полностью принял положение
Конфуция о «человеческом начале» в человеке,
понял его так же, как и Конфуций, т. е. как
«любовь к людям», но добавил к этому еще по-
ложение о «должном», т. е. о необходимости со-
ответствия проявления любви к людям «долж-
ному».
В свою очередь, Сюнь-цзы (298—238), пред-
ставитель следующего после Мэн-цзы поколе-
ния конфуцианцев, в отличие от Мэн-цзы, объя-
вил, что в основе природы человеческой лежит
зло и что только неустанной работой над собою
человек может это зло преодолеть. Средствами
преодоления первичного зла человеческой при-
роды он считал правила и музыку — любезные
сердцу Конфуция орудия регулирования всей
человеческой деятельности и воспитания в чело-
пеке духовной гармоничности.
Представители этой линии общественной мы-
сли той эпохи, как правило, стремились к актив-
ной политической деятельности, рассматривая
ее как средство осуществления своих идеалов.
Но были мыслители и совсем другого толка.
Представление о них дает Чжуан-цзы (369—
286), который на предложение одного из прави-
телей пойти к нему на службу, сулившего при
этом всякие почести, ответил посланному: «Ты
видел жертвенного быка? Кормят его и холят не-
сколько лет, покрывают разукрашенными по-
крывалами. А потом ведут к жертвеннику.
В этот* момент ему хотелось бы стать жалким
поросенком, но разве ои смог бы стать им? Ухо-
ди скорее! Не оскверняй меня».
Чжуан-цзы считается принадлежащим к тому
направлению общественной мысли, которое воз-
водится к JIao-цзы, в традиционном представ-
лении — старшему современнику Конфуция.
JIao-цзы — основатель философского даосизма,
игравшего впоследствии, наряду с конфуциан-
ством, огромную роль в умственной и общест-
венной жизни Китая. Ои отвергал вообще все,
кроме «естественного». Для пего не существо-
вали ие только законы, создаваемые государст-
вом, но и вековые нормы обычного права. С его
точки зрения, все эти установления были чем-то
навязываемым человеку, природа же человека
ие терпит никаких уз, кроме законов собствен-
ного естества. Поэтому как JIao-цзы, так и его
последователи отвергали и оба принципа кон-
фуцианства: учения о «человеческом» и «долж-
ном». Они считали эти принципы средствами
внутреннего принуждения. Столь же категори-
чески они отвергли и правила, и музыку, как
средства внешнего принуждения. Всякое же
принуждение они считали недопустимым вме-
шательством в «естественную» жизнь чело-
века.
Так многосторонне развивалась умственная
жизнь китайского общества VIII —III в. до п. э.
Но она отнюдь не ограничивалась областями
экономики и политики, социального устройства
и общественной морали, вопросами человече-
ской природы — ее существа и ее требований.
От человека мысль устремлялась к тому, что
считалось его неизменными спутниками: к зем-
ле и к небу. С давних пор в китайском представ-
лении установилась формула «трех сил»: Не-
бо — Земля — Человек. Столь же древним было
представление о бытии как процессе, в котором
действуют противоположности: свет и тьма,
мужчина и женщина, тепло и холод и т. д. Об-
разовалось представление, что сфера, в которой
действуют эти противоположности, материальна,
сама же материя состоит из пяти первоэлемен-
тов; они были найдены в образе воды, огня, де-
рева, металла и земли. Бытие мыслилось как
круговорот этих элементов, в котором один «пре-
одолевает» другой с тем, чтобы потом его самого
«преодолел» третий и т. д. В учении о пяти пер-
воэлементах было заложено материалистическое
представление о мире; в учении о двух проти-
воположностях — основа диалектического пред-
ставления о процессе бытия. Тем самым созда-
лась почва для плодотворного развития как
практического познания мира, так и для фило-
софского осмысления его.
Что же собой представляла литература в эту
эпоху — в среднюю пору китайской Древности?
Ответить на этот вопрос и легко, и трудно.
Легко перечислить произведения и описать их:
все они давно и хорошо известны. Трудно ска-
зать, когда они появились, кто их автор и что
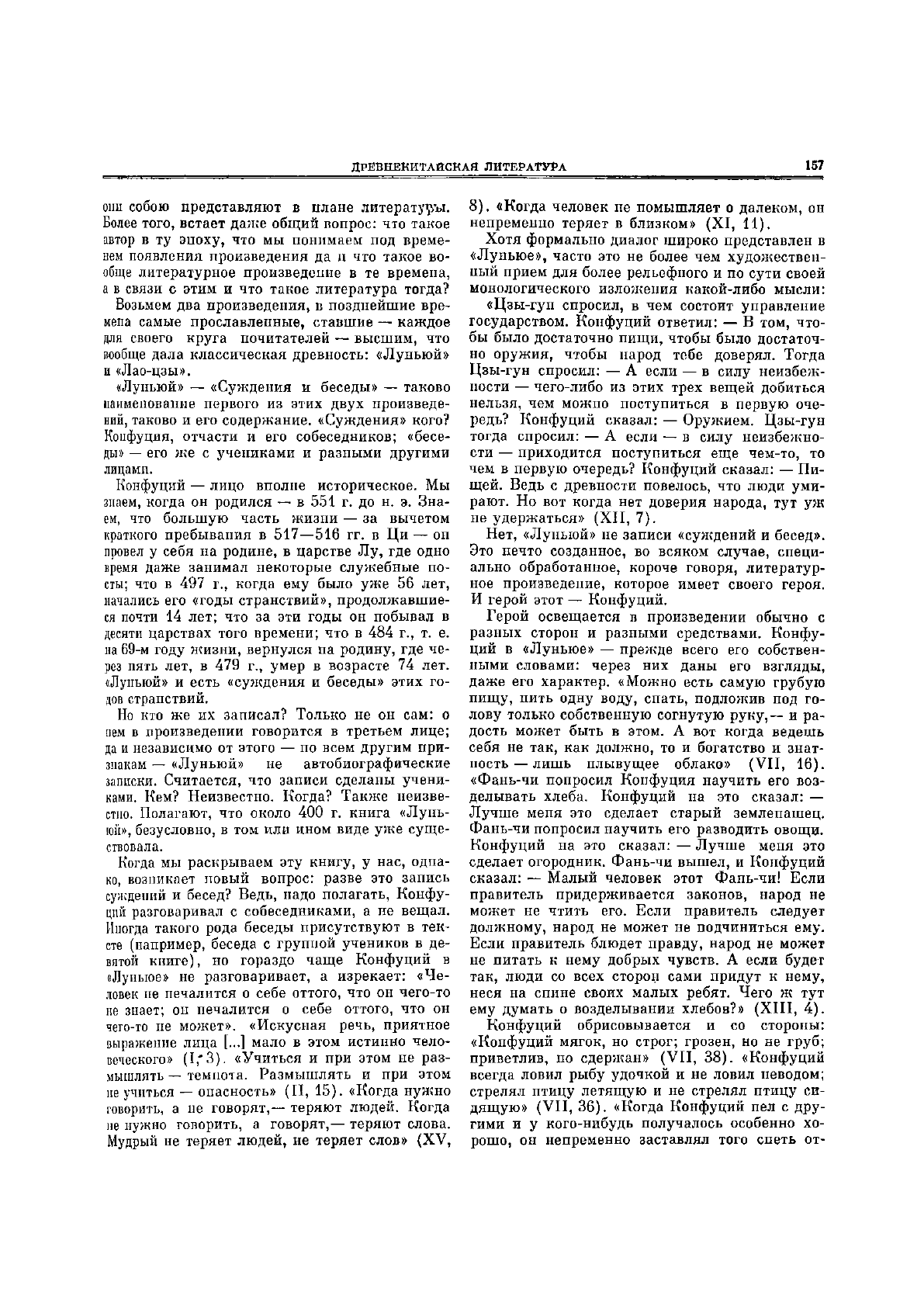
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
они собою представляют в плане литературы.
Более того, встает даже общий вопрос: что такое
автор в ту эпоху, что мы понимаем под време-
нем появления произведения да и что такое во-
обще литературное произведение в те времена,
а в связи с этим и что такое литература тогда?
Возьмем два произведения, в позднейшие вре-
мена самые прославленные, ставшие — каждое
для своего круга почитателей — высшим, что
вообще дала классическая древность: «Луньюй»
и «JIao-цзы».
«Луньюй» — «Суждения и беседы» — таково
наименование первого из этих двух произведе-
ний, таково и его содержание. «Суждения» кого?
Конфуция, отчасти и его собеседников; «бесе-
ды»
—
его же с учениками и разными другими
лицами.
Конфуций — лицо вполне историческое. Мы
знаем, когда он родился — в 551 г. до н. э. Зна-
ем, что большую часть жизни — за вычетом
краткого пребывания в 517—516 гг. в Ци — он
провел у себя на родине, в царстве Лу, где одно
время даже занимал некоторые служебные по-
сты; что в 497 г., когда ему было уже 56 лет,
начались его «годы странствий», продолжавшие-
ся почти 14 лет; что за эти годы он побывал в
десяти царствах того времени; что в 484 г., т. е.
на 69-м году жизни, вернулся па родину, где че-
рез пять лет, в 479 г., умер в возрасте 74 лет.
«Луиьюй» и есть «суждения и беседы» этих го-
дов странствий.
Но кто же их записал? Только не он сам: о
нем в произведении говорится в третьем лице;
да и независимо от этого — по всем другим при-
знакам — «Луньюй» ие автобиографические
записки. Считается, что записи сделаны учени-
ками. Кем? Неизвестно. Когда? Также неизве-
стно. Полагают, что около 400 г. книга «Лунь-
юй», безусловно, в том или ином виде уже суще-
ствовала.
Когда мы раскрываем эту книгу, у нас, одна-
ко, возникает новый вопрос: разве это запись
суждений и бесед? Ведь, надо полагать, Конфу-
ций разговаривал с собеседниками, а не вещал.
Иногда такого рода беседы присутствуют в тек-
сте (например, беседа с группой учеников в де-
вятой книге), но гораздо чаще Конфуций в
«Луныое» не разговаривает, а изрекает: «Че-
ловек ие печалится о себе оттого, что он чего-то
не знает; он печалится о себе оттого, что он
чего-то не может». «Искусная речь, приятное
выражение лица [...] мало в этом истинно чело-
веческого» (1,-3). «Учиться и при этом не раз-
мышлять — темнота. Размышлять и при этом
не учиться — опасность» (II, 15). «Когда нужно
говорить, а ие говорят,— теряют людей. Когда
ие нужно говорить, а говорят,— теряют слова.
Мудрый не теряет людей, не теряет слов» (XV,
8). «Когда человек пе помышляет о далеком, он
непременно теряет в близком» (XI, 11).
Хотя формально диалог широко представлен в
«Луныое», часто это не более чем художествеи-
ный прием для более рельефного и по сути своей
монологического изложения какой-либо мысли:
«Цзы-гун спросил, в чем состоит управление
государством. Конфуций ответил: — В том, что-
бы было достаточно пищи, чтобы было достаточ-
но оружия, чтобы народ тебе доверял. Тогда
Цзы-гун спросил: — А если — в силу неизбеж-
ности — чего-либо из этих трех вещей добиться
нельзя, чем можно поступиться в первую оче-
редь? Конфуций сказал: — Оружием. Цзы-гун
тогда спросил: — А если — в силу неизбежно-
сти — приходится поступиться еще чем-то, то
чем в первую очередь? Конфуций сказал: — Пи-
щей. Ведь с древности повелось, что люди уми-
рают. Но вот когда нет доверия народа, тут уж
не удержаться» (XII, 7).
Нет, «Луныой» не записи «суждений и бесед».
Это нечто созданное, во всяком случае, специ-
ально обработанное, короче говоря, литератур-
ное произведение, которое имеет своего героя.
И герой этот — Конфуций.
Герой освещается в произведении обычно с
разных сторон и разными средствами. Конфу-
ций в «Луньюе» — прежде всего его собствен-
ными словами: через них даны его взгляды,
даже его характер. «Можно есть самую грубую
пищу, пить одну воду, спать, подложив под го-
лову только собственную согнутую руку,— и ра-
дость может быть в этом. А вот когда ведешь
себя не так, как должно, то и богатство и знат-
ность— лишь плывущее облако» (VII, 16).
«Фань-чи попросил Конфуция научить его воз-
делывать хлеба. Конфуций на это сказал: —
Лучше меня это сделает старый землепашец.
Фань-чи попросил научить его разводить овощи.
Конфуций на это сказал: — Лучше меня это
сделает огородник. Фань-чи вышел, и Конфуций
сказал: — Малый человек этот Фань-чи! Если
правитель придерживается законов, народ не
может не чтить его. Если правитель следует
должному, народ не может ие подчиниться ему.
Если правитель блюдет правду, народ не может
не питать к нему добрых чувств. А если будет
так, люди со всех сторон сами придут к нему,
неся на спине своих малых ребят. Чего ж тут
ему думать о возделывании хлебов?» (XIII, 4).
Конфуций обрисовывается и со стороны:
«Конфуций мягок, но строг; грозен, но не груб;
приветлив, но сдержан» (VII, 38). «Конфуций
всегда ловил рыбу удочкой и не ловил неводом;
стрелял птицу летящую и не стрелял птицу си-
дящую» (VII, 36). «Когда Конфуций пел с дру-
гими и у кого-нибудь получалось особенно хо-
рошо, он непременно заставлял того спеть от-
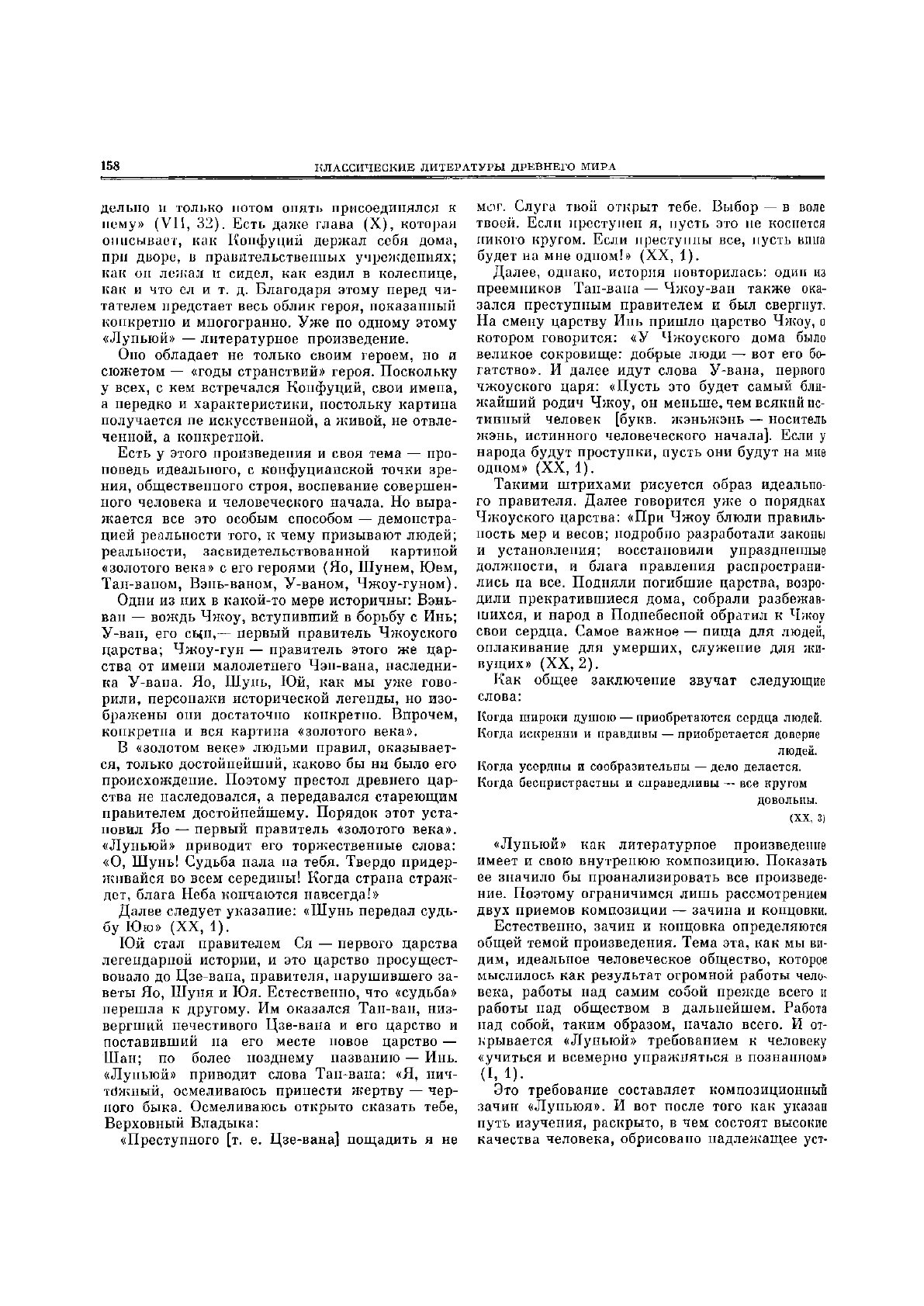
158
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
дельно и только потом опять присоединялся к
нему» (VII, 32). Есть даже глава (X), которая
описывает, как Конфуций держал себя дома,
при дворе, в правительственных учреждениях;
как он лежал и сидел, как ездил в колеснице,
как и что ел и т. д. Благодаря этому перед чи-
тателем предстает весь облик героя, показанный
конкретно и многогранно. Уже по одному этому
«Лупьюй» — литературное произведение.
Оно обладает не только своим героем, но и
сюжетом — «годы странствий» героя. Поскольку
у всех, с кем встречался Конфуций, свои имена,
а нередко и характеристики, постольку картина
получается пе искусственной, а живой, не отвле-
ченной, а конкретной.
Есть у этого произведения и своя тема — про-
поведь идеального, с конфуцианской точки зре-
ния, общественного строя, воспевание совершен-
ного человека и человеческого начала. Но выра-
жается все это особым способом — демонстра-
цией реальности того, к чему призывают людей;
реальности, засвидетельствованной картиной
«золотого века» с его героями (Яо, Шунем, Юем,
Тан-ваиом, Вэнь-ваном, У-ваном, Чжоу-гуном).
Одни из них в какой-то мере историчны: Вэнь-
ван — вождь Чжоу, вступивший в борьбу с Инь;
У-ван, его сцн,— первый правитель Чжоуского
царства; Чжоу-гуи — правитель этого же цар-
ства от имени малолетнего Чэн-вана, наследни-
ка У-вапа. Яо, Шунь, Юй, как мы уже гово-
рили, персонажи исторической легенды, но изо-
бражены они достаточно конкретно. Впрочем,
конкретна и вся картина «золотого века».
В «золотом веке» людьми правил, оказывает-
ся, только достойнейший, каково бы ни было его
происхождение. Поэтому престол древнего цар-
ства ие наследовался, а передавался стареющим
правителем достойнейшему. Порядок этот уста-
новил Яо — первый правитель «золотого века».
«Луньюй» приводит его торжественные слова:
«О, Шунь! Судьба пала на тебя. Твердо придер-
живайся во всем середины! Когда страна страж-
дет, блага Неба кончаются навсегда!»
Далее следует указание: «Шунь передал судь-
бу Юю» (XX, 1).
Юй стал правителем Ся — первого царства
легендарной истории, и это царство просущест-
вовало до Цзе-вапа, правителя, нарушившего за-
веты Яо, Шупя и Юя. Естественно, что «судьба»
перешла к другому. Им оказался Тан-ван, низ-
вергший нечестивого Цзе-вана и его царство и
поставивший на его месте новое царство —
Шан; по более позднему названию — Инь.
«Луныой» приводит слова Тан-ваиа: «Я, нич-
тбжный, осмеливаюсь принести жертву — чер-
ного быка. Осмеливаюсь открыто сказать тебе,
Верховный Владыка:
«Преступного [т. е. Цзе-вана] пощадить я не
мог. Слуга твой открыт тебе. Выбор — в воле
твоей. Если преступен я, пусть это не коснется
никого кругом. Если преступны все, пусть вина
будет на мне одном!» (XX, 1).
Далее, однако, история повторилась: один из
преемников Тан-ваиа — Чжоу-ван также ока-
зался преступным правителем и был свергнут.
На смену царству Инь пришло царство Чжоу, о
котором говорится: «У Чжоуского дома было
великое сокровище: добрые люди — вот его бо-
гатство». И далее идут слова У-вана, первого
чжоуского царя: «Пусть это будет самый бли-
жайший родич Чжоу, он меньше, чем всякий ис-
тинный человек [букв, жэньжэнь — носитель
жэнь, истинного человеческого начала]. Если у
народа будут проступки, пусть они будут на мне
одном» (XX, 1).
Такими штрихами рисуется образ идеально-
го правителя. Далее говорится уже о порядках
Чжоуского царства: «При Чжоу блюли правиль-
ность мер и весов; подробно разработали законы
и установления; восстановили упраздненные
должности, и блага правления распространи-
лись на все. Подняли погибшие царства, возро-
дили прекратившиеся дома, собрали разбежав-
шихся, и народ в Поднебесной обратил к Чжоу
свои сердца. Самое важное — пища для людей,
оплакивание для умерших, служение для жи-
вущих» (XX, 2).
Как общее заключение звучат следующие
слова:
Когда широки душою — приобретаются сердца людей.
Когда искренни и правдивы — приобретается доверие
людей.
Когда усердны и сообразительпы — дело делается.
Когда беспристрастны и справедливы — все кругом
довольны.
(XX, 3)
«Лупыой» как литературное произведение
имеет и свою внутренюю композицию. Показать
ее значило бы проанализировать все произведе-
ние. Поэтому ограничимся лишь рассмотрением
двух приемов композиции — зачина и концовки.
Естественно, зачин и концовка определяются
общей темой произведения. Тема эта, как мы ви-
дим, идеальное человеческое общество, которое
мыслилось как результат огромной работы чело>
века, работы над самим собой прежде всего и
работы над обществом в дальнейшем. Работа
над собой, таким образом, начало всего. И от-
крывается «Луныой» требованием к человеку
«учиться и всемерно упражняться в познанном»
(1,1).
Это требование составляет композиционный
зачин «Луньюя». И вот после того как указан
путь изучения, раскрыто, в чем состоят высокие
качества человека, обрисовано надлел^ащее уст-
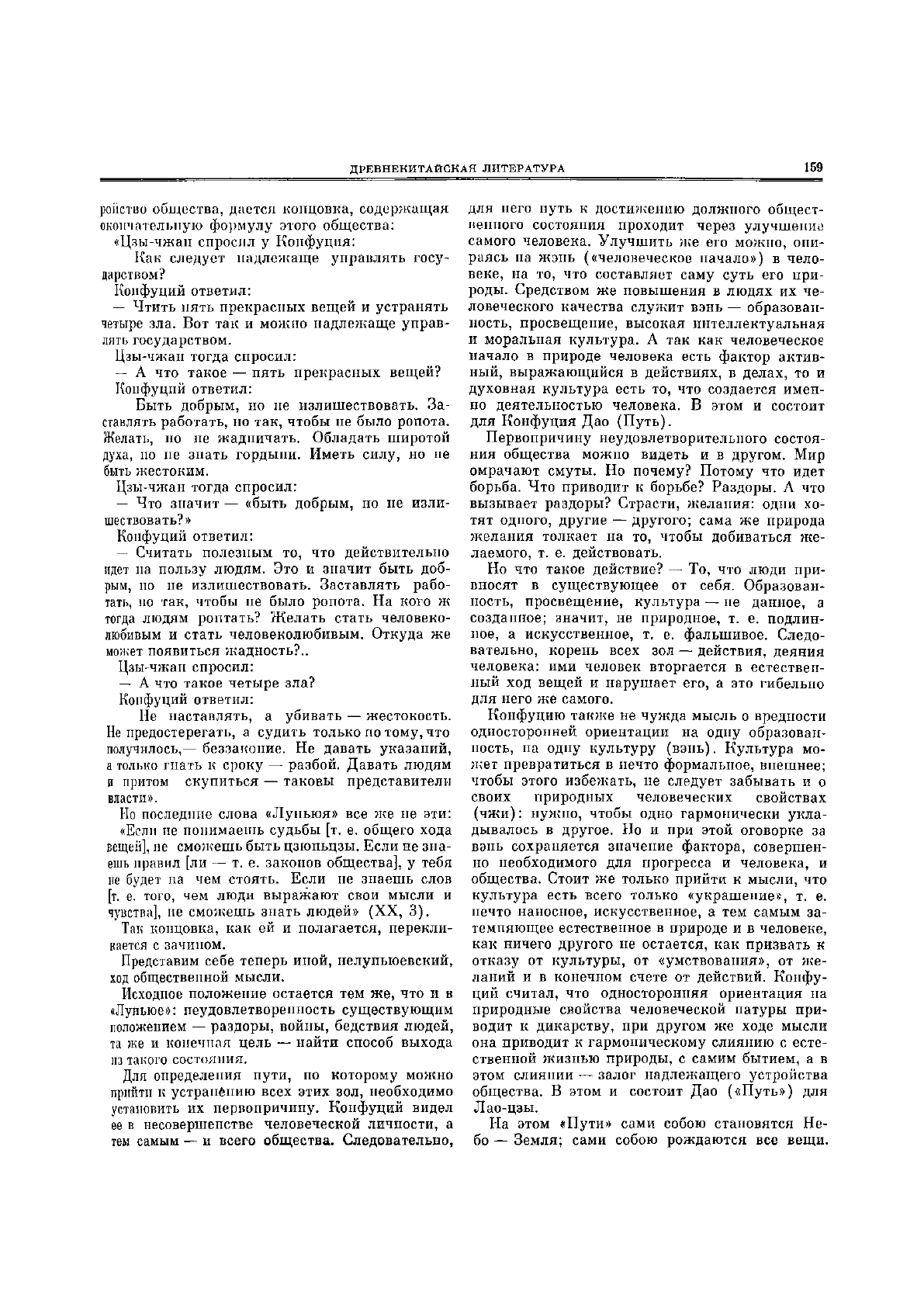
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
15")
ройство общества, дается концовка, содержащая
окончательную формулу этого общества:
«Цзы-чжан спросил у Конфуция:
Как следует надлежаще управлять госу-
дарством?
Конфуций ответил:
— Чтить пять прекрасных вещей и устранять
четыре зла. Вот так и можно надлежаще управ-
лять государством.
Цзы-чжан тогда спросил:
— А что такое — пять прекрасных вещей?
Конфуций ответил:
Быть добрым, но пе излишествовать. За-
ставлять работать, но так, чтобы не было ропота.
Желать, по ие жадничать. Обладать широтой
духа, но ие знать гордыни. Иметь силу, но не
быть жестоким.
Цзы-чжан тогда спросил:
— Что значит — «быть добрым, но пе изли-
шествовать?»
Конфуций ответил:
— Считать полезным то, что действительно
идет на пользу людям. Это и значит быть доб-
рым, но ие излишествовать. Заставлять рабо-
тать, но так, чтобы не было ропота. На кого ж
тогда людям роптать? Желать стать человеко-
любивым и стать человеколюбивым. Откуда же
может появиться жадность?..
Цзы-чжаи спросил:
— А что такое четыре зла?
Конфуций ответил:
Не наставлять, а убивать — жестокость.
Не предостерегать, а судить только по тому, что
получилось,— беззаконие. Не давать указаний,
а только гнать к сроку — разбой. Давать людям
и притом скупиться — таковы представители
власти».
Но последние слова «Луныоя» все же не эти:
«Если пе понимаешь судьбы [т. е. общего хода
вещей], ие сможешь быть цзюньцзы. Если не зна-
ешь правил [ли — т. е. законов общества], у тебя
не будет на чем стоять. Если не знаешь слов
[т. е. того, чем люди выражают свои мысли и
чувства], ие сможешь знать людей» (XX, 3).
Так концовка, как ей и полагается, перекли-
кается с зачином.
Представим себе теперь иной, нелуньюевский,
ход общественной мысли.
Исходное положение остается тем же, что и в
«Луныое»: неудовлетворенность существующим
положением — раздоры, войны, бедствия людей,
та же и конечная цель — найти способ выхода
из такого состояния.
Для определения пути, по которому можно
прийти к устранению всех этих зол, необходимо
установить их первопричину. Конфуций видел
ее в несовершенстве человеческой личности, а
тем самым — и всего общества. Следовательно,
для него путь к достижению должного общест-
венного состояния проходит через улучшение
самого человека. Улучшить же его можно, опи-
раясь на жэнь («человеческое начало») в чело-
веке, на то, что составляет саму суть его при-
роды. Средством же повышения в людях их че-
ловеческого качества служит вэнь — образован-
ность, просвещение, высокая интеллектуальная
и моральная культура. А так как человеческое
начало в природе человека есть фактор актив-
ный, выражающийся в действиях, в делах, то и
духовная культура есть то, что создается имен-
но деятельностью человека. В этом и состоит
для Конфуция Дао (Путь).
Первопричину неудовлетворительного состоя-
ния общества можно видеть и в другом. Мир
омрачают смуты. Но почему? Потому что идет
борьба. Что приводит к борьбе? Раздоры. А что
вызывает раздоры? Страсти, желания: одни хо-
тят одного, другие — другого; сама же природа
желания толкает на то, чтобы добиваться же-
лаемого, т. е. действовать.
Но что такое действие? — То, что люди при-
вносят в существующее от себя. Образован-
ность, просвещение, культура — не данное, а
созданное; значит, не природное, т. е. подлин-
ное, а искусственное, т. е. фальшивое. Следо-
вательно, корень всех зол — действия, деяния
человека: ими человек вторгается в естествен-
ный ход вещей и нарушает его, а это гибельно
для него же самого.
Конфуцию также не чужда мысль о вредности
односторонней ориентации на одну образован-
ность, на одну культуру (вэнь). Культура мо-
жет превратиться в нечто формальное, внешнее;
чтобы этого избежать, не следует забывать и о
своих природных человеческих свойствах
(чжи): нужно, чтобы одно гармонически укла-
дывалось в другое. Но и при этой оговорке за
вэнь сохраняется значение фактора, совершен-
но необходимого для прогресса и человека, и
общества. Стоит же только прийти к мысли, что
культура есть всего только «украшение», т. е.
нечто наносное, искусственное, а тем самым за-
темняющее естественное в природе и в человеке,
как ничего другого не остается, как призвать к
отказу от культуры, от «умствования», от же-
ланий и в конечном счете от действий. Конфу-
ций считал, что односторонняя ориентация на
природные свойства человеческой натуры при-
водит к дикарству, при другом же ходе мысли
она приводит к гармоническому слиянию с есте-
ственной жизнью природы, с самим бытием, а в
этом слиянии — залог надлежащего устройства
общества. В этом и состоит Дао («Путь») для
Лао-цзы.
На этом «Пути» сами собою становятся Не-
бо — Земля; сами собою рождаются все вещи.
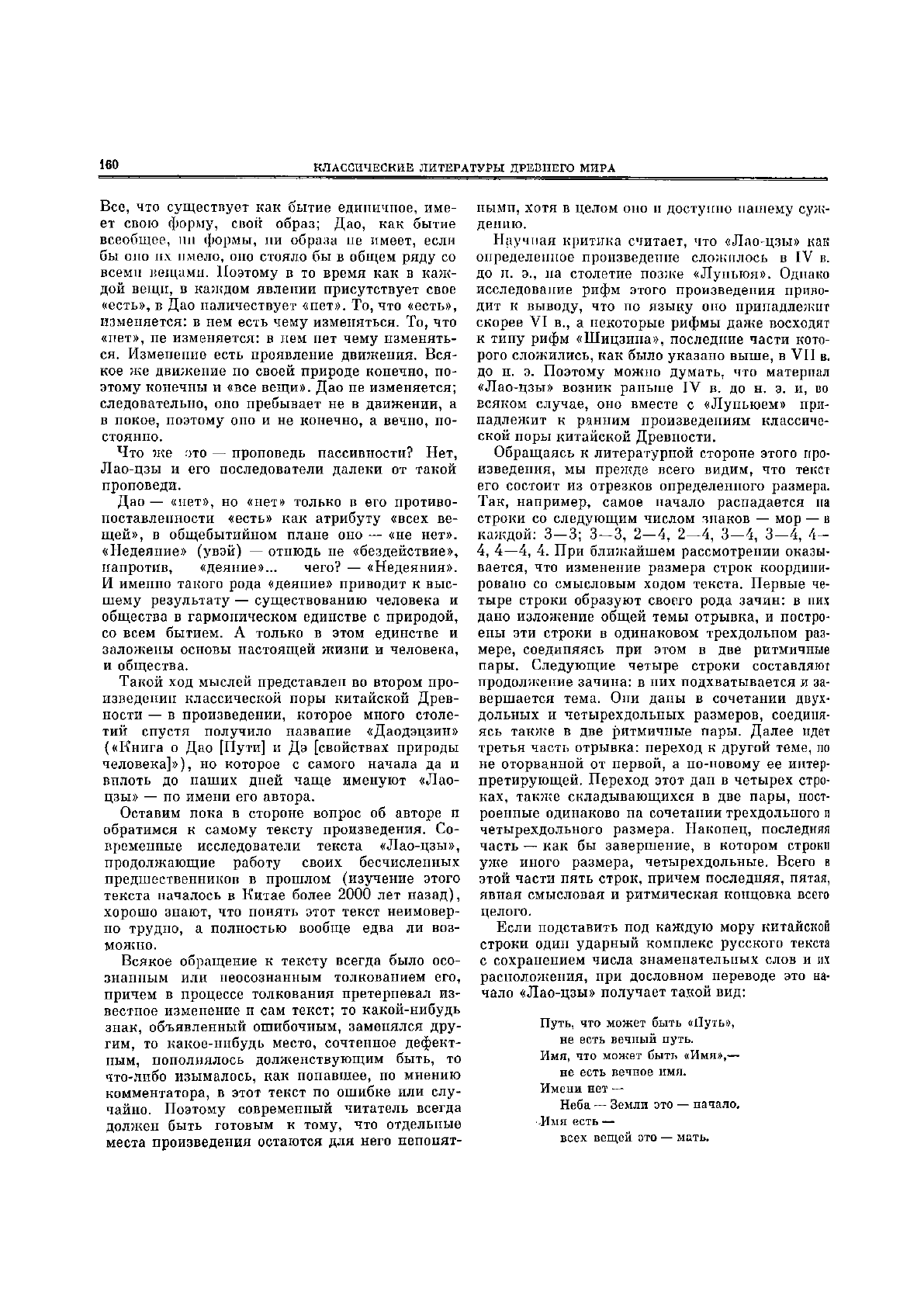
160
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
Все, что существует как бытие единичное, име-
ет свою форму, свой образ; Дао, как бытие
всеобщее, ни формы, ни образа не имеет, если
бы оно их имело, оно стояло бы в общем ряду со
всеми вещами. Поэтому в то время как в каж-
дой вещи, в каждом явлении присутствует свое
«есть», в Дао наличествует «нет». То, что «есть»,
изменяется: в нем есть чему изменяться. То, что
«нет», пе изменяется: в нем нет чему изменять-
ся. Изменение есть проявление движения. Вся-
кое же движение по своей природе конечно, по-
этому конечны и «все вещи». Дао не изменяется;
следовательно, оно пребывает не в движении, а
в покое, поэтому оно и не конечно, а вечно, по-
стоянно.
Что же это — проповедь пассивности? Нет,
JIao-цзы и его последователи далеки от такой
проповеди.
Дао — «нет», но «нет» только в его противо-
поставленности «есть» как атрибуту «всех ве-
щей», в общебытийном плане оно — «не нет».
«Недеяние» (увэй) — отнюдь не «бездействие»,
напротив, «деяние»... чего? — «Недеяния».
И именно такого рода «деяние» приводит к выс-
шему результату — существованию человека и
общества в гармоническом единстве с природой,
со всем бытием. А только в этом единстве и
заложены основы настоящей жизни и человека,
и общества.
Такой ход мыслей представлен во втором про-
изведении классической поры китайской Древ-
ности — в произведении, которое много столе-
тий спустя получило название «Даодэцзин»
(«Книга о Дао [Пути] и Дэ [свойствах природы
человека]»), но которое с самого начала да и
вплоть до наших дней чаще именуют «JIao-
цзы» — по имени его автора.
Оставим пока в стороне вопрос об авторе и
обратимся к самому тексту произведения. Со-
временные исследователи текста «JIao-цзы»,
продолжающие работу своих бесчисленных
предшественников в прошлом (изучение этого
текста началось в Китае более 2000 лет назад),
хорошо знают, что понять этот текст неимовер-
но трудно, а полностью вообще едва ли воз-
можно.
Всякое обращение к тексту всегда было осо-
знанным или неосознанным толкованием его,
причем в процессе толкования претерпевал из-
вестное изменение и сам текст; то какой-нибудь
знак, объявленный ошибочным, заменялся дру-
гим, то какое-нибудь место, сочтенное дефект-
ным, пополнялось долженствующим быть, то
что-либо изымалось, как попавшее, по мнению
комментатора, в этот текст по ошибке шш слу-
чайно. Поэтому современный читатель всегда
должен быть готовым к тому, что отдельные
места произведения остаются для него непонят-
ными, хотя в целом оно и доступно нашему суж-
дению.
Научная критика считает, что «JIao-цзы» как
определенное произведение сложилось в IV в.
до и. э., на столетие позже «Луныоя». Однако
исследование рифм этого произведения приво-
дит к выводу, что по языку оно принадлежит
скорее VI в., а некоторые рифмы даже восходят
к типу рифм «Шицзина», последние части кото-
рого сложились, как было указано выше, в VII в.
до н. э. Поэтому можно думать, что материал
«JIao-цзы» возник раньше IV в. до н. э. и, во
всяком случае, оно вместе с «Луньюем» при-
надлежит к ранним произведениям классиче-
ской поры китайской Древности.
Обращаясь к литературной стороне этого про-
изведения, мы прежде всего видим, что текст
его состоит из отрезков определенного размера.
Так, например, самое начало распадается на
строки со следующим числом знаков — мор
—
в
каждой: 3—3; 3—3, 2—4, 2—4, 3—4, 3—4, 4—
4, 4—4, 4. При ближайшем рассмотрении оказы-
вается, что изменение размера строк координи-
ровано со смысловым ходом текста. Первые че-
тыре строки образуют своего рода зачин: в них
дано изложение общей темы отрывка, и постро-
ены эти строки в одинаковом трехдольном раз-
мере, соединяясь при этом в две ритмичные
пары. Следующие четыре строки составляют
продолжение зачина: в них подхватывается и за-
вершается тема. Они дапы в сочетании двух-
дольных и четырехдольных размеров, соединя-
ясь также в две ритмичные пары. Далее идет
третья часть отрывка: переход к другой теме, по
не оторванной от первой, а по-новому ее интер-
претирующей. Переход этот дан в четырех стро-
ках, также складывающихся в две пары, пост-
роенные одинаково на сочетании трехдольного п
четырехдольного размера. Наконец, последняя
часть — как бы завершение, в котором строки
уже иного размера, четырехдольные. Всего в
этой части пять строк, причем последняя, пятая,
явная смысловая и ритмическая концовка всего
целого.
Если подставить под каждую мору китайской
строки один ударный комплекс русского текста
с сохранением числа знаменательных слов и их
расположения, при дословном переводе это на-
чало «JIao-цзы» получает такой вид:
Путь, что может быть «Путь»,
не есть вечный путь.
Имя, что может быть «Имя»,—
не есть вечное имя.
Имени нет —
Неба — Земли это — начало.
-Имя есть —
всех вещей это — мать.
