Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

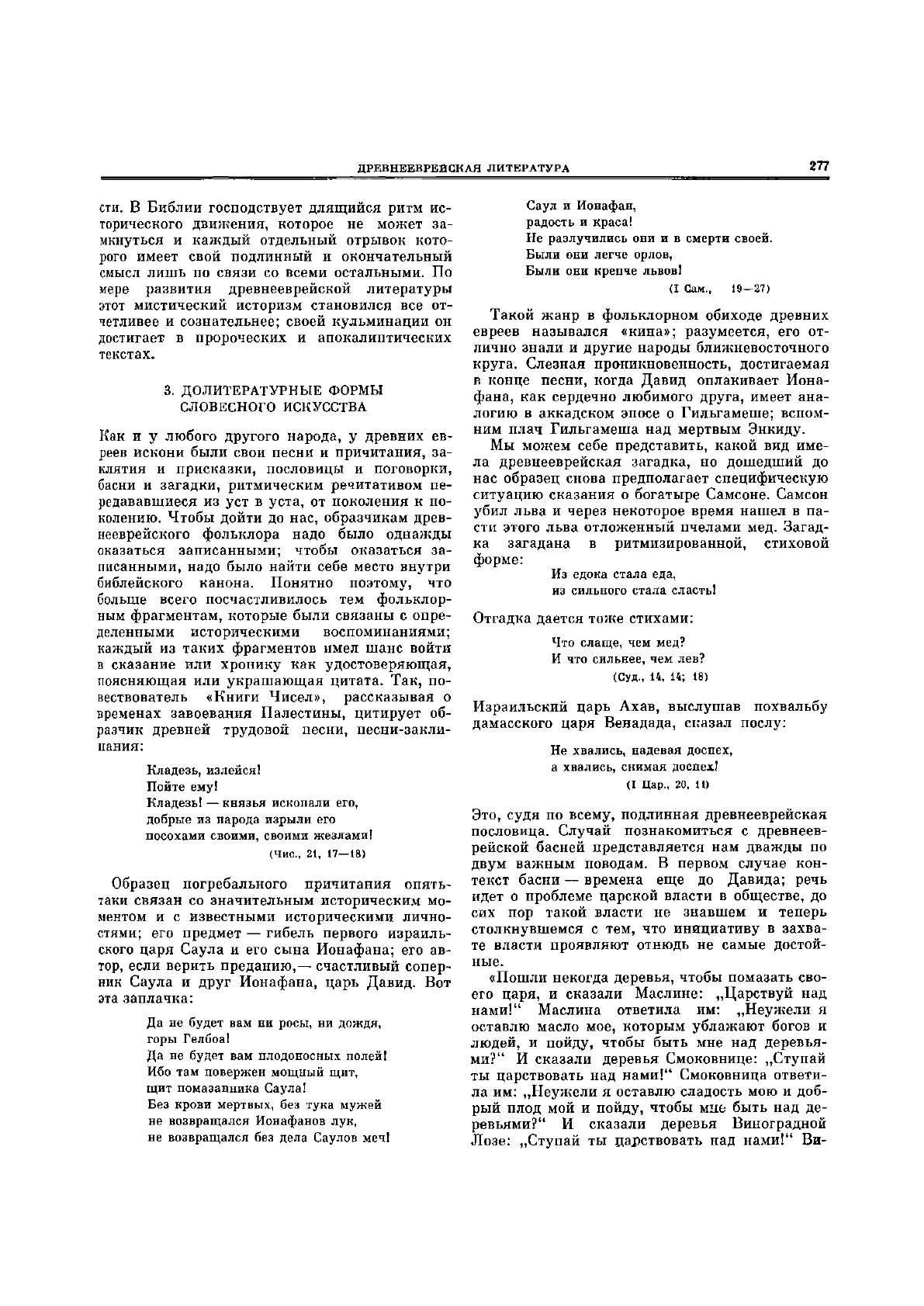
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
277
сти. В Библии господствует длящийся ритм ис-
торического движения, которое не может за-
мкнуться и каждый отдельный отрывок кото-
рого имеет свой подлинный и окончательный
смысл лишь по связи со всеми остальными. По
мере развития древнееврейской литературы
этот мистический историзм становился все от-
четливее и сознательнее; своей кульминации он
достигает в пророческих и апокалиптических
текстах.
3. ДОЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ
СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА
Как и у любого другого народа, у древних ев-
реев искони были свои песни и причитания, за-
клятия и присказки, пословицы и поговорки,
басни и загадки, ритмическим речитативом пе-
редававшиеся из уст в уста, от поколения к по-
колению. Чтобы дойти до нас, образчикам древ-
нееврейского фольклора надо было однажды
оказаться записанными; чтобы оказаться за-
писанными, надо было найти себе место внутри
библейского канона. Понятно поэтому, что
больше всего посчастливилось тем фольклор-
ным фрагментам, которые были связаны с опре-
деленными историческими воспоминаниями;
каждый из таких фрагментов имел шанс войти
в сказание или хронику как удостоверяющая,
поясняющая или украшающая цитата. Так, по-
вествователь «Книги Чисел», рассказывая о
временах завоевания Палестины, цитирует об-
разчик древней трудовой песни, песни-закли-
нания:
Кладезь, излейся!
Пойте ему!
Кладезь! — князья ископали его,
добрые из народа изрыли его
посохами своими, своими жезлами!
(Чис., 21, 17—18)
Образец погребального причитания опять-
таки связан со значительным историческим мо-
ментом и с известными историческими лично-
стями; его предмет — гибель первого израиль-
ского царя Саула и его сына Ионафана; его ав-
тор, если верить преданию,— счастливый сопер-
ник Саула и друг Ионафана, царь Давид. Вот
эта заплачка:
Да не будет вам ни росы, ни дождя,
горы Гелбоа!
Да не будет вам плодоносных полей!
Ибо там повержен мощный щит,
щит помазанника Саула!
Без крови мертвых, без тука мужей
не возвращался Ионафанов лук,
не возвращался без дела Саулов меч!
Саул и Ионафан,
радость и краса!
Не разлучились они и в смерти своей.
Были они легче орлов,
Были они крепче львов!
(I Сам., 19—27)
Такой жанр в фольклорном обиходе древних
евреев назывался «кина»; разумеется, его от-
лично знали и другие народы ближневосточного
круга. Слезная проникновенность, достигаемая
в конце песни, когда Давид оплакивает Иона-
фана, как сердечно любимого друга, имеет ана-
логию в аккадском эпосе о Гильгамеше; вспом-
ним плач Гильгамеша над мертвым Энкиду.
Мы можем себе представить, какой вид име-
ла древнееврейская загадка, но дошедший до
нас образец снова предполагает специфическую
ситуацию сказания о богатыре Самсоне. Самсон
убил льва и через некоторое время нашел в па-
сти этого льва отложенный пчелами мед. Загад-
ка загадана в ритмизированной, стиховой
форме:
Из едока стала еда,
из сильного стала сласть!
Отгадка дается тоже стихами:
Что слаще, чем мед?
И что сильнее, чем лев?
(Суд., 14, 14; 18)
Израильский царь Ахав, выслушав похвальбу
дамасского царя Венадада, сказал послу:
Не хвались, надевая доспех,
а хвались, снимая доспехЛ
(I Цар., 20, 11)
Это, судя по всему, подлинная древнееврейская
пословица. Случай познакомиться с древнеев-
рейской басней представляется нам дважды по
двум важным поводам. В первом случае кон-
текст басни — времена еще до Давида; речь
идет о проблеме царской власти в обществе, до
сих пор такой власти не знавшем и теперь
столкнувшемся с тем, что инициативу в захва-
те власти проявляют отнюдь не самые достой-
ные.
«Пошли некогда деревья, чтобы помазать сво-
его царя, и сказали Маслине: „Царствуй над
нами!
44
Маслина ответила им: „Неужели я
оставлю масло мое, которым ублажают богов и
людей, и пойду, чтобы быть мне над деревья-
ми?" И сказали деревья Смоковнице: „Ступай
ты царствовать над нами!
44
Смоковница ответи-
ла им: „Неужели я оставлю сладость мою и доб-
рый плод мой и пойду, чтобы мне быть над де-
ревьями?
44
И сказали деревья Виноградной
Лозе: „Ступай ты царствовать над нами!
44
Ви-
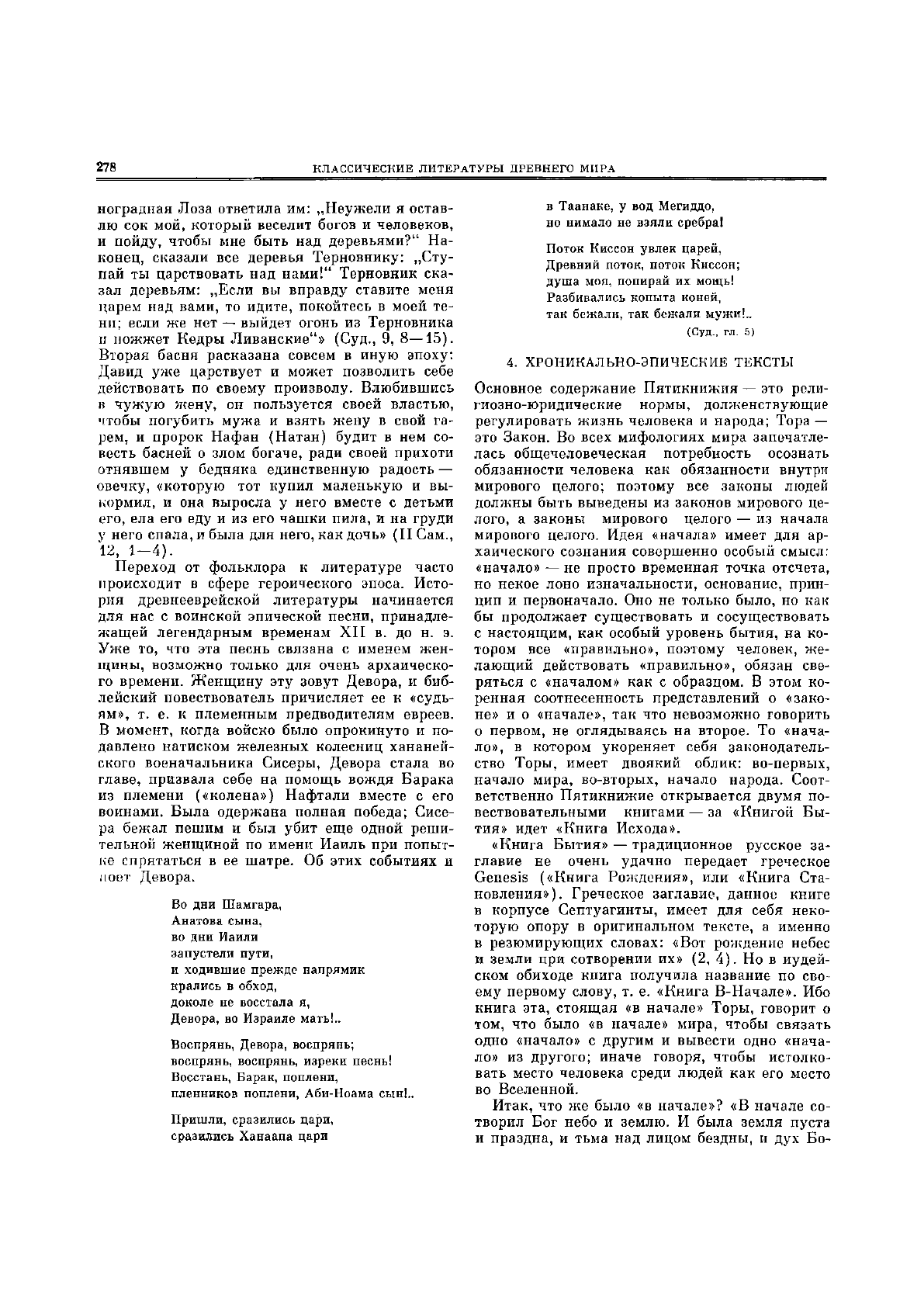
278
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
ноградная Лоза ответила им: „Неужели я остав-
лю сок мой, который веселит богов и человеков,
и пойду, чтобы мне быть над деревьями?" На-
конец, сказали все деревья Терновнику: „Сту-
пай ты царствовать над нами!" Терновник ска-
зал деревьям: „Если вы вправду ставите меня
царем над вами, то идите, покойтесь в моей те-
ни; если же нет — выйдет огонь из Терновника
и пожжет Кедры Ливанские"» (Суд., 9, 8—15).
Вторая басня расказана совсем в иную эпоху:
Давид уже царствует и может позволить себе
действовать по своему произволу. Влюбившись
н чужую жену, ои пользуется своей властью,
чтобы погубить мужа и взять жену в свой га-
рем, и пророк Нафан (Натан) будит в нем со-
весть басней о злом богаче, ради своей прихоти
отнявшем у бедняка единственную радость —
овечку, «которую тот купил маленькую и вы-
кормил, и она выросла у него вместе с детьми
его, ела его еду и из его чашки пила, и на груди
у него спала, и была для него, как дочь» (II Сам.,
12, 1-4).
Переход от фольклора к литературе часто
происходит в сфере героического эпоса. Исто-
рия древнееврейской литературы начинается
для нас с воинской эпической песни, принадле-
жащей легендарным временам XII в. до н. э.
Уже то, что эта песнь связана с именем жен-
щины, возможно только для очень архаическо-
го времени. Женщину эту зовут Девора, и биб-
лейский повествователь причисляет ее к «судь-
ям», т. е. к племенным предводителям евреев.
В момент, когда войско было опрокинуто и по-
давлено натиском железных колесниц хананей-
ского военачальника Сисеры, Девора стала во
главе, призвала себе на помощь вождя Барака
из племени («колена») Нафтали вместе с его
воинами. Была одержана полная победа; Сисе-
ра бежал пешим и был убит еще одной реши-
тельной женщиной по имени Иаиль при попыт-
ке спрятаться в ее шатре. Об этих событиях и
поет Девора.
Во дни Шамгара,
Анатова сына,
во дни Иаили
запустели пути,
и ходившие прежде напрямик
крались в обход,
доколе не восстала я,
Девора, во Израиле мать!..
Воспрянь, Девора, воспрянь;
воспрянь, воспрянь, изреки песнь!
Восстань, Барак, поплени,
пленников поплени, Аби-Ноама сын!..
Пришли, сразились цари,
сразились Ханаана цари
в Таанаке, у вод Мегиддо,
но нимало не взяли сребра!
Поток Киссон увлек царей,
Древний поток, поток Киссон;
душа моя, попирай их мощь!
Разбивались копыта коней,
так бежали, так бежали мужи!..
(Суд., гл. 5)
4. ХРОНИКАЛЬНО-ЭПИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
Основное содержание Пятикнижия — это рели-
гиозно-юридические нормы, долженствующие
регулировать жизнь человека и народа; Тора
—
это Закон. Во всех мифологиях мира запечатле-
лась общечеловеческая потребность осознать
обязанности человека как обязанности внутри
мирового целого; поэтому все законы людей
должны быть выведены из законов мирового це-
лого, а законы мирового целого — из начала
мирового целого. Идея «начала» имеет для ар-
хаического сознания совершенно особый смысл:
«начало» — не просто временная точка отсчета,
но некое лоно изначальности, основание, прин-
цип и первоначало. Оно не только было, но как
бы продолжает существовать и сосуществовать
с настоящим, как особый уровень бытия, на ко-
тором все «правильно», поэтому человек, же-
лающий действовать «правильно», обязан све-
ряться с «началом» как с образцом. В этом ко-
ренная соотнесенность представлений о «зако-
не» и о «начале», так что невозможно говорить
о первом, не оглядываясь на второе. То «нача-
ло», в котором укореняет себя законодатель-
ство Торы, имеет двоякий облик: во-первых,
начало мира, во-вторых, начало народа. Соот-
ветственно Пятикнижие открывается двумя по-
вествовательными книгами — за «Книгой Бы-
тия» идет «Книга Исхода».
«Книга Бытия» — традиционное русское за-
главие не очень удачно передает греческое
Genesis («Книга Рождения», или «Книга Ста-
новления»). Греческое заглавие, данное книге
в корпусе Септуагинты, имеет для себя неко-
торую опору в оригинальном тексте, а именно
в резюмирующих словах: «Вот рождение небес
и земли при сотворении их» (2, 4). Но в иудей-
ском обиходе книга получила название по сво-
ему первому слову, т. е. «Книга В-Начале». Ибо
книга эта, стоящая «в начале» Торы, говорит о
том, что было «в начале» мира, чтобы связать
одно «начало» с другим и вывести одно «нача-
ло» из другого; иначе говоря, чтобы истолко-
вать место человека среди людей как его место
во Вселенной.
Итак, что же было «в начале»? «В начале со-
творил Бог небо и землю. И была земля пуста
и праздна, и тьма над лицом бездны, и дух Бо-
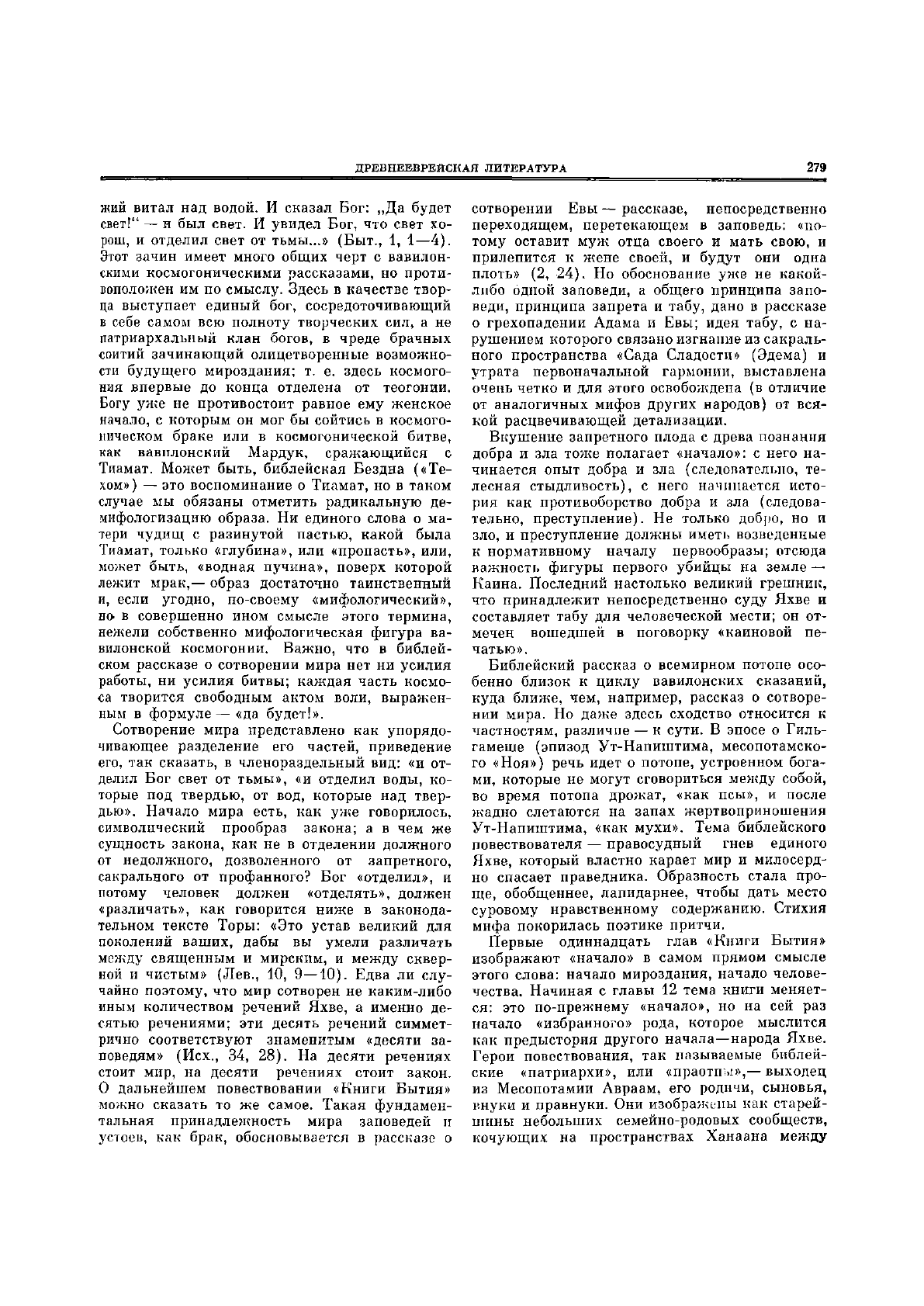
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
279
жий витал над водой. И сказал Бог: „Да будет
свет!'
4
— и был свет. И увидел Бог, что свет хо-
рош, и отделил свет от тьмы...» (Быт., 1, 1—4).
Этот зачин имеет много общих черт с вавилон-
скими космогоническими рассказами, но проти-
воположен им по смыслу. Здесь в качестве твор-
ца выступает единый бог, сосредоточивающий
в себе самом всю полноту творческих сил, а не
патриархальный клан богов, в чреде брачных
соитий зачинающий олицетворенные возможно-
сти будущего мироздания; т. е. здесь космого-
ния впервые до конца отделена от теогонии.
Богу уже не противостоит равное ему женское
начало, с которым он мог бы сойтись в космого-
ническом браке или в космогонической битве,
как вавилонский Мардук, сражающийся с
Тиамат. Может быть, библейская Бездна («Те-
хом») — это воспоминание о Тиамат, но в таком
случае мы обязаны отметить радикальную де-
мифологизацию образа. Ни единого слова о ма-
тери чудищ с разинутой пастью, какой была
Тиамат, только «глубина», или «пропасть», или,
может быть, «водная пучина», поверх которой
лежит мрак,— образ достаточно таинственный
и, если угодно, по-своему «мифологический»,
но в совершенно ином смысле этого термина,
нежели собственно мифологическая фигура ва-
вилонской космогонии. Важно, что в библей-
ском рассказе о сотворении мира нет ни усилия
работы, ни усилия битвы; каждая часть космо-
са творится свободным актом воли, выражен-
ным в формуле— «да будет!».
Сотворение мира представлено как упорядо-
чивающее разделение его частей, приведение
его, так сказать, в членораздельный вид: «и от-
делил Бог свет от тьмы», «и отделил воды, ко-
торые под твердью, от вод, которые над твер-
дью». Начало мира есть, как уже говорилось,
символический прообраз закона; а в чем же
сущность закона, как не в отделении должного
от недолжного, дозволенного от запретного,
сакрального от профанного? Бог «отделил», и
потому человек должен «отделять», должен
«различать», как говорится ниже в законода-
тельном тексте Торы: «Это устав великий для
поколений ваших, дабы вы умели различать
между священным и мирским, и между сквер-
ной и чистым» (Лев., 10, 9—10). Едва ли слу-
чайно поэтому, что мир сотворен не каким-либо
иным количеством речений Яхве, а именно де-
сятью речениями; эти десять речений симмет-
рично соответствуют знаменитым «десяти за-
поведям» (Исх., 34, 28). На десяти речениях
стоит мир, на десяти речениях стоит закон.
О дальнейшем повествовании «Книги Бытия»
можно сказать то же самое. Такая фундамен-
тальная принадлежность мира заповедей и
устоев, как брак, обосновывается в рассказе о
сотворении Евы — рассказе, непосредственно
переходящем, перетекающем в заповедь: «по-
тому оставит муж отца своего и мать свою, и
прилепится к жене своей, и будут они одна
плоть» (2, 24). Но обоснование уя^е не какой-
либо одной заповеди, а общего принципа запо-
веди, принципа запрета и табу, дано в рассказе
о грехопадении Адама и Евы; идея табу, с на-
рушением которого связано изгнание из сакраль-
ного пространства «Сада Сладости» (Эдема) и
утрата первоначальной гармонии, выставлена
очень четко и для этого освобождена (в отличие
от аналогичных мифов других народов) от вся-
кой расцвечивающей детализации.
Вкушение запретного плода с древа познания
добра и зла тоже полагает «начало»: с него на-
чинается опыт добра и зла (следовательно, те-
лесная стыдливость), с него начинается исто-
рия как противоборство добра и зла (следова-
тельно, преступление). Не только добро, но и
зло, и преступление должны иметь возведенные
к нормативному началу первообразы; отсюда
важность фигуры первого убийцы на земле —
Каина. Последний настолько великий грешник,
что принадлежит непосредственно суду Яхве и
составляет табу для человеческой мести; он от-
мечен вошедшей в поговорку «каиновой пе-
чатью».
Библейский рассказ о всемирном потопе осо-
бенно близок к циклу вавилонских сказаний,
куда ближе, чем, например, рассказ о сотворе-
нии мира. Но даже здесь сходство относится к
частностям, различие — к сути. В эпосе о Гиль-
гамеше (эпизод Ут-Напиштима, месопотамско-
го «Ноя») речь идет о потопе, устроенном бога-
ми, которые не могут сговориться между собой,
во время потопа дрожат, «как псы», и после
жадно слетаются на запах жертвоприношения
Ут-Напиштима, «как мухи». Тема библейского
повествователя — правосудный гнев единого
Яхве, который властно карает мир и милосерд-
но спасает праведника. Образность стала про-
ще, обобщеннее, лапидарнее, чтобы дать место
суровому нравственному содержанию. Стихия
мифа покорилась поэтике притчи.
Первые одиннадцать глав «Книги Бытия»
изобран^ают «начало» в самом прямом смысле
этого слова: начало мироздания, начало челове-
чества. Начиная с главы 12 тема книги меняет-
ся: это по-прежнему «начало», но на сей раз
начало «избранного» рода, которое мыслится
как предыстория другого начала—народа Яхве.
Герои повествования, так называемые библей-
ские «патриархи», или «праотпы»,— выходец
из Месопотамии Авраам, его родичи, сыновья,
внуки и правнуки. Они изображены как старей-
шины небольших семейно-родовых сообществ,
кочующих на пространствах Ханаана между
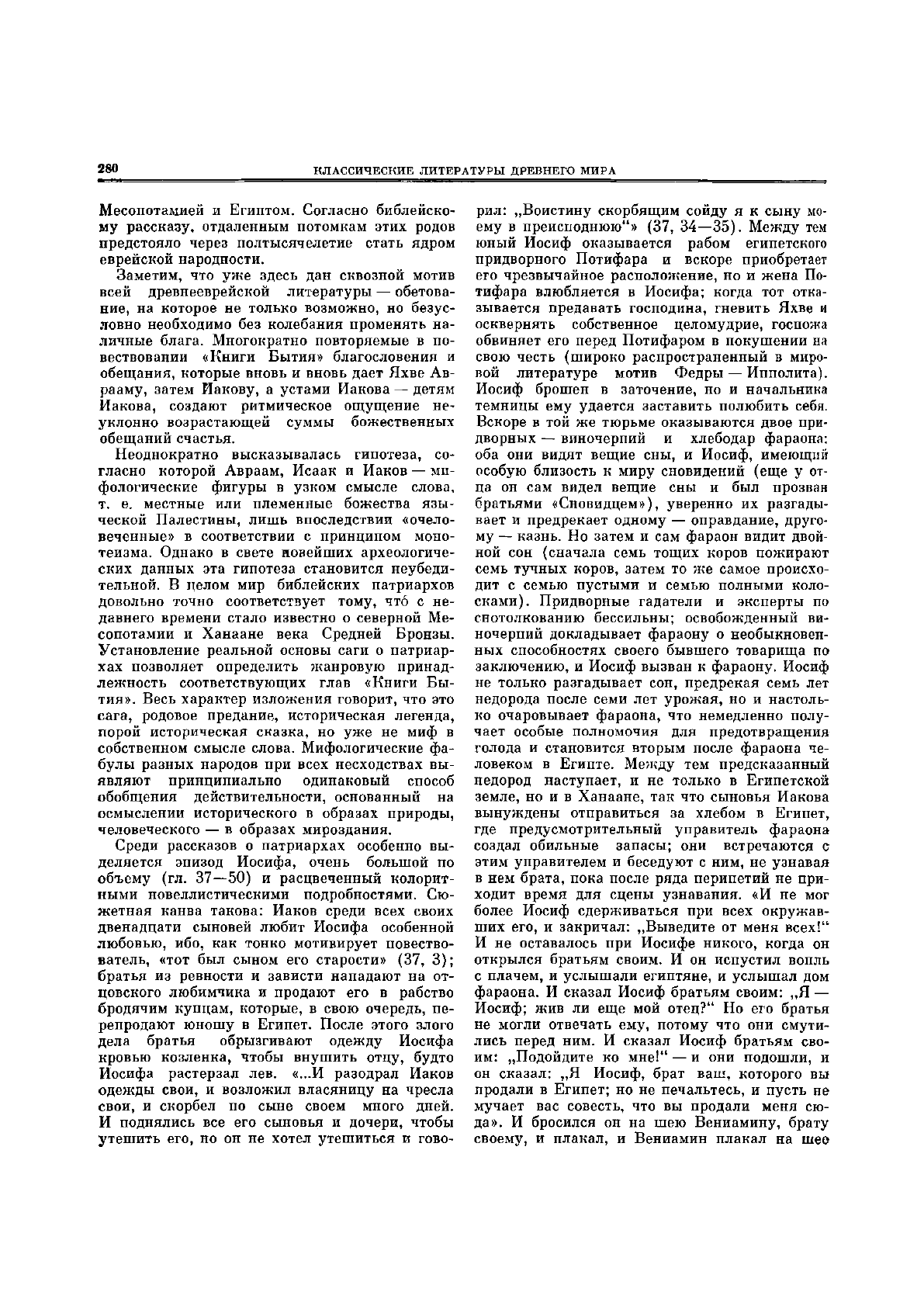
280
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
Месопотамией и Египтом. Согласно библейско-
му рассказу, отдаленным потомкам этих родов
предстояло через полтысячелетие стать ядром
еврейской народности.
Заметим, что уже здесь дан сквозной мотив
всей древнееврейской литературы — обетова-
ние, на которое не только возможно, но безус-
ловно необходимо без колебания променять на-
личные блага. Многократно повторяемые в по-
вествовании «Книги Бытия» благословения и
обещания, которые вновь и вновь дает Яхве Ав-
рааму, затем Иакову, а устами Иакова — детям
Иакова, создают ритмическое ощущение не-
уклонно возрастающей суммы божественных
обещаний счастья.
Неоднократно высказывалась гипотеза, со-
гласно которой Авраам, Исаак и Иаков — ми-
фологические фигуры в узком смысле слова,
т. е. местные или племенные божества язы-
ческой Палестины, лишь впоследствии «очело-
веченные» в соответствии с принципом моно-
теизма. Однако в свете новейших археологиче-
ских данных эта гипотеза становится неубеди-
тельной. В целом мир библейских патриархов
довольно точно соответствует тому, что с не-
давнего времени стало известно о северной Ме-
сопотамии и Ханаане века Средней Бронзы.
Установление реальной основы саги о патриар-
хах позволяет определить жанровую принад-
лежность соответствующих глав «Книги Бы-
тия». Весь характер изложения говорит, что это
сага, родовое предание, историческая легенда,
порой историческая сказка, но уже не миф в
собственном смысле слова. Мифологические фа-
булы разных народов при всех несходствах вы-
являют принципиально одинаковый способ
обобщения действительности, основанный на
осмыслении исторического в образах природы,
человеческого — в образах мироздания.
Среди рассказов о патриархах особенно вы-
деляется эпизод Иосифа, очень большой по
объему (гл. 37—50) и расцвеченный колорит-
ными новеллистическими подробностями. Сю-
жетная канва такова: Иаков среди всех своих
двенадцати сыновей любит Иосифа особенной
любовью, ибо, как тонко мотивирует повество-
ватель, «тот был сыном его старости» (37, 3);
братья из ревности и зависти нападают на от-
цовского любимчика и продают его в рабство
бродячим купцам, которые, в свою очередь, пе-
репродают юношу в Египет. После этого злого
дела братья обрызгивают одежду Иосифа
кровью козленка, чтобы внушить отцу, будто
Иосифа растерзал лев. «...И разодрал Иаков
одежды свои, и возложил власяницу на чресла
свои, и скорбел по сыне своем много дней.
И поднялись все его сыновья и дочери, чтобы
утешить его, но он не хотел утешиться и гово-
рил: „Воистину скорбящим сойду я к сыну мо-
ему в преисподнюю"» (37, 34—35). Между тем
юный Иосиф оказывается рабом египетского
придворного Потифара и вскоре приобретает
его чрезвычайное расположение, но и жена По-
тифара влюбляется в Иосифа; когда тот отка-
зывается предавать господина, гневить Яхве и
осквернять собственное целомудрие, госпожа
обвиняет его перед Потифаром в покушении на
свою честь (широко распространенный в миро-
вой литературе мотив Федры—Ипполита).
Иосиф брошен в заточение, но и начальника
темницы ему удается заставить полюбить себя.
Вскоре в той же тюрьме оказываются двое при-
дворных — виночерпий и хлебодар фараона;
оба они видят вещие сны, и Иосиф, имеющий
особую близость к миру сновидений (еще у от-
ца он сам видел вещие сны и был прозван
братьями «Сновидцем»), уверенно их разгады-
вает и предрекает одному — оправдание, друго-
му — казнь. Но затем и сам фараон видит двой-
ной сон (сначала семь тощих коров пожирают
семь тучных коров, затем то же самое происхо-
дит с семью пустыми и семью полными коло-
сками). Придворные гадатели и эксперты по
снотолкованию бессильны; освобожденный ви-
ночерпий докладывает фараону о необыкновен-
ных способностях своего бывшего товарища по
заключению, и Иосиф вызван к фараону. Иосиф
не только разгадывает сон, предрекая семь лет
недорода после семи лет урожая, но и настоль-
ко очаровывает фараона, что немедленно полу-
чает особые полномочия для предотвращения
голода и становится вторым после фараона че-
ловеком в Египте. Между тем предсказанный
недород наступает, и не только в Египетской
земле, но и в Ханаане, так что сыновья Иакова
вынуждены отправиться за хлебом в Египет,,
где предусмотрительный управитель фараона
создал обильные запасы; они встречаются с
этим управителем и беседуют с ним, не узнавая
в нем брата, пока после ряда перипетий не при-
ходит время для сцены узнавания. «И не мог
более Иосиф сдерживаться при всех окружав-
ших его, и закричал: „Выведите от меня всех!"
И не оставалось при Иосифе никого, когда он
открылся братьям своим. И он испустил вопль
с плачем, и услышали египтяне, и услышал дом
фараона. И сказал Иосиф братьям своим: „Я —
Иосиф; жив ли еще мой отец?" Но его братья
не могли отвечать ему, потому что они смути-
лись перед ним. И сказал Иосиф братьям сво-
им: „Подойдите ко мне!
и
— и они подошли, и
он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы
продали в Египет; но не печальтесь, и пусть не
мучает вас совесть, что вы продали меня сю-
да». И бросился он на шею Вениамину, брату
своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее
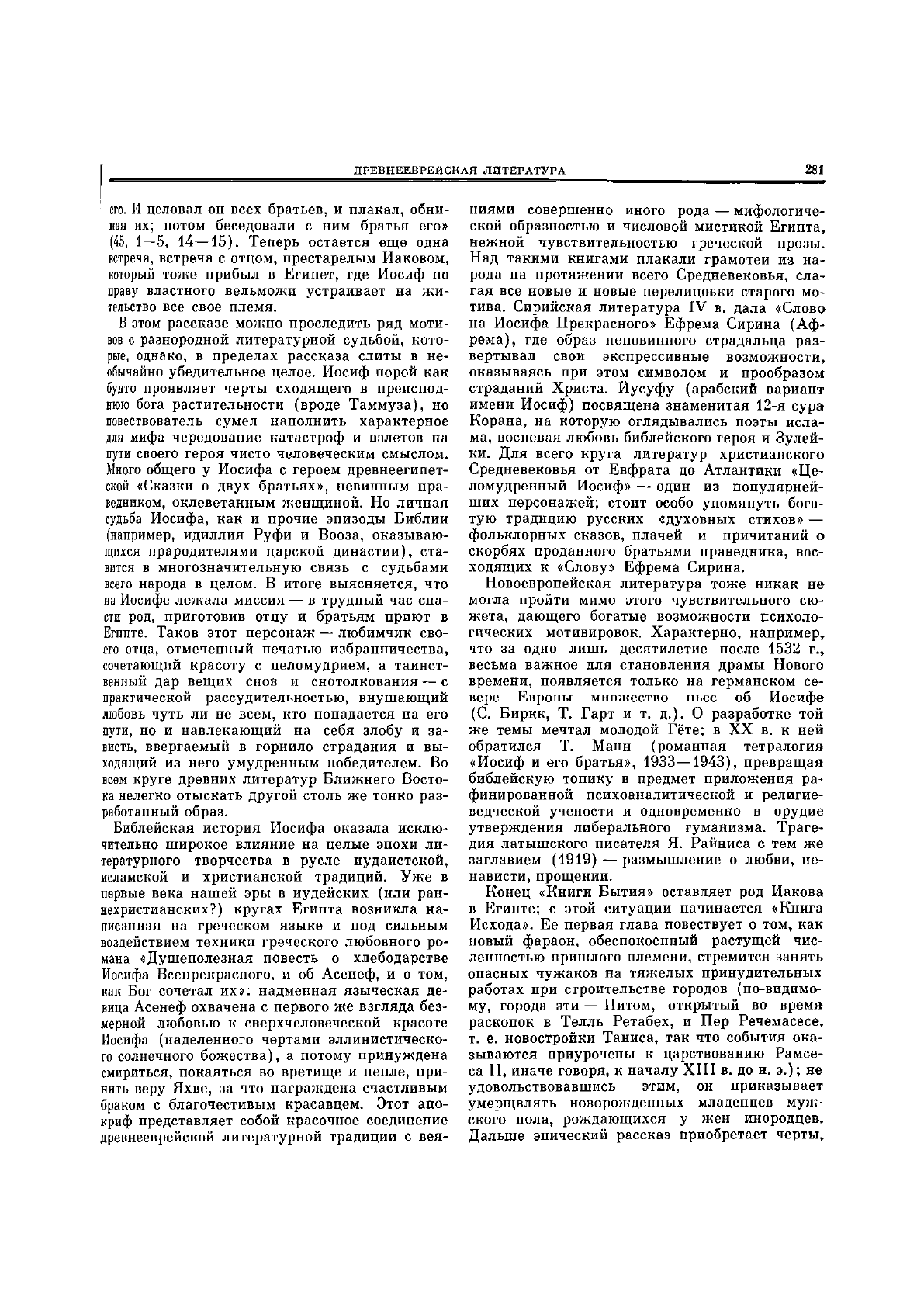
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
281
его. И целовал он всех братьев, и плакал, обни-
мая их; потом беседовали с ним братья его»
(45, 1—5, 14—15). Теперь остается еще одна
встреча, встреча с отцом, престарелым Иаковом,
который тоже прибыл в Египет, где Иосиф по
праву властного вельмояш устраивает на жи-
тельство все свое племя.
В этом рассказе можно проследить ряд моти-
вов с разнородной литературной судьбой, кото-
рые, однако, в пределах рассказа слиты в не-
обычайно убедительное целое. Иосиф порой как
будто проявляет черты сходящего в преиспод-
нюю бога растительности (вроде Таммуза), но
повествователь сумел наполнить характерное
для мифа чередование катастроф и взлетов на
пути своего героя чисто человеческим смыслом.
Много общего у Иосифа с героем древнеегипет-
ской «Сказки о двух братьях», невинным пра-
ведником, оклеветанным женщиной. Но личная
судьба Иосифа, как и прочие эпизоды Библии
(например, идиллия Руфи и Вооза, оказываю-
щихся прародителями царской династии), ста-
вится в многозначительную связь с судьбами
всего народа в целом. В итоге выясняется, что
на Иосифе лежала миссия — в трудный час спа-
сти род, приготовив отцу и братьям приют в
Египте. Таков этот персонаж — любимчик сво-
его отца, отмеченный печатью избранничества,
сочетающий красоту с целомудрием, а таинст-
венный дар вещих снов и снотолкования — с
практической рассудительностью, внушающий
любовь чуть ли не всем, кто попадается на его
пути, но и навлекающий на себя злобу и за-
висть, ввергаемый в горнило страдания и вы-
ходящий из него умудренным победителем. Во
всем круге древних литератур Ближнего Восто-
ка нелегко отыскать другой столь же тонко раз-
работанный образ.
Библейская история Иосифа оказала исклю-
чительно широкое влияние на целые эпохи ли-
тературного творчества в русле иудаистской,
исламской и христианской традиций. Уже в
первые века нашей эры в иудейских (или ран-
нехристианских?) кругах Египта возникла на-
писанная на греческом языке и под сильным
воздействием техники греческого любовного ро-
мана «Душеполезная повесть о хлебодарстве
Иосифа Всепрекрасного, и об Асенеф, и о том,
как Бог сочетал их»: надменная языческая де-
вица Асенеф охвачена с первого же взгляда без-
мерной любовью к сверхчеловеческой красоте
Иосифа (наделенного чертами эллинистическо-
го солнечного божества), а потому принуждена
смириться, покаяться во вретище и пепле, при-
нять веру Яхве, за что награждена счастливым
браком с благочестивым красавцем. Этот апо-
криф представляет собой красочное соединение
древнееврейской литературной традиции с вея-
ниями совершенно иного рода — мифологиче-
ской образностью и числовой мистикой Египта,
нежной чувствительностью греческой прозы.
Над такими книгами плакали грамотеи из на-
рода на протяжении всего Средневековья, сла-
гая все новые и новые перелицовки старого мо-
тива. Сирийская литература IV в. дала «Слово
на Иосифа Прекрасного» Ефрема Сирина (Аф-
рема), где образ неповинного страдальца раз-
вертывал свои экспрессивные возможности
оказываясь при этом символом и прообразом
страданий Христа. Йусуфу (арабский вариант
имени Иосиф) посвящена знаменитая 12-я сура
Корана, на которую оглядывались поэты исла-
ма, воспевая любовь библейского героя и Зулей-
ки. Для всего круга литератур христианского
Средневековья от Евфрата до Атлантики «Це-
ломудренный Иосиф» — один из популярней-
ших персонажей; стоит особо упомянуть бога-
тую традицию русских «духовных стихов» —
фольклорных сказов, плачей и причитаний о
скорбях проданного братьями праведника, вос-
ходящих к «Слову» Ефрема Сирина.
Новоевропейская литература тоже никак не
могла пройти мимо этого чувствительного сю-
жета, дающего богатые возможности психоло-
гических мотивировок. Характерно, например,
что за одно лишь десятилетие после 1532 г.,
весьма важное для становления драмы Нового
времени, появляется только на германском се-
вере Европы множество пьес об Иосифе
(С. Биркк, Т. Гарт и т. д.). О разработке той
же темы мечтал молодой Гёте; в XX в. к ней
обратился Т. Манн (романная тетралогия
«Иосиф и его братья», 1933—1943), превращая
библейскую топику в предмет приложения ра-
финированной психоаналитической и религие-
ведческой учености и одновременно в орудие
утверждения либерального гуманизма. Траге-
дия латышского писателя Я. Райниса с тем же
заглавием (1919) —размышление о любви, не-
нависти, прощении.
Конец «Книги Бытия» оставляет род Иакова
в Египте; с этой ситуации начинается «Книга
Исхода». Ее первая глава повествует о том, как
новый фараон, обеспокоенный растущей чис-
ленностью пришлого племени, стремится занять
опасных чужаков на тяжелых принудительных
работах при строительстве городов (по-видимо-
му, города эти — Питом, открытый во время
раскопок в Телль Ретабех, и Пер Речемасесе,
т. е. новостройки Таниса, так что события ока-
зываются приурочены к царствованию Рамсе-
са II, иначе говоря, к началу XIII в. до н. э.); не
удовольствовавшись этим, он приказывает
умерщвлять новорожденных младенцев муж-
ского пола, рождающихся у жен инородцев.
Дальше эпический рассказ приобретает черты»
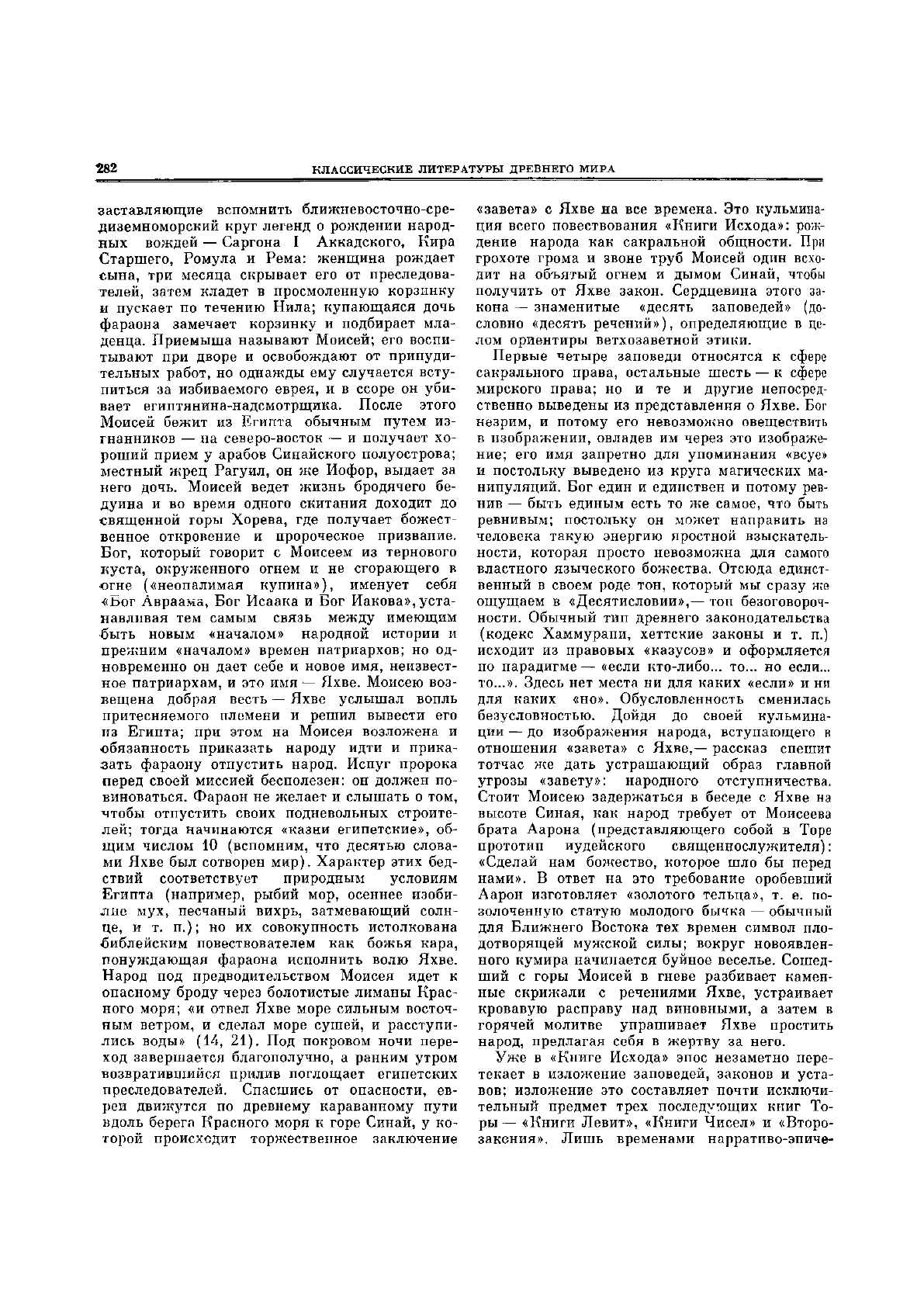
282
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
заставляющие вспомнить ближневосточно-сре-
диземноморский круг легенд о рождении народ-
ных вождей — Саргона I Аккадского, Кира
Старшего, Ромула и Рема: женщина рождает
сына, три месяца скрывает его от преследова-
телей, затем кладет в просмоленную корзинку
и пускает по течению Нила; купающаяся дочь
фараона замечает корзинку и подбирает мла-
денца. Приемыша называют Моисей; его воспи-
тывают при дворе и освобождают от принуди-
тельных работ, но однажды ему случается всту-
питься за избиваемого еврея, и в ссоре он уби-
вает египтянина-надсмотрщика. После этого
Моисей бежит из Египта обычным путем из-
гнанников — на северо-восток — и получает хо-
роший прием у арабов Синайского полуострова;
местный жрец Рагуил, он же Иофор, выдает за
него дочь. Моисей ведет жизнь бродячего бе-
дуина и во время одного скитания доходит до
священной горы Хорева, где получает божест-
венное откровение и пророческое призвание.
Бог, который говорит с Моисеем из тернового
куста, окруженного огнем и не сгорающего в
огне («неопалимая купина»), именует себя
«Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»,уста-
навливая тем самым связь между имеющим
быть новым «началом» народной истории и
прежним «началом» времен патриархов; но од-
новременно он дает себе и новое имя, неизвест-
ное патриархам, и это имя — Яхве. Моисею воз-
вещена добрая весть — Яхве услышал вопль
притесняемого племени и решил вывести его
из Египта; при этом на Моисея возложена и
обязанность приказать народу идти и прика-
зать фараону отпустить народ. Испуг пророка
перед своей миссией бесполезен: он должен по-
виноваться. Фараон не желает и слышать о том,
чтобы отпустить своих подневольных строите-
лей; тогда начинаются «казни египетские», об-
щим числом 10 (вспомним, что десятью слова-
ми Яхве был сотворен мир). Характер этих бед-
ствий соответствует природным условиям
Египта (например, рыбий мор, осеннее изоби-
лие мух, песчаный вихрь, затмевающий солн-
це, и т. п.); но их совокупность истолкована
библейским повествователем как божья кара,
понуждающая фараона исполнить волю Яхве.
Народ под предводительством Моисея идет к
опасному броду через болотистые лиманы Крас-
ного моря; «и отвел Яхве море сильным восточ-
ным ветром, и сделал море сушей, и расступи-
лись воды» (14, 21). Под покровом ночи пере-
ход завершается благополучно, а ранним утром
возвратившийся прилив поглощает египетских
преследователей. Спасшись от опасности, ев-
реи движутся по древнему караванному пути
вдоль берега Красного моря к горе Синай, у ко-
торой происходит торжественное заключение
«завета» с Яхве на все времена. Это кульмина-
ция всего повествования «Книги Исхода»: рож-
дение народа как сакральной общности. При
грохоте грома и звоне труб Моисей один всхо-
дит на объятый огнем и дымом Синай, чтобы
получить от Яхве закон. Сердцевина этого за-
кона — знаменитые «десять заповедей» (до-
словно «десять речений»), определяющие в це-
лом ориентиры ветхозаветной этики.
Первые четыре заповеди относятся к сфере
сакрального права, остальные шесть — к сфере
мирского права; но и те и другие непосред-
ственно выведены из представления о Яхве. Бог
незрим, и потому его невозможно овеществить
в изображении, овладев им через это изображе-
ние; его имя запретно для упоминания «всуе»
и постольку выведено из круга магических ма-
нипуляций. Бог един и единствен и потому рев-
нив — быть единым есть то же самое, что быть
ревнивым; постольку он может направить на
человека такую энергию яростной взыскатель-
ности, которая просто невозможна для самого
властного языческого божества. Отсюда единст-
венный в своем роде тон, который мы сразу же
ощущаем в «Десятисловии»,— тон безоговороч-
ности. Обычный тип древнего законодательства
(кодекс Хаммурапи, хеттские законы и т. п.)
исходит из правовых «казусов» и оформляется
по парадигме — «если кто-либо... то... но если...
то...». Здесь нет места ни для каких «если» и ни
для каких «но». Обусловленность сменилась
безусловностью. Дойдя до своей кульмина-
ции — до изображения народа, вступающего в
отношения «завета» с Яхве,— рассказ спешит
тотчас же дать устрашающий образ главной
угрозы «завету»: народного отступничества.
Стоит Моисею задержаться в беседе с Яхве на
высоте Синая, как народ требует от Моисеева
брата Аарона (представляющего собой в Торе
прототип иудейского священнослужителя) :
«Сделай нам божество, которое шло бы перед
нами». В ответ на это требование оробевший
Аарон изготовляет «золотого тельца», т. е. по-
золоченную статую молодого бычка — обычный
для Ближнего Востока тех времен символ пло-
дотворящей мужской силы; вокруг новоявлен-
ного кумира начинается буйное веселье. Сошед-
ший с горы Моисей в гневе разбивает камен-
ные скрижали с речениями Яхве, устраивает
кровавую расправу над виновными, а затем в
горячей молитве упрашивает Яхве простить
народ, предлагая себя в жертву за него.
Уже в «Книге Исхода» эпос незаметно пере-
текает в изложение заповедей, законов и уста-
вов; изложение это составляет почти исключи-
тельный предмет трех последующих книг То-
ры— «Книги Левит», «Книги Чисел» и «Второ-
закония». Лишь временами нарративо-эпиче-
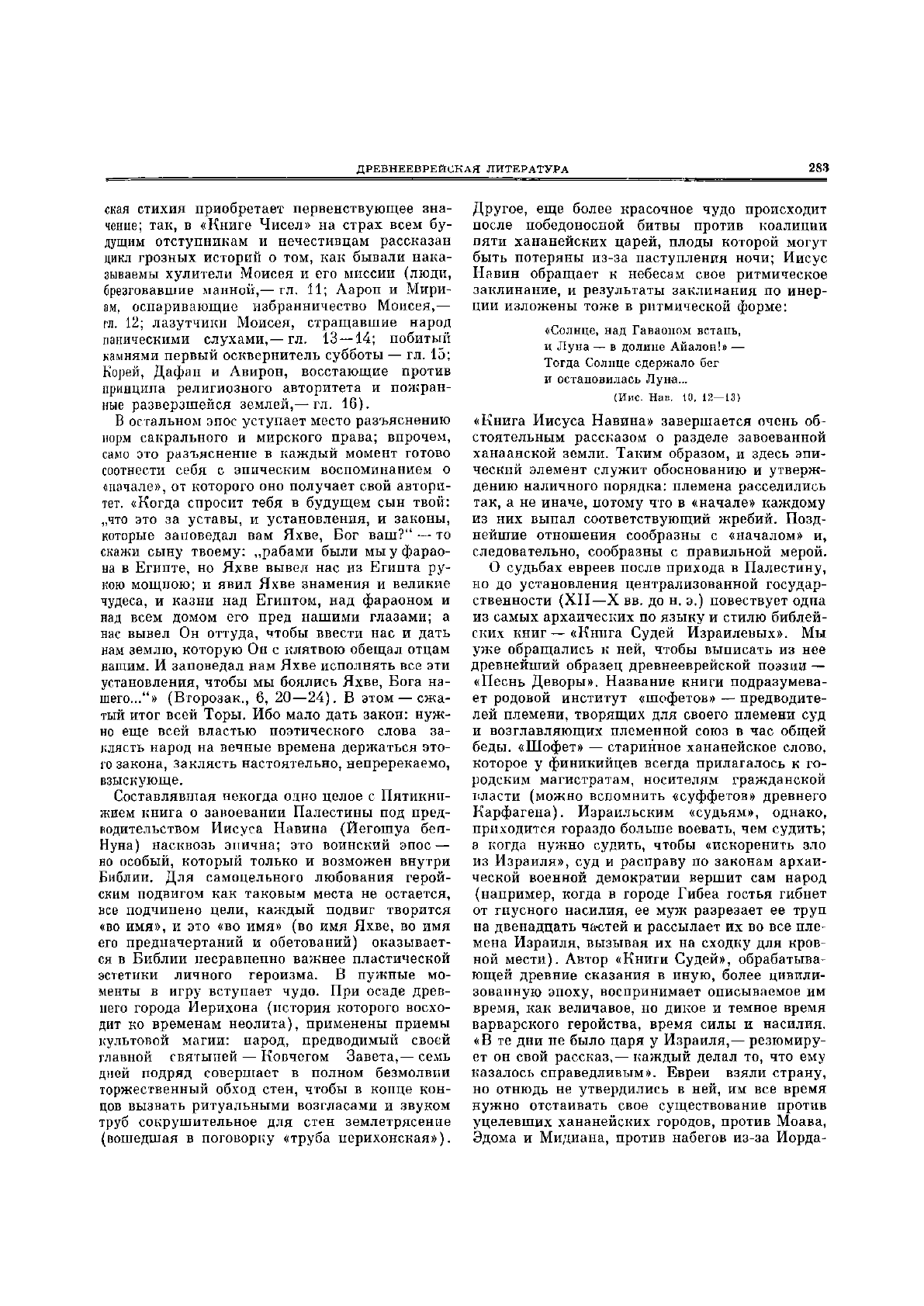
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
283
екая стихия приобретает первенствующее зна-
чение; так, в «Книге Чисел» на страх всем бу-
дущим отступникам и нечестивцам рассказан
цикл грозных историй о том, как бывали нака-
зываемы хулители Моисея и его миссии (люди,
брезговавшие манной,— гл. 11; Аарон и Мири-
ам, оспаривающие избранничество Моисея,—
гл. 12; лазутчики Моисея, стращавшие народ
паническими слухами,— гл. 13—14; побитый
камнями первый осквернитель субботы — гл. 15;
Корей, Дафан и Авирон, восстающие против
принципа религиозного авторитета и пожран-
ные разверзшейся землей,— гл. 16).
В остальном эпос уступает место разъяснению
норм сакрального и мирского права; впрочем,
само это разъяснение в каждый момент готово
соотнести себя с эпическим воспоминанием о
«начале», от которого оно получает свой автори-
тет. «Когда спросит тебя в будущем сын твой:
„что это за уставы, и установления, и законы,
которые заповедал вам Яхве, Бог ваш?
44
— то
скажи сыну твоему: „рабами были мы у фарао-
на в Египте, но Яхве вывел нас из Египта ру-
кою мощною; и явил Яхве знамения и великие
чудеса, и казни над Египтом, над фараоном и
над всем домом его пред нашими глазами; а
нас вывел Он оттуда, чтобы ввести нас и дать
нам землю, которую Он с клятвою обещал отцам
нашим. И заповедал нам Яхве исполнять все эти
установления, чтобы мы боялись Яхве, Бога на-
шего...
44
» (Вгорозак., 6, 20—24). В этом — сжа-
тый итог всей Торы. Ибо мало дать закон: нуж-
но еще всей властью поэтического слова за-
клясть народ на вечные времена держаться это-
го закона, заклясть настоятельно, непререкаемо,
взыскующе.
Составлявшая некогда одно целое с Пятикни-
жием книга о завоевании Палестины под пред-
водительством Иисуса Навина (Йегошуа бея-
Нуна) насквозь эпична; это воинский эпос —
но особый, который только и возможен внутри
Библии. Для самоцельного любования герой-
ским подвигом как таковым места не остается,
все подчинено цели, каждый подвиг творится
«во имя», и это «во имя» (во имя Яхве, во имя
его предначертаний и обетований) оказывает-
ся в Библии несравненно важнее пластической
эстетики личного героизма. В нужные мо-
менты в игру вступает чудо. При осаде древ-
него города Иерихона (история которого восхо-
дит ко временам неолита), применены приемы
культовой магии: народ, предводимый своей
главной святыней — Ковчегом Завета,— семь
дней подряд совершает в полном безмолвии
торжественный обход стен, чтобы в конце кон-
цов вызвать ритуальными возгласами и звуком
труб сокрушительное для стен землетрясение
(вошедшая в поговорку «труба иерихонская»).
Другое, еще более красочное чудо происходит
после победоносной битвы против коалиции
пяти хананейских царей, плоды которой могут
быть потеряны из-за наступления ночи; Иисус
Навин обращает к небесам свое ритмическое
заклинание, и результаты заклинания по инер-
ции изложены тоже в ритмической форме:
«Солнце, над Гаваоном встань,
и Луна — в долине Айалон!» —
Тогда Солнце сдержало бег
и остановилась Луна...
(Иис. Нав. 10, 12—13)
«Книга Иисуса Навина» завершается очень об-
стоятельным рассказом о разделе завоеванной
ханаанской земли. Таким образом, и здесь эпи-
ческий элемент служит обоснованию и утверж-
дению наличного порядка: племена расселились
так, а не иначе, потому что в «начале» каждому
из них выпал соответствующий жребий. Позд-
нейшие отношения сообразны с «началом» и,
следовательно, сообразны с правильной мерой.
О судьбах евреев после прихода в Палестину,
но до установления централизованной государ-
ственности (XII—X вв. до н. э.) повествует одна
из самых архаических по языку и стилю библей-
ских книг—«Книга Судей Израилевых». Мы
уже обращались к ней, чтобы выписать из нее
древнейший образец древнееврейской поэзии —
«Песнь Деворы». Название книги подразумева-
ет родовой институт «шофетов» — предводите-
лей племени, творящих для своего племени суд
и возглавляющих племенной союз в час общей
беды. «Шофет» — старинное хананейское слово,
которое у финикийцев всегда прилагалось к го-
родским магистратам, носителям гражданской
власти (можно вспомнить «суффетов» древнего
Карфагена). Израильским «судьям», однако,
приходится гораздо больше воевать, чем судить;
а когда нужно судить, чтобы «искоренить зло
из Израиля», суд и расправу по законам архаи-
ческой военной демократии вершит сам народ
(например, когда в городе Гибеа гостья гибнет
от гнусного насилия, ее муж разрезает ее труп
на двенадцать частей и рассылает их во все пле-
мена Израиля, вызывая их на сходку для кров-
ной мести). Автор «Книги Судей», обрабатыва-
ющей древние сказания в иную, более цивили-
зованную эпоху, воспринимает описываемое им
время, как величавое, но дикое и темное время
варварского геройства, время силы и насилия.
«В те дни не было царя у Израиля,— резюмиру-
ет он свой рассказ,— каждый делал то, что ему
казалось справедливым». Евреи взяли страну,
но отнюдь не утвердились в ней, им все время
нужно отстаивать свое существование против
уцелевших хананейских городов, против Моава,
Эдома и Мидиана, против набегов из-за Иорда-
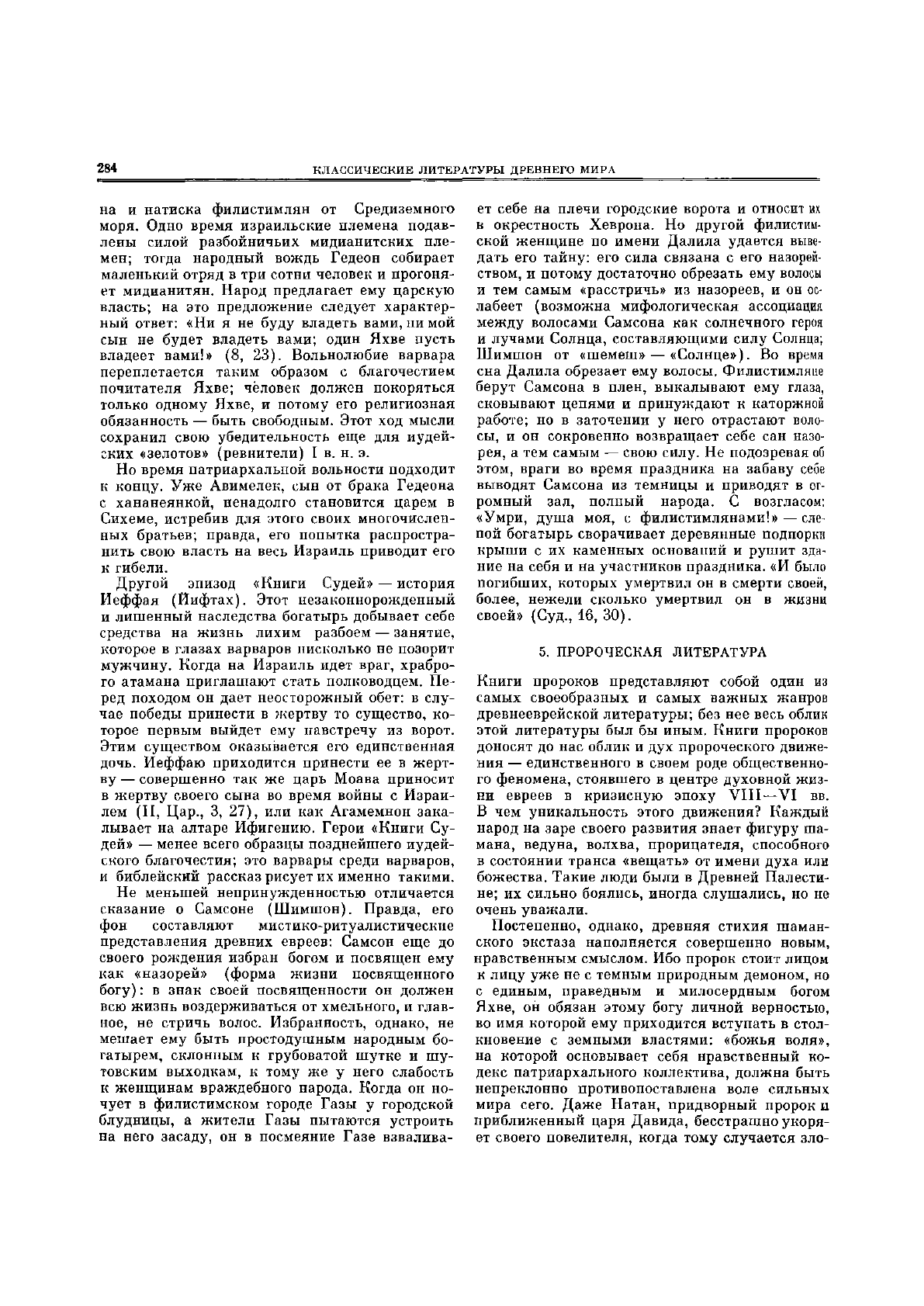
284
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
на и натиска филистимлян от Средиземного
моря. Одно время израильские племена подав-
лены силой разбойничьих мидианитских пле-
мен; тогда народный вождь Гедеон собирает
маленький отряд в три сотни человек и прогоня-
ет мидианитян. Народ предлагает ему царскую
власть; на это предложение следует характер-
ный ответ: «Ни я не буду владеть вами, ни мой
сын не будет владеть вами; один Яхве пусть
владеет вами!» (8, 23). Вольнолюбие варвара
переплетается таким образом с благочестием
почитателя Яхве; человек должен покоряться
только одному Яхве, и потому его религиозная
обязанность — быть свободным. Этот ход мысли
сохранил свою убедительность еще для иудей-
ских «зелотов» (ревнители) I в. н.э.
Но время патриархальной вольности подходит
к концу. Уже Авимелек, сын от брака Гедеона
с хананеянкой, ненадолго становится царем в
Сихеме, истребив для этого своих многочислен-
ных братьев; правда, его попытка распростра-
нить свою власть на весь Израиль приводит его
к гибели.
Другой эпизод «Книги Судей» — история
Иеффая (Йифтах). Этот незаконнорожденный
и лишенный наследства богатырь добывает себе
средства на жизнь лихим разбоем — занятие,
которое в глазах варваров нисколько не позорит
мужчину. Когда на Израиль идет враг, храбро-
го атамана приглашают стать полководцем. Пе-
ред походом он дает неосторожный обет: в слу-
чае победы принести в жертву то существо, ко-
торое первым выйдет ему навстречу из ворот.
Этим существом оказывается его единственная
дочь. Иеффаю приходится принести ее в жерт-
ву — совершенно так же царь Моава приносит
в жертву своего сына во время войны с Израи-
лем (II, Цар., 3, 27), или как Агамемнон зака-
лывает на алтаре Ифигению. Герои «Книги Су-
дей» — менее всего образцы позднейшего иудей-
ского благочестия; это варвары среди варваров,
и библейский рассказ рисует их именно такими.
Не меньшей непринужденностью отличается
сказание о Самсоне (Шимшон). Правда, его
фон составляют мистико-ритуалистические
представления древних евреев: Самсон еще до
своего рождения избран богом и посвящен ему
как «назорей» (форма жизни посвященного
богу): в знак своей посвященности он должен
всю жизнь воздерживаться от хмельного, и глав-
ное, не стричь волос. Избранность, однако, не
мешает ему быть простодушным народным бо-
гатырем, склонным к грубоватой шутке и шу-
товским выходкам, к тому же у него слабость
к женщинам враждебного народа. Когда он но-
чует в филистимском городе Газы у городской
блудницы, а жители Газы пытаются устроить
на него засаду, он в посмеяние Газе взвалива-
ет себе на плечи городские ворота и относит их
в окрестность Хеврона. Но другой филистим-
ской женщине по имени Далила удается выве-
дать его тайну: его сила связана с его назорей-
ством, и потому достаточно обрезать ему волосы
и тем самым «расстричь» из назореев, и он ос-
лабеет (возможна мифологическая ассоциация
между волосами Самсона как солнечного героя
и лучами Солнца, составляющими силу Солнца;
Шимшон от «шемеш» — «Солнце»). Во время
сна Далила обрезает ему волосы. Филистимляне
берут Самсона в плен, выкалывают ему глаза,
сковывают цепями и принуждают к каторжной
работе; но в заточении у него отрастают воло-
сы, и он сокровенно возвращает себе сан назо-
рея, а тем самым — свою силу. Не подозревая об
этом, враги во время праздника на забаву себе
выводят Самсона из темницы и приводят в ог-
ромный зал, полный народа. С возгласом:
«Умри, душа моя, с филистимлянами!»—сле-
пой богатырь сворачивает деревянные подпорки
крыши с их каменных оснований и рушит зда-
ние на себя и на участников праздника. «И было
погибших, которых умертвил он в смерти своей,
более, нежели сколько умертвил он в жизни
своей» (Суд., 16, 30).
5. ПРОРОЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Книги пророков представляют собой один из
самых своеобразных и самых важных жанров
древнееврейской литературы; без нее весь облик
этой литературы был бы иным. Книги пророков
доносят до нас облик и дух пророческого движе-
ния — единственного в своем роде общественно-
го феномена, стоявшего в центре духовной жиз-
ни евреев в кризисную эпоху VIII—VI вв.
В чем уникальность этого движения? Каждый
народ на заре своего развития знает фигуру ша-
мана, ведуна, волхва, прорицателя, способного
в состоянии транса «вещать» от имени духа или
божества. Такие люди были в Древней Палести-
не; их сильно боялись, иногда слушались, но не
очень уважали.
Постепенно, однако, древняя стихия шаман-
ского экстаза наполняется совершенно новым,
нравственным смыслом. Ибо пророк стоит лицом
к лицу уже не с темным природным демоном, но
с единым, праведным и милосердным богом
Яхве, он обязан этому богу личной верностью,
во имя которой ему приходится вступать в стол-
кновение с земными властями: «божья воля»,
на которой основывает себя нравственный ко-
декс патриархального коллектива, должна быть
непреклонно противопоставлена воле сильных
мира сего. Даже Натан, придворный пророк и
приближенный царя Давида, бесстрашно укоря-
ет своего повелителя, когда тому случается зло-
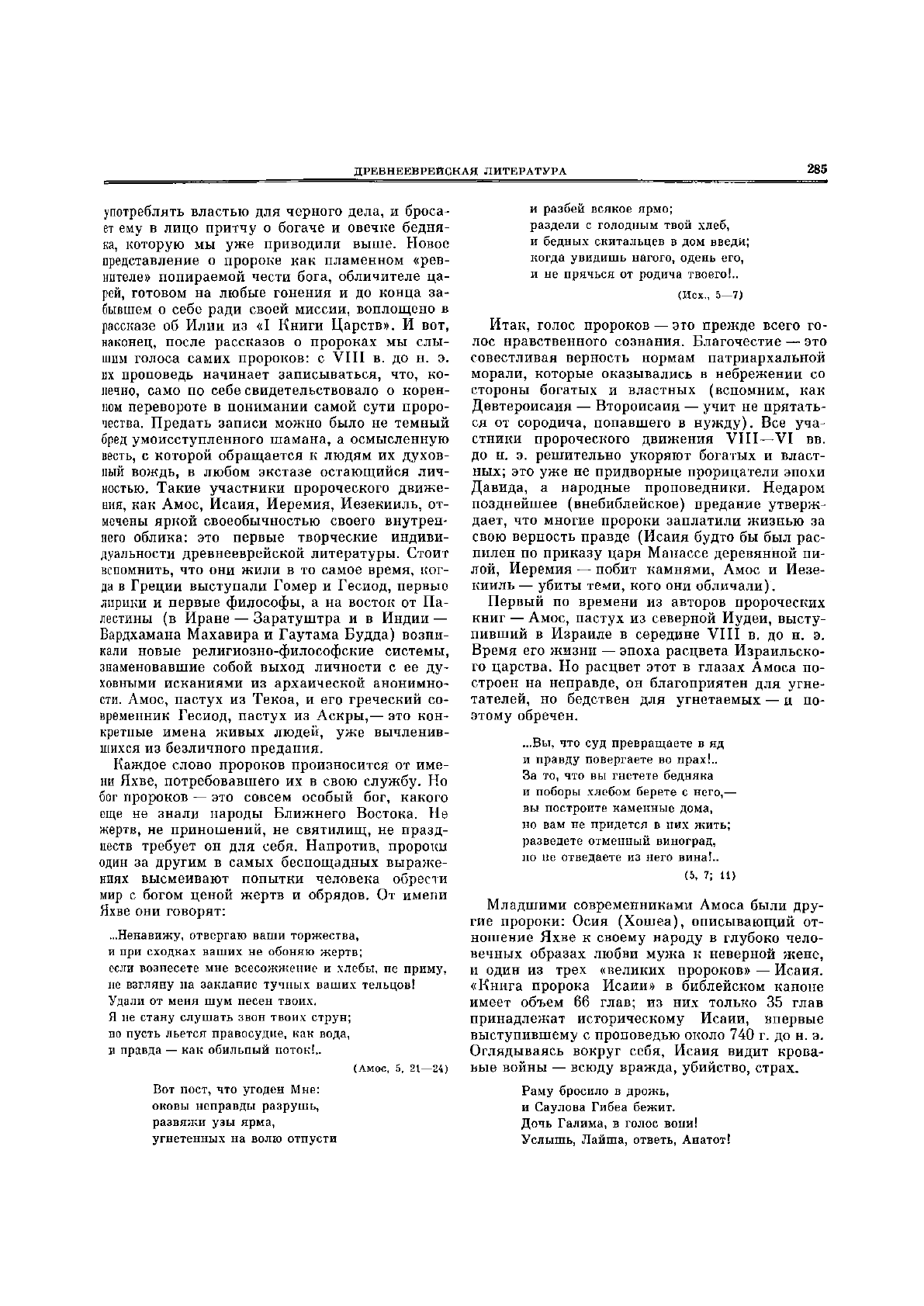
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
285
употреблять властью для черного дела, и броса-
ет ему в лицо притчу о богаче и овечке бедня-
ка, которую мы уже приводили выше. Новое
представление о пророке как пламенном «рев-
нителе» попираемой чести бога, обличителе ца-
рей, готовом на любые гонения и до конца за-
бывшем о себе ради своей миссии, воплощено в
рассказе об Илии из «I Книги Царств». И вот,
наконец, после рассказов о пророках мы слы-
шим голоса самих пророков: с VIII в. до н. э.
их проповедь начинает записываться, что, ко-
нечно, само по себе свидетельствовало о корен-
ном перевороте в понимании самой сути проро-
чества. Предать записи можно было не темный
бред умоисступленного шамана, а осмысленную
весть, с которой обращается к людям их духов-
ный вождь, в любом экстазе остающийся лич-
ностью. Такие участники пророческого движе-
ния, как Амос, Исайя, Иеремия, Иезекииль, от-
мечены яркой своеобычностью своего внутрен-
него облика: это первые творческие индиви-
дуальности древнееврейской литературы. Стоит
вспомнить, что они жили в то самое время, ког-
да в Греции выступали Гомер и Гесиод, первые
лирики и первые философы, а на восток от Па-
лестины (в Иране — Заратуштра и в Индии —
Бардхамана Махавира и Гаутама Будда) возни-
кали новые религиозно-философские системы,
знаменовавшие собой выход личности с ее ду-
ховными исканиями из архаической анонимно-
сти. Амос, пастух из Текоа, и его греческий со-
временник Гесиод, пастух из Аскры,— это кон-
кретные имена живых людей, уже вычленив-
шихся из безличного предания.
Каждое слово пророков произносится от име-
ни Яхве, потребовавшего их в свою службу. Но
бог пророков — это совсем особый бог, какого
еще не знали народы Ближнего Востока. Не
жертв, не приношений, не святилищ, не празд-
неств требует он для себя. Напротив, пророки
один за другим в самых беспощадных выраже-
ниях высмеивают попытки человека обрести
мир с богом ценой жертв и обрядов. От имени
Яхве они говорят:
...Ненавижу, отвергаю ваши торжества,
и при сходках ваших не обоняю жертв;
если вознесете мне всесожжение и хлебы, не приму,
не взгляну на заклание тучных ваших тельцов!
Удали от меня шум песен твоих.
Я не стану слушать звон твоих струн;
но пусть льется правосудие, как вода,
и правда — как обильный поток!..
(Амос, 5, 21—24)
Вот пост, что угоден Мне:
оковы неправды разрушь,
развяжи узы ярма,
угнетенных на волю отпусти
и разбей всякое ярмо;
раздели с голодным твой хлеб,
и бедных скитальцев в дом введи;
когда увидишь нагого, одень его,
и не прячься от родича твоего!..
(Исх., 5—7)
Итак, голос пророков — это прежде всего го-
лос нравственного сознания. Благочестие — это
совестливая верность нормам патриархальной
морали, которые оказывались в небрежении со
стороны богатых и властных (вспомним, как
Девтероисаия — Второисаия — учит не прятать-
ся от сородича, попавшего в нужду). Все уча-
стники пророческого движения VIII—VI вв.
до н. э. решительно укоряют богатых и власт-
ных; это уже не придворные прорицатели эпохи
Давида, а народные проповедники. Недаром
позднейшее (внебиблейское) предание утверж-
дает, что многие пророки заплатили жизнью за
свою верность правде (Исайя будто бы был рас-
пилен по приказу царя Манассе деревянной пи-
лой, Иеремия — побит камнями, Амос и Иезе-
кииль — убиты теми, кого они обличали).
Первый по времени из авторов пророческих
книг — Амос, пастух из северной Иудеи, высту-
пивший в Израиле в середине VIII в. до н. э.
Время его жизни — эпоха расцвета Израильско-
го царства. Но расцвет этот в глазах Амоса по-
строен на неправде, он благоприятен для угне-
тателей, но бедствен для угнетаемых — и по-
этому обречен.
...Вы, что суд превращаете в яд
и правду повергаете во прах!..
За то, что вы гнетете бедняка
и поборы хлебом берете с него,—
вы построите каменные дома,
но вам не придется в них жить;
разведете отменный виноград,
но не отведаете из него вина!..
(5, 7; 11)
Младшими современниками Амоса были дру-
гие пророки: Осия (Хошеа), описывающий от-
ношение Яхве к своему народу в глубоко чело-
вечных образах любви мужа к неверной жене,
и один из трех «великих пророков» — Исайя.
«Книга пророка Исаии» в библейском каноне
имеет объем 66 глав; из них только 35 глав
принадлежат историческому Исаии, впервые
выступившему с проповедью около 740 г. до н. э.
Оглядываясь вокруг себя, Исайя видит крова-
вые войны — всюду вражда, убийство, страх.
Раму бросило в дрожь,
и Саулова Гибеа бежит.
Дочь Галима, в голос вони!
Услышь, Лайша, ответь, Анатот!
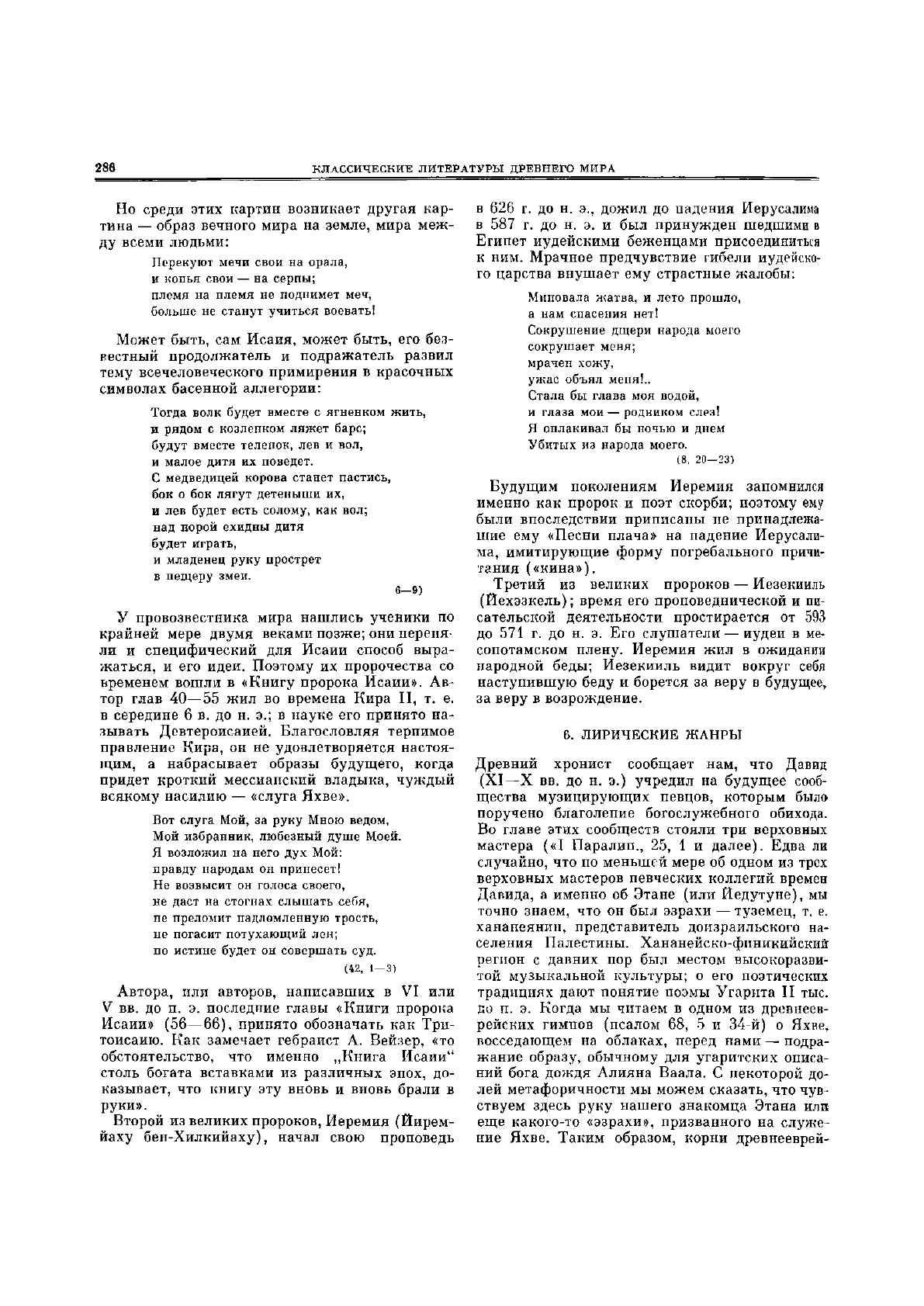
286
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
Но среди этих картин возникает другая кар-
тина — образ вечного мира на земле, мира меж-
ду всеми людьми:
Перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы;
племя на племя не поднимет меч,
больше не станут учиться воевать!
Может быть, сам Исайя, может быть, его без-
вестный продолжатель и подражатель развил
тему всечеловеческого примирения в красочных
символах басенной аллегории:
Тогда волк будет вместе с ягненком жить,
и рядом с козленком ляжет барс;
будут вместе теленок, лев и вол,
и малое дитя их поведет.
С медведицей корова станет пастись,
бок о бок лягут детеныши их,
и лев будет есть солому, как вол;
над норой ехидны дитя
будет играть,
и младенец руку прострет
в пещеру змеи.
6—9)
У провозвестника мира нашлись ученики по
крайней мере двумя веками позже; они переня-
ли и специфический для Исаии способ выра-
жаться, и его идеи. Поэтому их пророчества со
временем вошли в «Книгу пророка Исаии». Ав-
тор глав 40—55 жил во времена Кира II, т. е.
в середине 6 в. до н. э.; в науке его принято на-
зывать Девтероисаией. Благословляя терпимое
правление Кира, он не удовлетворяется настоя-
щим, а набрасывает образы будущего, когда
придет кроткий мессианский владыка, чуждый
всякому насилию — «слуга Яхве».
Вот слуга Мой, за руку Мною ведом,
Мой избранник, любезный душе Моей.
Я возложил на него дух Мой:
правду народам он принесет!
Не возвысит он голоса своего,
не даст на стогнах слышать себя,
не преломит надломленную трость,
не погасит потухающий лен;
по истине будет он совершать суд.
(42, 1 — 3)
Автора, или авторов, написавших в VI или
V вв. до п. э. последние главы «Книги пророка
Исаии» (56—66), принято обозначать как Три-
тоисаию. Как замечает гебраист А. Вейзер, «то
обстоятельство, что именно „Книга Исаии"
столь богата вставками из различных эпох, до-
казывает, что книгу эту вновь и вновь брали в
руки».
Второй из великих пророков, Иеремия (Йирем-
йаху бен-Хилкийаху), начал свою проповедь
в 626 г. до н. э., дожил до падения Иерусалима
в 587 г. до н. э. и был принужден шедшими в
Египет иудейскими беженцами присоединиться
к ним. Мрачное предчувствие гибели иудейско-
го царства внушает ему страстные жалобы:
Миновала жатва, и лето прошло,
а нам спасения нет!
Сокрушение дщери народа моего
сокрушает меня;
мрачен хожу,
ужас объял меня!..
Стала бы глава моя водой,
и глаза мои — родником слез!
Я оплакивал бы ночью и днем
Убитых из народа моего.
(8, 20—23)
Будущим поколениям Иеремия запомнился
именно как пророк и поэт скорби; поэтому ему
были впоследствии приписаны не принадлежа-
щие ему «Песни плача» на падение Иерусали-
ма, имитирующие форму погребального причи-
тания («кина»).
Третий из великих пророков — Иезекииль
(Йехэзкель); время его проповеднической и пи-
сательской деятельности простирается от 593
до 571 г. до н. э. Его слушатели — иудеи в ме-
сопотамском плену. Иеремия жил в ожидании
народной беды; Иезекииль видит вокруг себя
наступившую беду и борется за веру в будущее,
за веру в возрождение.
6. ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
Древний хронист сообщает нам, что Давид
(XI—X вв. до н. э.) учредил на будущее сооб-
щества музицирующих певцов, которым было
поручено благолепие богослужебного обихода.
Во главе этих сообществ стояли три верховных
мастера («I Паралип., 25, 1 и далее). Едва ли
случайно, что по меньшей мере об одном из трех
верховных мастеров певческих коллегий времен
Давида, а именно об Этане (или Йедутуне), мы
точно знаем, что он был эзрахи — туземец, т. е.
хананеянин, представитель доизраильского на-
селения Палестины. Хананейско-финикийский
регион с давних пор был местом высокоразви-
той музыкальной культуры; о его поэтических
традициях дают понятие поэмы Угарита II тыс.
до II. э. Когда мы читаем в одном из древнеев-
рейских гимнов (псалом 68, 5 и 34-й) о Яхве,
восседающем на облаках, перед нами — подра-
жание образу, обычному для угаритских описа-
ний бога дождя Алияна Ваала. С некоторой до-
лей метафоричности мы можем сказать, что чув-
ствуем здесь руку нашего знакомца Этана или
еще какого-то «эзрахи», призванного на служе-
ние Яхве. Таким образом, корни древнееврей-
