Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

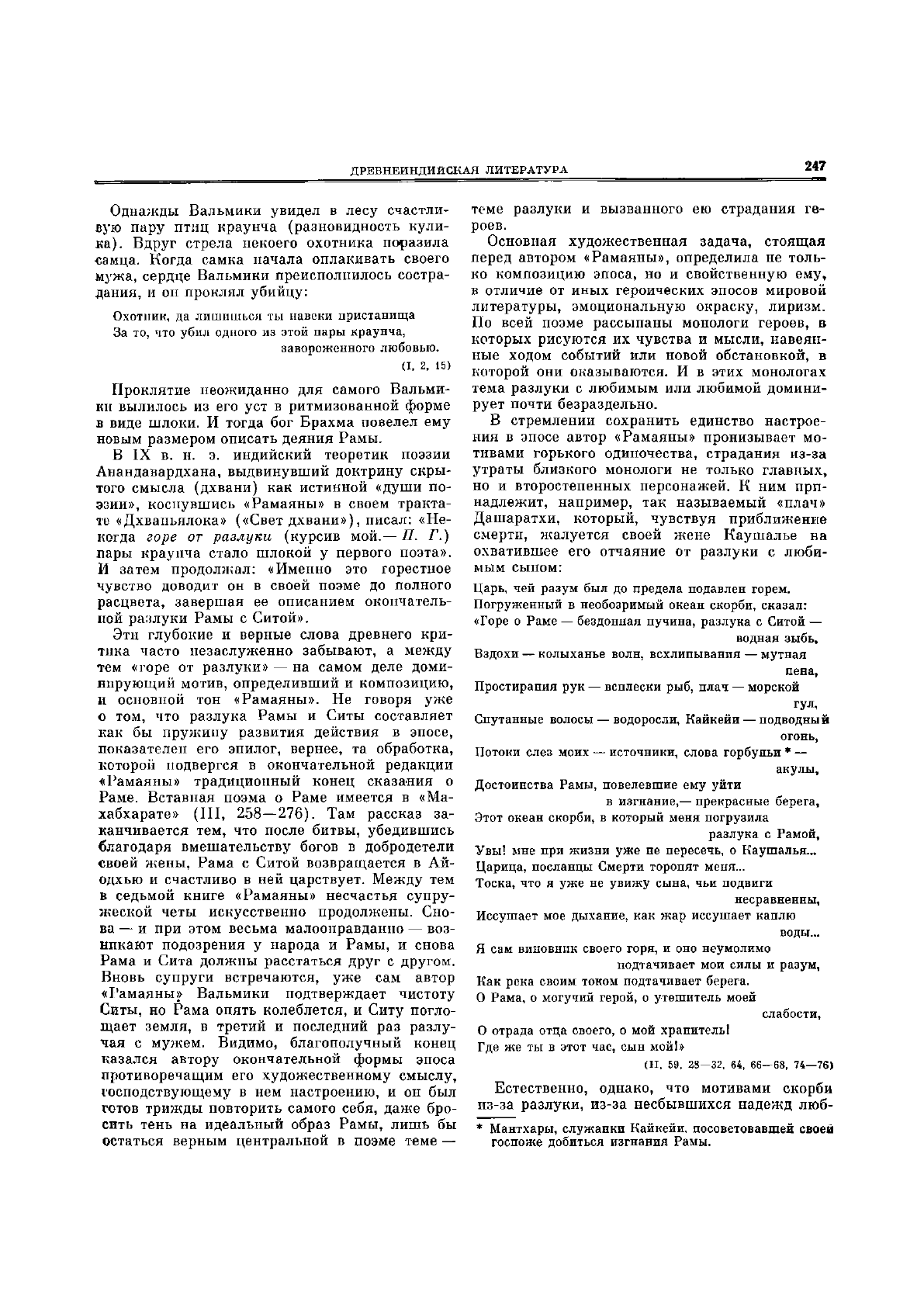
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
247
Однажды Вальмики увидел в лесу счастли-
вую пару птиц краунча (разновидность кули-
ка). Вдруг стрела некоего охотника поразила
самца. Когда самка начала оплакивать своего
мужа, сердце Вальмики преисполнилось состра-
дания, и он проклял убийцу:
Охотник, да лишишься ты навеки пристанища
За то, что убил одного из этой пары краунча,
завороженного любовью.
(I, 2, 15)
Проклятие неожиданно для самого Вальми-
ки вылилось из его уст в ритмизованной форме
в виде шлоки. И тогда бог Брахма повелел ему
новым размером описать деяния Рамы.
В IX в. II. э. индийский теоретик поэзии
Апандавардхана, выдвинувший доктрину скры-
того смысла (дхвани) как истинной «души по-
эзии», коснувшись «Рамаяны» в своем тракта-
те «Дхвапьялока» («Свет дхвани»), писал: «Не-
когда горе от разлуки (курсив мой.— П. Г.)
пары краунча стало шлокой у первого поэта».
И затем продолжал: «Именно это горестное
чувство доводит он в своей поэме до полного
расцвета, завершая ее описанием окончатель-
ной разлуки Рамы с Ситой».
Эти глубокие и верные слова древнего кри-
тика часто незаслуженно забывают, а между
тем «горе от разлуки» — на самом деле доми-
нирующий мотив, определивший и композицию,
и основной тон «Рамаяны». Не говоря уже
о том, что разлука Рамы и Ситы составляет
как бы пружину развития действия в эпосе,
показателен его эпилог, вернее, та обработка,
которой подвергся в окончательной редакции
«Рамаяны» традиционный конец сказания о
Раме. Вставная поэма о Раме имеется в «Ма-
хабхарате» (III, 258—276). Там рассказ за-
канчивается тем, что после битвы, убедившись
благодаря вмешательству богов в добродетели
своей жены, Рама с Ситой возвращается в Ай-
одхью и счастливо в ней царствует. Между тем
в седьмой книге «Рамаяны» несчастья супру-
жеской четы искусственно продолжены. Сно-
ва — и при этом весьма малооправданно — воз-
никают подозрения у народа и Рамы, и снова
Рама и Сита должны расстаться друг с другом.
Вновь супруги встречаются, уже сам автор
«Рамаяны» Вальмики подтверждает чистоту
Ситы, но Рама опять колеблется, и Ситу погло-
щает земля, в третий и последний раз разлу-
чая с мужем. Видимо, благополучный конец
казался автору окончательной формы эпоса
противоречащим его художественному смыслу,
господствующему в нем настроению, и он был
готов трижды повторить самого себя, даже бро-
сить тень на идеальный образ Рамы, лишь бы
остаться верным центральной в поэме теме —
теме разлуки и вызванного ею страдания ге-
роев.
Основная художественная задача, стоящая
перед автором «Рамаяны», определила не толь-
ко композицию эпоса, но и свойственную ему,
в отличие от иных героических эпосов мировой
литературы, эмоциональную окраску, лиризм.
По всей поэме рассыпаны монологи героев, в
которых рисуются их чувства и мысли, навеян-
ные ходом событий или новой обстановкой, в
которой они оказываются. И в этих монологах
тема разлуки с любимым или любимой домини-
рует почти безраздельно.
В стремлении сохранить единство настрое-
ния в эпосе автор «Рамаяны» пронизывает мо-
тивами горького одиночества, страдания из-за
утраты близкого монологи не только главных,
но и второстепенных персонажей. К ним при-
надлежит, например, так называемый «плач»
Дашаратхи, который, чувствуя приближение
смерти, жалуется своей жене Каушалье на
охватившее его отчаяние от разлуки с люби-
мым сыном:
Царь, чей разум был до предела подавлен горем.
Погруженный в необозримый океан скорби, сказал:
«Горе о Раме — бездонная пучина, разлука с Ситой —
водная зыбь,
Вздохи — колыханье волн, всхлипывания — мутная
пена,
Простирания рук — всплески рыб, плач — морской
гул,
Спутанные волосы — водоросли, Кайкейи — подводный
огонь,
Потоки слез моих — источники, слова горбуньи * —
акулы,
Достоинства Рамы, повелевшие ему уйти
в изгнание,— прекрасные берега,
Этот океан скорби, в который меня погрузила
разлука с Рамой,
Увы! мне при жизни уже не пересечь, о Каушалья...
Царица, посланцы Смерти торопят меня...
Тоска, что я уже не увижу сына, чьи подвиги
несравненны,
Иссушает мое дыхание, как жар иссушает каплю
воды...
Я сам виновник своего горя, и оно неумолимо
подтачивает мои силы и разум,
Как река своим током подтачивает берега.
О Рама, о могучий герой, о утешитель моей
слабости,
О отрада отца своего, о мой хранитель!
Где же ты в этот час, сын мой!»
(II, 59, 28—32, 64, 66—68, 74—76)
Естественно, однако, что мотивами скорби
из-за разлуки, из-за несбывшихся надежд люб-
* Мантхары, служанки Кайкейи, посоветовавшей своей
госпоже добиться изгнания Рамы.
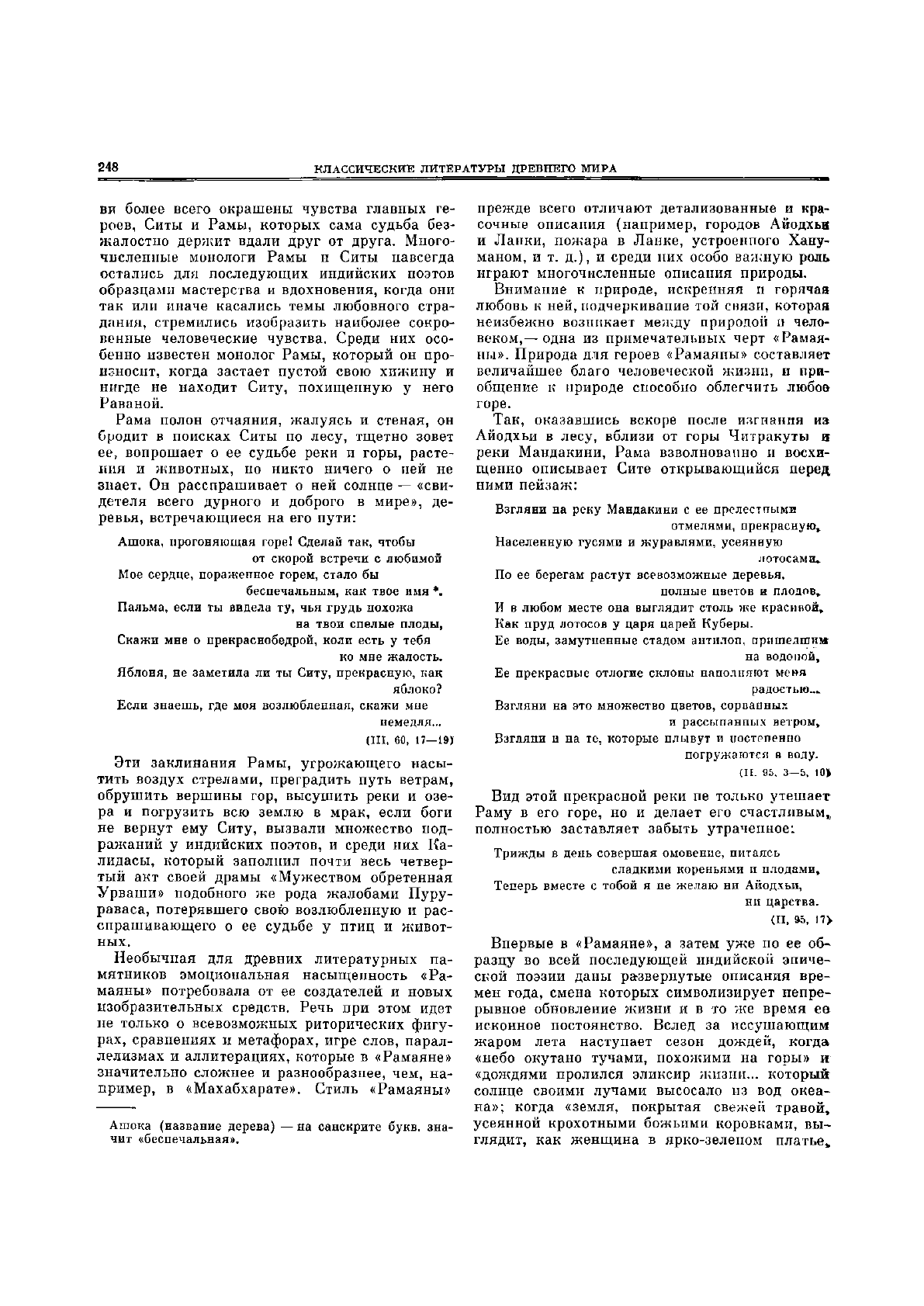
248
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
ви более всего окрашены чувства главных ге-
роев, Ситы и Рамы, которых сама судьба без-
жалостно держит вдали друг от друга. Много-
численные монологи Рамы и Ситы навсегда
остались для последующих индийских поэтов
образцами мастерства и вдохновения, когда они
так или иначе касались темы любовного стра-
дания, стремились изобразить наиболее сокро-
венные человеческие чувства. Среди них осо-
бенно известен монолог Рамы, который он про-
износит, когда застает пустой свою хижину и
нигде не находит Ситу, похищенную у него
Раваной.
Рама полон отчаяния, жалуясь и стеная, он
бродит в поисках Ситы по лесу, тщетно зовет
ее, вопрошает о ее судьбе реки и горы, расте-
ния и животных, но никто ничего о ней не
знает. Он расспрашивает о ней солнце — «сви-
детеля всего дурного и доброго в мире», де-
ревья, встречающиеся на его пути:
Ашока, прогоняющая горе! Сделай так, чтобы
от скорой встречи с любимой
Мое сердце, пораженное горем, стало бы
беспечальным, как твое имя *.
Пальма, если ты видела ту, чья грудь похожа
на твои спелые плоды,
Скажи мне о прекраснобедрой, коли есть у тебя
ко мне жалость.
Яблоня, не заметила ли ты Ситу, прекрасную, как
яблоко?
Если знаешь, где моя возлюбленная, скажи мне
немедля...
(Ill, 60, 17—19)
Эти заклинания Рамы, угрожающего насы-
тить воздух стрелами, преградить путь ветрам,
обрушить вершины гор, высушить реки и озе-
ра и погрузить всю землю в мрак, если боги
не вернут ему Ситу, вызвали множество под-
ражаний у индийских поэтов, и среди них Ка-
лидасы, который заполнил почти весь четвер-
тый акт своей драмы «Мужеством обретенная
Урваши» подобного же рода жалобами Пуру-
раваса, потерявшего свою возлюбленную и рас-
спрашивающего о ее судьбе у птиц и живот-
ных.
Необычная для древних литературных па-
мятников эмоциональная насыщенность «Ра-
маяны» потребовала от ее создателей и новых
изобразительных средств. Речь при этом идет
не только о всевозможных риторических фигу-
рах, сравнениях и метафорах, игре слов, парал-
лелизмах и аллитерациях, которые в «Рамаяне»
значительно сложнее и разнообразнее, чем, на-
пример, в «Махабхарате». Стиль «Рамаяны»
Ашока (название дерева) — на санскрите букв, зна-
чит «беспечальная».
прежде всего отличают детализованные и кра-
сочные описания (например, городов Айодхьи
и Ланки, пожара в Ланке, устроенпого Хану-
маном, и т. д.), и среди них особо важную роль
играют многочисленные описания природы.
Внимание к природе, искренняя и горячая
любовь к ней, подчеркивание той связи, которая
неизбежно возникает между природой и чело-
веком,— одна из примечательных черт «Рамая-
ны». Природа для героев «Рамаяны» составляет
величайшее благо человеческой жизни, и при-
общение к природе способно облегчить любое
горе.
Так, оказавшись вскоре после изгнания т
Айодхьи в лесу, вблизи от горы Читракуты в
реки Мандакини, Рама взволнованно и восхи-
щенно описывает Сите открывающийся перед
ними пейзаж:
Взгляни на реку Мандакини с ее прелестными
отмелями, прекрасную,.
Населенную гусями и журавлями, усеянную
лотосами^
По ее берегам растут всевозможные деревья,
полные цветов и плодов,.
И в любом месте она выглядит столь же краен вой»
Как пруд лотосов у царя царей Куберы.
Ее воды, замутненные стадом антилоп, пришедшим
на водопой»
Ее прекрасные отлогие склоны наполняют меня
радостью....
Взгляни на это множество цветов, сорванных
и рассыпанных ветром»
Взгляни и на те, которые плывут и постепенно
погружаются в воду.
(II. 95, 3—5, 10>
Вид этой прекрасной реки не только утешает
Раму в его горе, но и делает его счастливым,,
полностью заставляет забыть утраченное:
Трижды в день совершая омовение, питаясь
сладкими кореньями и плодами»
Теперь вместе с тобой я не желаю ни Айодхьи,
ни царства.
(II, 9о, 17>
Впервые в «Рамаяне», а затем уже по ее об-
разцу во всей последующей индийской эпиче-
ской поэзии даны развернутые описания вре-
мен года, смена которых символизирует непре-
рывное обновление жизни и в то же время ее
исконное постоянство. Вслед за иссушающим
жаром лета наступает сезон дождей, когда
«небо окутано тучами, похожими на горы» и
«дождями пролился эликсир жизни... который
солнце своими лучами высосало из вод океа-
на»; когда «земля, покрытая свежей травой»
усеянной крохотными божьими коровками, вы-
глядит, как женщина в ярко-зеленом платье»
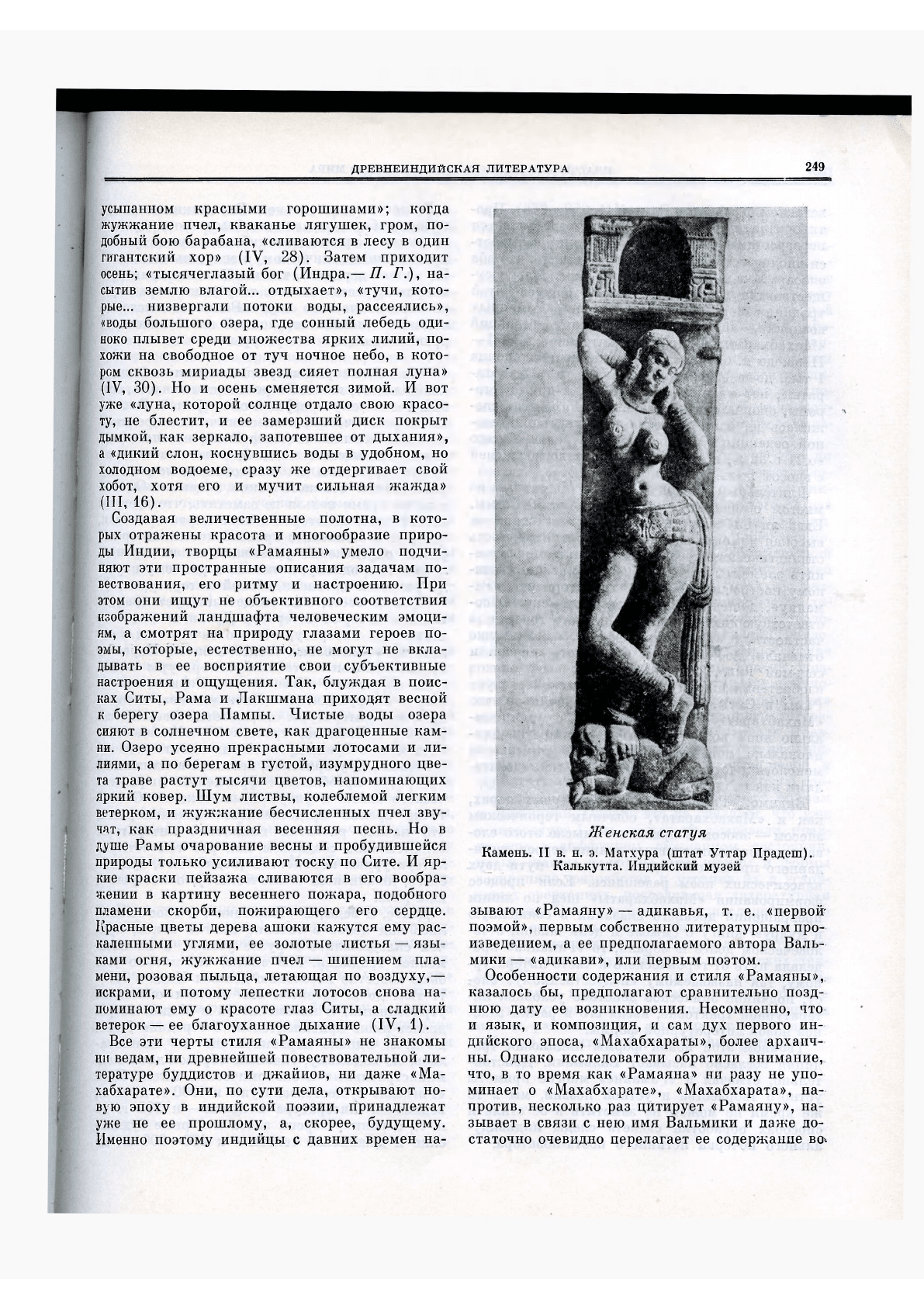
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
249
усыпанном красными горошинами»; когда
жужжание пчел, кваканье лягушек, гром, по-
добный бою барабана, «сливаются в лесу в один
гигантский хор» (IV, 28). Затем приходит
осень; «тысячеглазый бог (Индра.— П. Г.), на-
сытив землю влагой... отдыхает», «тучи, кото-
рые... низвергали потоки воды, рассеялись»,
«воды большого озера, где сонный лебедь оди-
ноко плывет среди множества ярких лилий, по-
хожи на свободное от туч ночное небо, в кото-
ром сквозь мириады звезд сияет полная луна»
(IV, 30). Но и осень сменяется зимой. И вот
уже «луна, которой солнце отдало свою красо-
ту, не блестит, и ее замерзший диск покрыт
дымкой, как зеркало, запотевшее от дыхания»,
а «дикий слон, коснувшись воды в удобном, но
холодном водоеме, сразу же отдергивает свой
хобот, хотя его и мучит сильная жажда»
(ш, 16).
Создавая величественные полотна, в кото-
рых отражены красота и многообразие приро-
ды Индии, творцы «Рамаяны» умело подчи-
няют эти пространные описания задачам по-
вествования, его ритму и настроению. При
этом они ищут не объективного соответствия
изображений ландшафта человеческим эмоци-
ям, а смотрят на природу глазами героев по-
эмы, которые, естественно, не могут не вкла-
дывать в ее восприятие свои субъективные
настроения и ощущения. Так, блуждая в поис-
ках Ситы, Рама и Лакшмана приходят весной
к берегу озера Пампы. Чистые воды озера
сияют в солнечном свете, как драгоценные кам-
ни. Озеро усеяно прекрасными лотосами и ли-
лиями, а по берегам в густой, изумрудного цве-
та траве растут тысячи цветов, напоминающих
яркий ковер. Шум листвы, колеблемой легким
ветерком, и жужжание бесчисленных пчел зву-
чат, как праздничная весенняя песнь. Но в
душе Рамы очарование весны и пробудившейся
природы только усиливают тоску по Сите. И яр-
кие краски пейзажа сливаются в его вообра-
жении в картину весеннего пожара, подобного
пламени скорби, пожирающего его сердце.
Красные цветы дерева ашоки кажутся ему рас-
каленными углями, ее золотые листья — язы-
ками огня, жужжание пчел — шипением пла-
мени, розовая пыльца, летающая по воздуху,—
искрами, и потому лепестки лотосов снова на-
поминают ему о красоте глаз Ситы, а сладкий
ветерок — ее благоуханное дыхание (IV, 1).
Все эти черты стиля «Рамаяны» не знакомы
ни ведам, ни древнейшей повествовательной ли-
тературе буддистов и джайиов, ни даже «Ма-
хабхарате». Они, по сути дела, открывают но-
вую эпоху в индийской поэзии, принадлежат
уже не ее прошлому, а, скорее, будущему.
Именно поэтому индийцы с давних времен на-
Женская статуя
Камень. II в. н. э. Матхура (штат Уттар Прадеш).
Калькутта. Индийский музей
зывают «Рамаяну» — адикавья, т. е. «первой-
поэмой», первым собственно литературным про-
изведением, а ее предполагаемого автора Валь-
мики— «адикави», или первым поэтом.
Особенности содержания и стиля «Рамаяны»,
казалось бы, предполагают сравнительно позд-
нюю дату ее возникновения. Несомненно, что
и язык, и композиция, и сам дух первого ин-
дийского эпоса, «Махабхараты», более архаич-
ны. Однако исследователи обратили внимание,
что, в то время как «Рамаяна» ни разу не упо-
минает о «Махабхарате», «Махабхарата», на-
против, несколько раз цитирует «Рамаяну», на-
зывает в связи с нею имя Вальмики и даже до-
статочно очевидно перелагает ее содержание во*
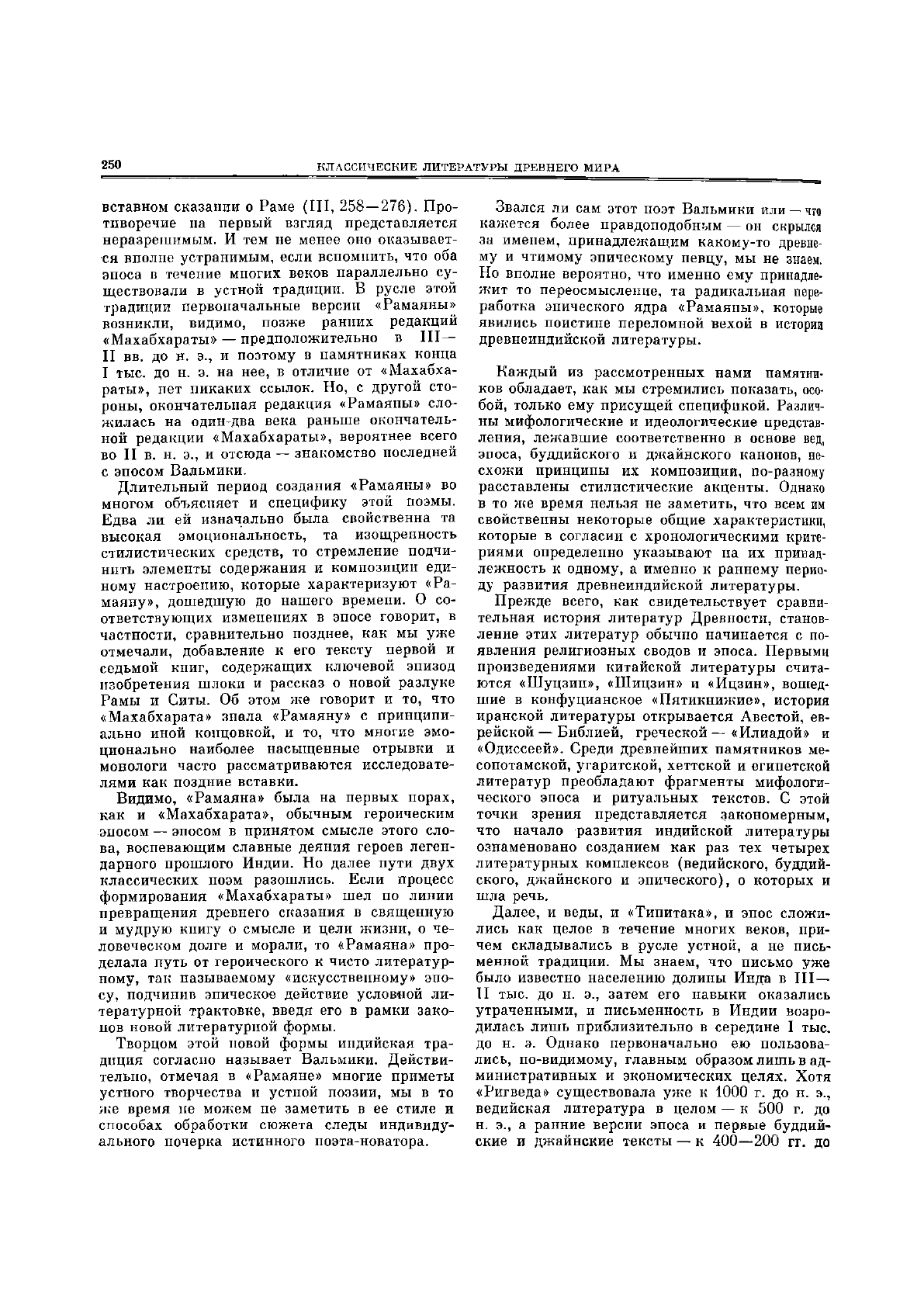
250
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
вставном сказании о Раме (III, 258—276). Про-
тиворечие на первый взгляд представляется
неразрешимым. И тем ие менее оно оказывает-
ся вполне устранимым, если вспомнить, что оба
эпоса в течение многих веков параллельно су-
ществовали в устной традиции. В русле этой
традиции первоначальные версии «Рамаяны»
возникли, видимо, позже ранних редакций
«Махабхараты» — предположительно в III-
II вв. до н. э., и поэтому в памятниках конца
I тыс. до н. э. на нее, в отличие от «Махабха-
раты», нет никаких ссылок. Но, с другой сто-
роны, окончательная редакция «Рамаяны» сло-
жилась на один-два века раньше окончатель-
ной редакции «Махабхараты», вероятнее всего
во II в. н. э., и отсюда — знакомство последней
с эпосом Вальмики.
Длительный период создания «Рамаяны» во
многом объясняет и специфику этой поэмы.
Едва ли ей изначально была свойственна та
высокая эмоциональность, та изощренность
стилистических средств, то стремление подчи-
нить элементы содержания и композиции еди-
ному настроению, которые характеризуют «Ра-
маяну», дошедшую до нашего времени. О со-
ответствующих изменениях в эпосе говорит, в
частности, сравнительно позднее, как мы уже
отмечали, добавление к его тексту первой и
седьмой книг, содержащих ключевой эпизод
изобретения шлоки и рассказ о новой разлуке
Рамы и Ситы. Об этом же говорит и то, что
«Махабхарата» знала «Рамаяну» с принципи-
ально иной концовкой, и то, что многие эмо-
ционально наиболее насыщенные отрывки и
монологи часто рассматриваются исследовате-
лями как поздние вставки.
Видимо, «Рамаяна» была на первых порах,
как и «Махабхарата», обычным героическим
эпосом — эпосом в принятом смысле этого сло-
ва, воспевающим славные деяния героев леген-
дарного прошлого Индии. Но далее пути двух
классических поэм разошлись. Если процесс
формирования «Махабхараты» шел по линии
превращения древнего сказания в священную
и мудрую книгу о смысле и цели жизни, о че-
ловеческом долге и морали, то «Рамаяна» про-
делала путь от героического к чисто литератур-
ному, так называемому «искусственному» эпо-
су, подчинив эпическое действие условной ли-
тературной трактовке, введя его в рамки зако-
нов новой литературной формы.
Творцом этой новой формы индийская тра-
диция согласно называет Вальмики. Действи-
тельно, отмечая в «Рамаяне» многие приметы
устного творчества и устной поэзии, мы в то
же время ие можем не заметить в ее стиле и
способах обработки сюжета следы индивиду-
ального почерка истинного поэта-новатора.
Звался ли сам этот поэт Вальмики или
— что
кажется более правдоподобным — он скрылся
за именем, принадлежащим какому-то древне-
му и чтимому эпическому певцу, мы не знаем.
Но вполне вероятно, что именно ему принадле-
жит то переосмысление, та радикальная пере-
работка эпического ядра «Рамаяны», которые
явились поистине переломной вехой в истории
древнеиндийской литературы.
Каждый из рассмотренных нами памятни-
ков обладает, как мы стремились показать, осо-
бой, только ему присущей спецификой. Различ-
ны мифологические и идеологические представ-
ления, лежавшие соответственно в основе вед,
эпоса, буддийского и джайнского канонов, не-
схожи принципы их композиции, по-разному
расставлены стилистические акценты. Однако
в то же время нельзя не заметить, что всем им
свойственны некоторые общие характеристики,
которые в согласии с хронологическими крите-
риями определенно указывают на их принад-
лелшость к одному, а именно к раннему перио-
ду развития древнеиндийской литературы.
Прежде всего, как свидетельствует сравни-
тельная история литератур Древности, станов-
ление этих литератур обычно начинается с по-
явления религиозных сводов и эпоса. Первыми
произведениями китайской литературы счита-
ются «Шуцзин», «Шицзин» и «Ицзин», вошед-
шие в конфуцианское «Пятикнижие», история
иранской литературы открывается Авестой, ев-
рейской — Библией, греческой — «Илиадой» и
«Одиссеей». Среди древнейших памятников ме-
сопотамской, угаритской, хеттской и египетской
литератур преобладают фрагменты мифологи-
ческого эпоса и ритуальных текстов. С этой
точки зрения представляется закономерным,
что начало развития индийской литературы
ознаменовано созданием как раз тех четырех
литературных комплексов (ведийского, буддий-
ского, джайнского и эпического), о которых и
шла речь.
Далее, и веды, и «Типитака», и эпос сложи-
лись как целое в течение многих веков, при-
чем складывались в русле устной, а не пись-
менной традиции. Мы знаем, что письмо уже
было известно населению долины Инда в III—
II тыс. до и. э., затем его навыки оказались
утраченными, и письменность в Индии возро-
дилась лишь приблизительно в середине I тыс.
до н. э. Однако первоначально ею пользова-
лись, по-видимому, главным образом лишь в ад-
министративных и экономических целях. Хотя
«Ригведа» существовала уже к 1000 г. до н. э.,
ведийская литература в целом — к 500 г. до
н. э., а ранние версии эпоса и первые буддий-
ские и джайнские тексты — к 400—200 гг. до
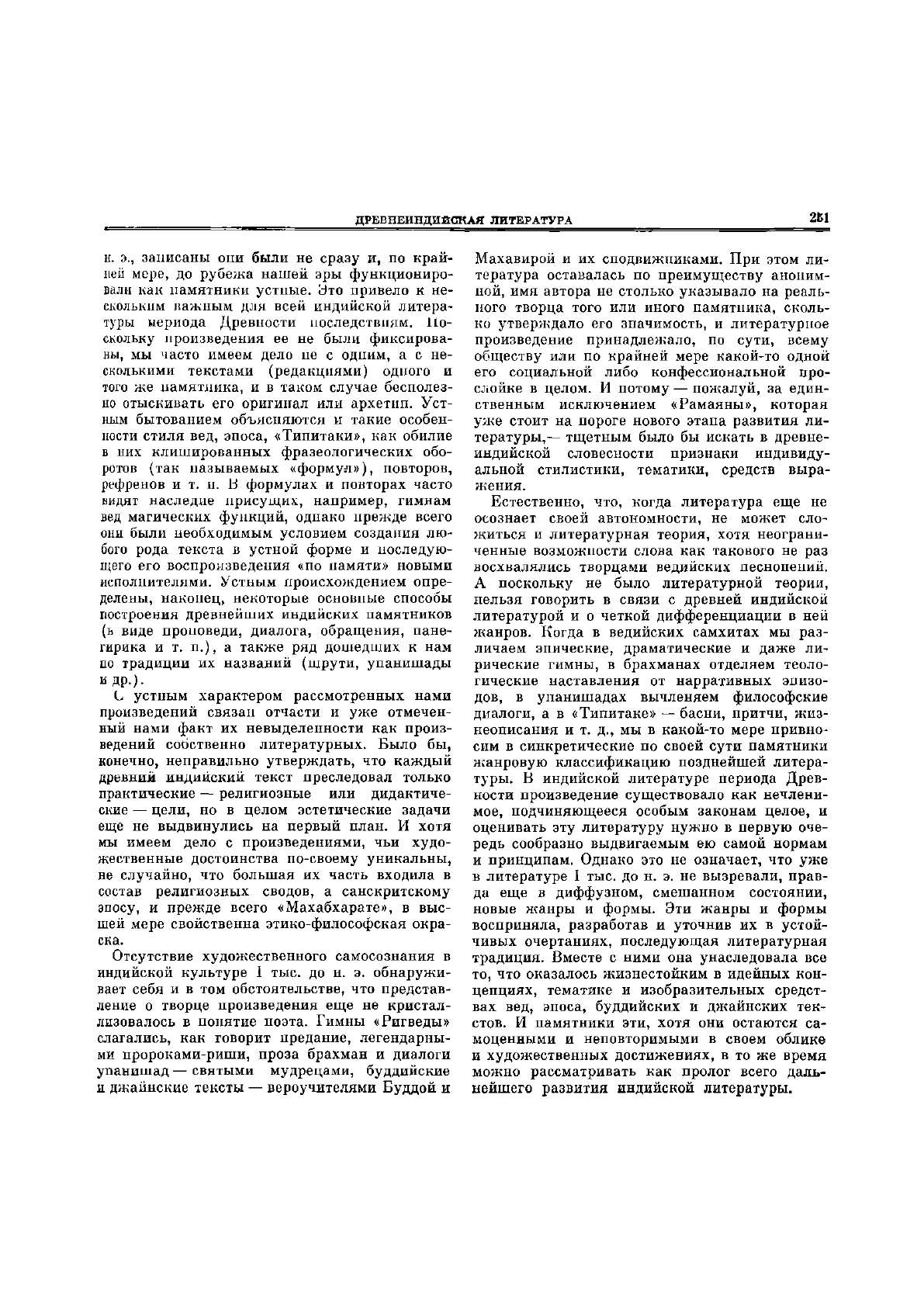
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2fcl
н. э., записаны они были не сразу и, по край-
ней мере, до рубел^а нашей эры функциониро-
вали как памятники устные. Это привело к не-
скольким важным для всей индийской литера-
туры периода Древности последствиям. По-
скольку произведения ее не были фиксирова-
ны, мы часто имеем дело не с одним, а с не-
сколькими текстами (редакциями) одного и
того же памятника, и в таком случае бесполез-
но отыскивать его оригинал или архетип. Уст-
ным бытованием объясняются и такие особен-
ности стиля вед, эпоса, «Типитаки», как обилие
в них клишированных фразеологических обо-
ротов (так называемых «формул»), повторов,
рефренов и т. п. В формулах и повторах часто
видят наследие присущих, например, гимнам
вед магических функций, однако прежде всего
они были необходимым условием создания лю-
бого рода текста в устной форме и последую-
щего его воспроизведения «по памяти» новыми
исполнителями. Устным происхождением опре-
делены, наконец, некоторые основные способы
построения древнейших индийских памятников
(ь виде проповеди, диалога, обращения, пане-
гирика и т. п.), а также ряд дошедших к нам
по традиции их названий (шрути, упанишады
и др.).
L устным характером рассмотренных нами
произведений связан отчасти и уже отмечен-
ный нами факт их невыделенности как произ-
ведений собственно литературных. Было бы,
конечно, неправильно утверждать, что каждый
древний индийский текст преследовал только
практические — религиозные или дидактиче-
ские — цели, но в целом эстетические задачи
еще не выдвинулись на первый план. И хотя
мы имеем дело с произведениями, чьи худо-
жественные достоинства по-своему уникальны,
не случайно, что большая их часть входила в
состав религиозных сводов, а санскритскому
эпосу, и прежде всего «Махабхарате», в выс-
шей мере свойственна этико-философская окра-
ска.
Отсутствие художественного самосознания в
индийской культуре I тыс. до н. э. обнаружи-
вает себя и в том обстоятельстве, что представ-
ление о творце произведения еще не кристал-
лизовалось в понятие поэта. Гимны «Ригведы»
слагались, как говорит предание, легендарны-
ми пророками-риши, проза брахман и диалоги
упанишад — святыми мудрецами, буддийские
и джайнские тексты — вероучителями Буддой и
Махавирой и их сподвижниками. При этом ли-
тература оставалась по преимуществу аноним-
ной, имя автора не столько указывало на реаль-
ного творца того или иного памятника, сколь-
ко утверждало его значимость, и литературное
произведение принадлежало, по сути, всему
обществу или по крайней мере какой-то одной
его социальной либо конфессиональной про-
слойке в целом. И потому — пояшлуй, за един-
ственным исключением «Рамаяны», которая
уже стоит на пороге нового этапа развития ли-
тературы,— тщетным было бы искать в древне-
индийской словесности признаки индивиду-
альной стилистики, тематики, средств выра-
жения.
Естественно, что, когда литература еще не
осознает своей автономности, не моя^ет сло-
житься и литературная теория, хотя неограни-
ченные возможности слова как такового не раз
восхвалялись творцами ведийских песнопений.
А поскольку не было литературной теории,
нельзя говорить в связи с древней индийской
литературой и о четкой дифференциации в ней
жанров. Когда в ведийских самхитах мы раз-
личаем эпические, драматические и даже ли-
рические гимны, в брахманах отделяем теоло-
гические наставления от нарративных эпизо-
дов, в упанишадах вычленяем философские
диалоги, а в «Типитаке» — басни, притчи, жиз-
неописания и т. д., мы в какой-то мере привно-
сим в синкретические по своей сути памятники
исанровую классификацию позднейшей литера-
туры. В индийской литературе периода Древ-
ности произведение существовало как нечлени-
мое, подчиняющееся особым законам целое, и
оценивать эту литературу нужно в первую оче-
редь сообразно выдвигаемым ею самой нормам
и принципам. Однако это не означает, что уже
в литературе I тыс. до н. э. не вызревали, прав-
да еще в диффузном, смешанном состоянии,
новые жанры и формы. Эти жанры и формы
восприняла, разработав и уточнив их в устой-
чивых очертаниях, последующая литературная
традиция. Вместе с ними она унаследовала все
то, что оказалось жизнестойким в идейных кон-
цепциях, тематике и изобразительных средст-
вах вед, эпоса, буддийских и джайнских тек-
стов. И памятники эти, хотя они остаются са-
моценными и неповторимыми в своем облике
и художественных достижениях, в то же время
можно рассматривать как пролог всего даль-
нейшего развития индийской литературы.
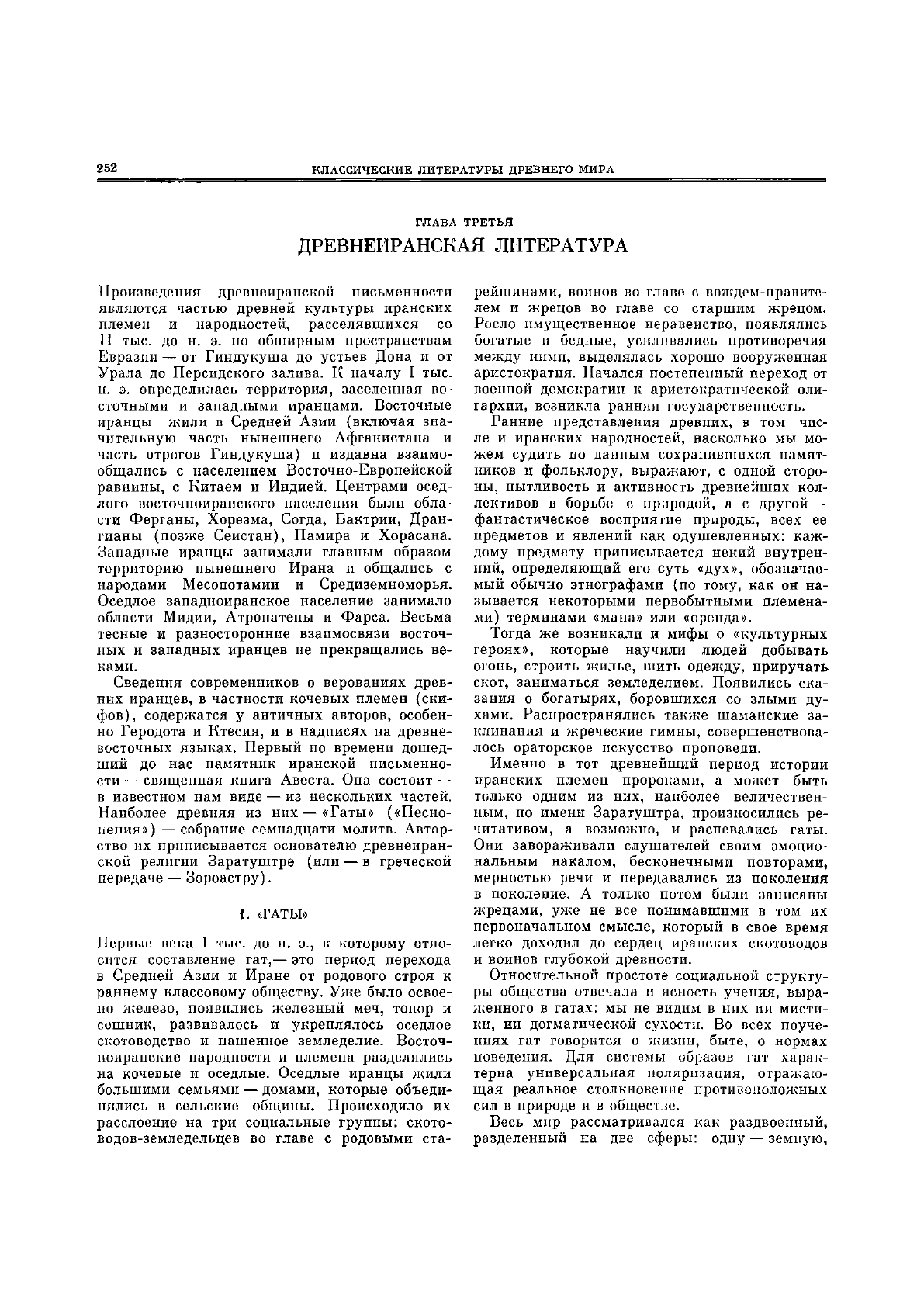
252
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ДРЕВНЕИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Произведения древнеиранской письменности
являются частью древней культуры иранских
племен и народностей, расселявшихся со
II тыс. до н. э. по обширным пространствам
Евразии — от Гиндукуша до устьев Дона и от
Урала до Персидского залива. К началу I тыс.
н. э. определилась территория, заселенная во-
сточными и западными иранцами. Восточные
иранцы жили в Средней Азии (включая зна-
чительную часть нынешнего Афганистана и
часть отрогов Гиндукуша) и издавна взаимо-
общалнсь с населением Восточно-Европейской
равнины, с Китаем и Индией. Центрами осед-
лого восточноиранского населения были обла-
сти Ферганы, Хорезма, Согда, Бактрии, Дран-
гианы (позже Сеистан), Памира и Хорасана.
Западные иранцы занимали главным образом
территорию нынешнего Ирана и общались с
народами Месопотамии и Средиземноморья.
Оседлое западноиранское население занимало
области Мидии, Атропатены и Фарса. Весьма
тесные и разносторонние взаимосвязи восточ-
ных и западных иранцев не прекращались ве-
ками.
Сведения современников о верованиях древ-
них иранцев, в частности кочевых племен (ски-
фов), содержатся у античных авторов, особен-
но Геродота и Ктесия, и в надписях на древне-
восточных языках. Первый по времени дошед-
ший до нас памятник иранской письменно-
сти — священная книга Авеста. Она состоит —
в известном нам виде — из нескольких частей.
Наиболее древняя из них—«Гаты» («Песно-
пения») — собрание семнадцати молитв. Автор-
ство их приписывается основателю древнеиран-
ской религии Заратуштре (или — в греческой
передаче — Зороастру).
1. «ГАТЫ»
Первые века I тыс. до н. э., к которому отно-
сится составление гат,— это период перехода
в Средней Азии и Иране от родового строя к
раннему классовому обществу. Уже было освое-
но железо, появились железный меч, топор и
сошник, развивалось и укреплялось оседлое
скотоводство и пашенное земледелие. Восточ-
ноиранские народности и племена разделялись
на кочевые и оседлые. Оседлые иранцы жили
большими семьями — домами, которые объеди-
нялись в сельские общины. Происходило их
расслоение на три социальные группы: ското-
водов-земледельцев во главе с родовыми ста-
рейшинами, воинов во главе с вождем-правите-
лем и жрецов во главе со старшим жрецом.
Росло имущественное неравенство, появлялись
богатые и бедные, усиливались противоречия
между ними, выделялась хорошо вооруженная
аристократия. Начался постепенный переход от
военной демократии к аристократической оли-
гархии, возникла ранняя государственность.
Ранние представления древних, в том чис-
ле и иранских народностей, насколько мы мо-
жем судить по данным сохранившихся памят-
ников и фольклору, выражают, с одной сторо-
ны, пытливость и активность древнейших кол-
лективов в борьбе с природой, а с другой
—
фантастическое восприятие природы, всех ее
предметов и явлений как одушевленных: каж-
дому предмету приписывается некий внутрен-
ний, определяющий его суть «дух», обозначае-
мый обычно этнографами (по тому, как он на-
зывается некоторыми первобытными племена-
ми) терминами «мана» или «ореида».
Тогда же возникали и мифы о «культурных
героях», которые научили людей добывать
огонь, строить жилье, шить одежду, приручать
скот, заниматься земледелием. Появились ска-
зания о богатырях, боровшихся со злыми ду-
хами. Распространялись также шаманские за-
клинания и жреческие гимны, совершенствова-
лось ораторское искусство проповеди.
Именно в тот древнейший период истории
иранских племен пророками, а может быть
только одним из них, наиболее величествен-
ным, по имени Заратуштра, произносились ре-
читативом, а возможно, и распевались гаты.
Они завораживали слушателей своим эмоцио-
нальным накалом, бесконечными повторами,
мерностью речи и передавались из поколения
в поколение. А только потом были записаны
жрецами, уже не все понимавшими в том их
первоначальном смысле, который в свое время
легко доходил до сердец иранских скотоводов
и воинов глубокой древности.
Относительной простоте социальной структу-
ры общества отвечала и ясность учения, выра-
женного в гатах: мы не видим в них ни мисти-
ки, ни догматической сухости. Во всех поуче-
ниях гат говорится о жизни, быте, о нормах
поведения. Для системы образов гат харак-
терна универсальная поляризация, отражаю-
щая реальное столкновение противоположных
сил в природе и в обществе.
Весь мир рассматривался как раздвоенный,
разделенный на две сферы: одну — земную,
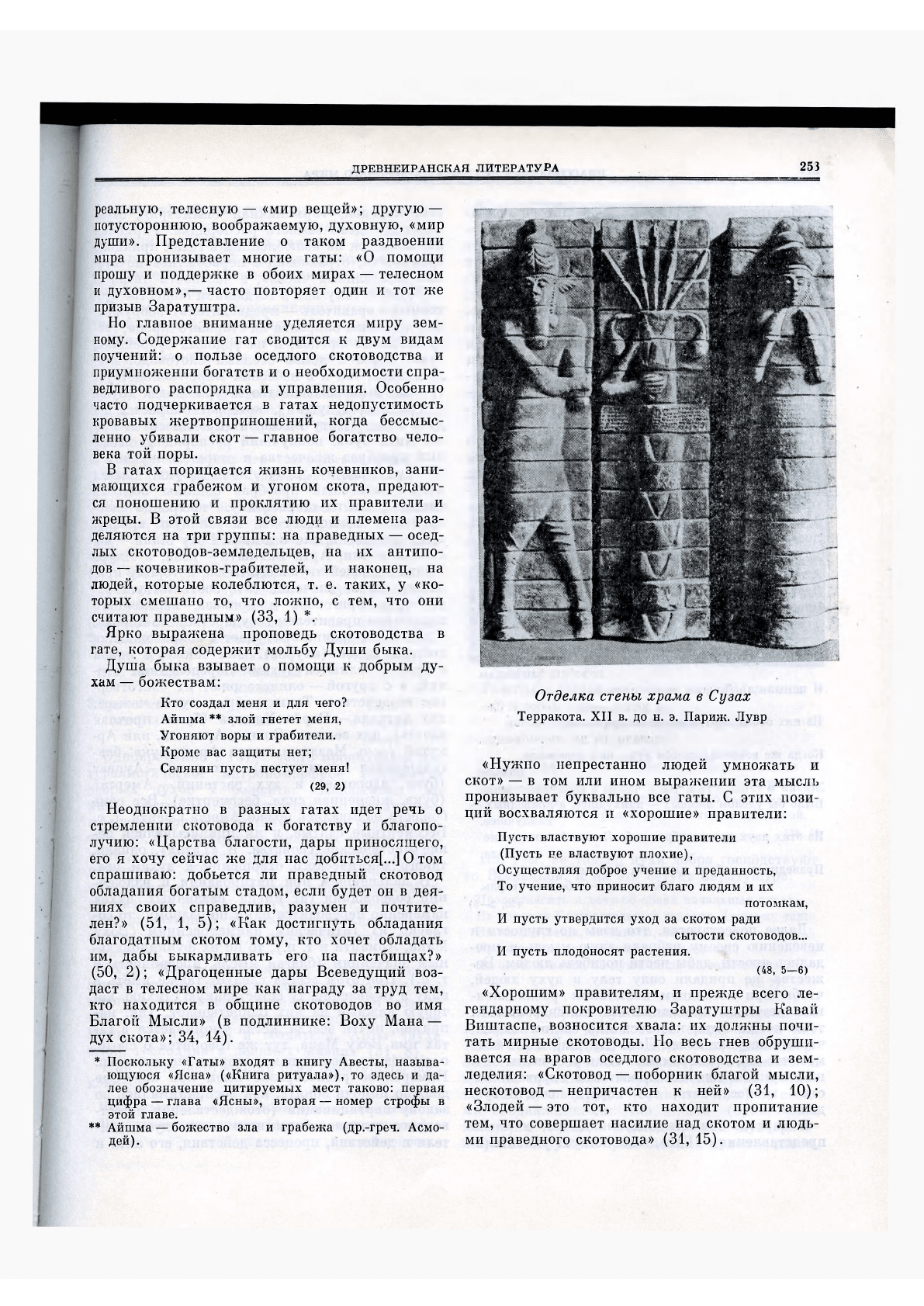
ДРЕВ НЕИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
253
реальную, телесную—«мир вещей»; другую —
потустороннюю, воображаемую, духовную, «мир
души». Представление о таком раздвоении
мира пронизывает многие гаты: «О помощи
прошу и поддержке в обоих мирах — телесном
и духовном»,— часто повторяет один и тот же
призыв Заратуштра.
Но главное внимание уделяется миру зем-
ному. Содержание гат сводится к двум видам
поучений: о пользе оседлого скотоводства и
приумножении богатств и о необходимости спра-
ведливого распорядка и управления. Особенно
часто подчеркивается в гатах недопустимость
кровавых жертвоприношений, когда бессмыс-
ленно убивали скот — главное богатство чело-
века той поры.
В гатах порицается жизнь кочевников, зани-
мающихся грабежом и угоном скота, предают-
ся поношению и проклятию их правители и
жрецы. В этой связи все люди и племена раз-
деляются на три группы: на праведных — осед-
лых скотоводов-земледельцев, на их антипо-
дов — кочевников-грабителей, и наконец, на
людей, которые колеблются, т. е. таких, у «ко-
торых смешапо то, что ложно, с тем, что они
считают праведным» (33, 1) *.
Ярко выражена проповедь скотоводства в
гате, которая содержит мольбу Души быка.
Душа быка взывает о помощи к добрым ду-
хам — божествам:
Кто создал меня и для чего?
Айшма ** злой гнетет меня,
Угоняют воры и грабители.
Кроме вас защиты нет;
Селянин пусть пестует меня!
(29, 2)
Неоднократно в разных гатах идет речь о
стремлении скотовода к богатству и благопо-
лучию: «Царства благости, дары приносящего,
его я хочу сейчас же для нас добиться[...] О том
спрашиваю: добьется ли праведный скотовод
обладания богатым стадом, если будет он в дея-
ниях своих справедлив, разумен и почтите-
лен?» (51, 1, 5); «Как достигнуть обладания
благодатным скотом тому, кто хочет обладать
им, дабы выкармливать его на пастбищах?»
(50, 2); «Драгоценные дары Всеведущий воз-
даст в телесном мире как награду за труд тем,
кто находится в общине скотоводов во имя
Благой Мысли» (в подлиннике: Boxy Мана —
дух скота»; 34, 14).
* Поскольку «Гаты» входят в книгу Авесты, называ-
ющуюся «Ясна» («Книга ритуала»), то здесь и да-
лее обозначение цитируемых мест таково: первая
цифра — глава «Ясны», вторая — номер строфы в
этой главе.
** Айшма — божество зла и грабежа (др.-греч. Асмо-
Дей).
Отделка стены храма в Сузах
Терракота. XII в. до н. э. Париж. Лувр
«Нужно непрестанно людей умножать и
скот» — в том или ином выражении эта мысль
пронизывает буквально все гаты. С этих пози-
ций восхваляются и «хорошие» правители:
Пусть властвуют хорошие правители
(Пусть не властвуют плохие),
Осуществляя доброе учение и преданность,
То учение, что приносит благо людям и их
потомкам,
И пусть утвердится уход за скотом ради
сытости скотоводов...
И пусть плодоносят растения.
(48, 5—6)
«Хорошим» правителям, и прежде всего ле-
гендарному покровителю Заратуштры Кавай
Виштаспе, возносится хвала: их должны почи-
тать мирные скотоводы. Но весь гнев обруши-
вается на врагов оседлого скотоводства и зем-
леделия: «Скотовод — поборник благой мысли,
нескотовод — непричастен к ней» (31, 10);
«Злодей — это тот, кто находит пропитание
тем, что совершает насилие над скотом и людь-
ми праведного скотовода» (31, 15).
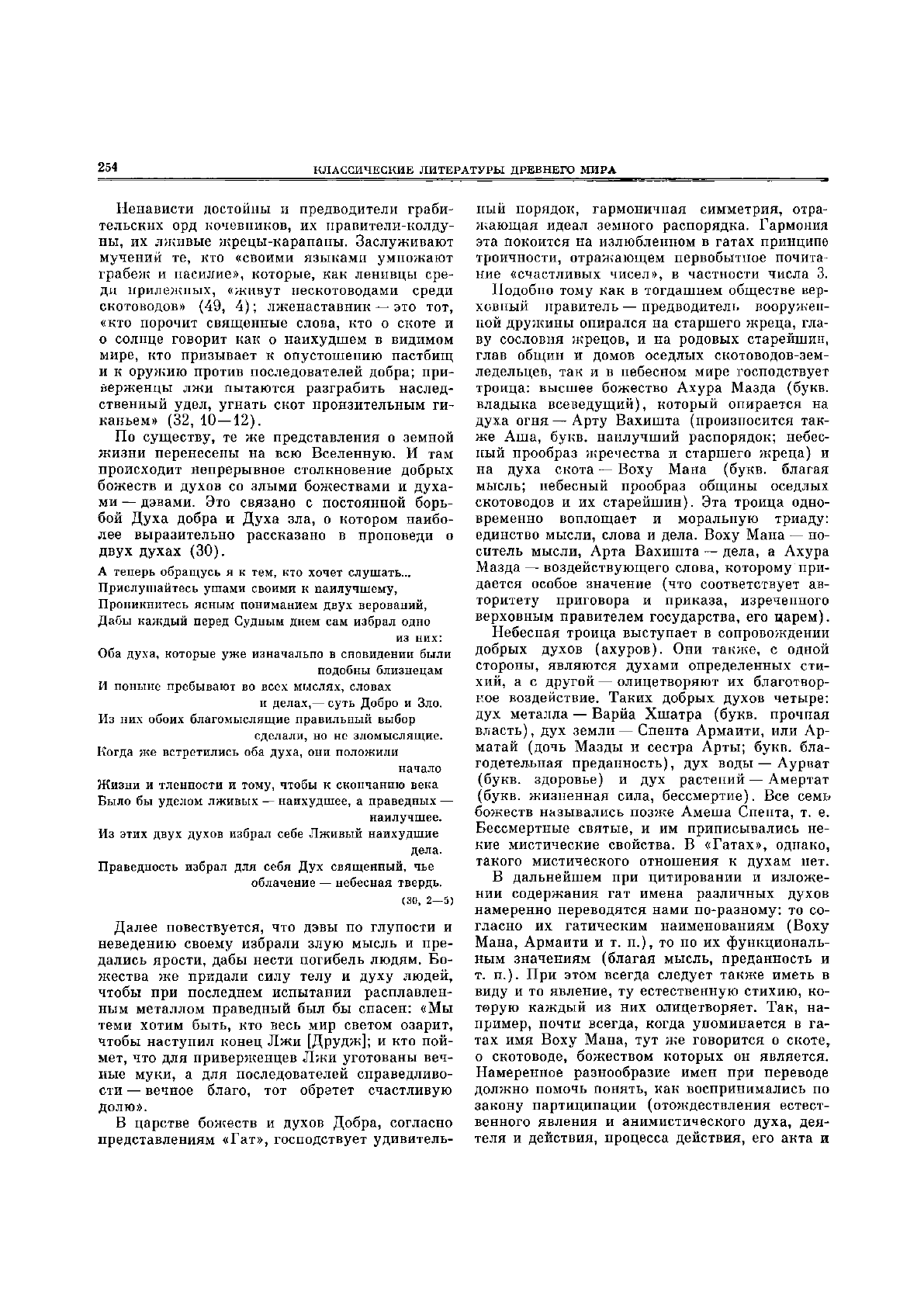
254
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
Ненависти достойны и предводители граби-
тельских орд кочевников, их правители-колду-
ны, их лживые жрецы-карапаны. Заслуживают
мучений те, кто «своими языками умножают
грабеж и насилие», которые, как ленивцы сре-
ди прилежных, «живут нескотоводами среди
скотоводов» (49, 4); лженаставник — это тот,
«кто порочит священные слова, кто о скоте и
о солнце говорит как о наихудшем в видимом
мире, кто призывает к опустошению пастбищ
и к оружию против последователей добра; при-
верженцы лжи пытаются разграбить наслед-
ственный удел, угнать скот пронзительным ги-
каньем» (32, 10—12).
По существу, те же представления о земной
жизни перенесены на всю Вселенную. И там
происходит непрерывное столкновение добрых
божеств и духов со злыми божествами и духа-
ми — дэвами. Это связано с постоянной борь-
бой Духа добра и Духа зла, о котором наибо-
лее выразительно рассказано в проповеди о
двух духах (30).
А теперь обращусь я к тем, кто хочет слушать...
Прислушайтесь ушами своими к наилучшему,
Проникнитесь ясным пониманием двух верований,
Дабы каждый перед Судным днем сам избрал одно
из них:
Оба духа, которые уже изначально в сновидении были
подобны близнецам
И поныне пребывают во всех мыслях, словах
и делах,— суть Добро и Зло.
Из них обоих благомыслящие правильный выбор
сделали, но не зломыслящие.
Когда же встретились оба духа, они положили
начало
Жизни и тленности и тому, чтобы к скончанию века
Было бы уделом лживых — наихудшее, а праведных —
наилучшее.
Из этих двух духов избрал себе Лживый наихудшие
дела.
Праведность избрал для себя Дух священный, чье
облачение — небесная твердь.
(30, 2—5)
Далее повествуется, что дэвы по глупости и
неведению своему избрали злую мысль и пре-
дались ярости, дабы нести погибель людям. Бо-
жества же придали силу телу и духу людей,
чтобы при последнем испытании расплавлен-
ным металлом праведный был бы спасен: «Мы
теми хотим быть, кто весь мир светом озарит,
чтобы наступил конец Лжи [Друдж]; и кто пой-
мет, что для приверженцев Лжи уготованы веч-
ные муки, а для последователей справедливо-
сти — вечное благо, тот обретет счастливую
долю».
В царстве божеств и духов Добра, согласно
представлениям «Гат», господствует удивитель-
ный порядок, гармоничная симметрия, отра-
жающая идеал земного распорядка. Гармония
эта покоится на излюбленном в гатах принципе
троичности, отражающем первобытное почита-
ние «счастливых чисел», в частности числа 3.
Подобно тому как в тогдашнем обществе вер-
ховный правитель — предводитель вооружен-
ной дружины опирался на старшего жреца, гла-
ву сословия жрецов, и на родовых старейшин,
глав общин и домов оседлых скотоводов-зем-
ледельцев, так и в небесном мире господствует
троица: высшее божество Ахура Мазда (букв,
владыка всеведущий), который опирается на
духа огня — Арту Вахишта (произносится так-
же Аша, букв, наилучший распорядок; небес-
ный прообраз жречества и старшего жреца) и
на духа скота — Boxy Мана (букв, благая
мысль; небесный прообраз общины оседлых
скотоводов и их старейшин). Эта троица одно-
временно воплощает и моральную триаду:
единство мысли, слова и дела. Boxy Мана — но-
ситель мысли, Арта Вахишта — дела, а Ахура
Мазда — воздействующего слова, которому при-
дается особое значение (что соответствует ав-
торитету приговора и приказа, изреченного
верховным правителем государства, его царем).
Небесная троица выступает в сопровождении
добрых духов (ахуров). Они также, с одной
стороны, являются духами определенных сти-
хий, а с другой — олицетворяют их благотвор-
ное воздействие. Таких добрых духов четыре:
дух металла — Варйа Хшатра (букв, прочная
власть), дух земли — Спента Армаити, или Ар-
матай (дочь Мазды и сестра Арты; букв, бла-
годетельная преданность), дух воды — Аурват
(букв, здоровье) и дух растений — Амертат
(букв, жизненная сила, бессмертие). Все семь
божеств назывались позже Амеша Спента, т. е.
Бессмертные святые, и им приписывались не-
кие мистические свойства. В «Гатах», однако,
такого мистического отношения к духам нет.
В дальнейшем при цитировании и изложе-
нии содержания гат имена различных духов
намеренно переводятся нами по-разному: то со-
гласно их гатическим наименованиям (Boxy
Мана, Армаити и т. п.), то по их функциональ-
ным значениям (благая мысль, преданность и
т. п.). При этом всегда следует также иметь в
виду и то явление, ту естественную стихию, ко-
торую каждый из них олицетворяет. Так, на-
пример, почти всегда, когда упоминается в га-
тах имя Boxy Мана, тут же говорится о скоте,
о скотоводе, божеством которых он является.
Намеренное разнообразие имен при переводе
должно помочь понять, как воспринимались по
закону партиципации (отождествления естест-
венного явления и анимистического духа, дея-
теля и действия, процесса действия, его акта и
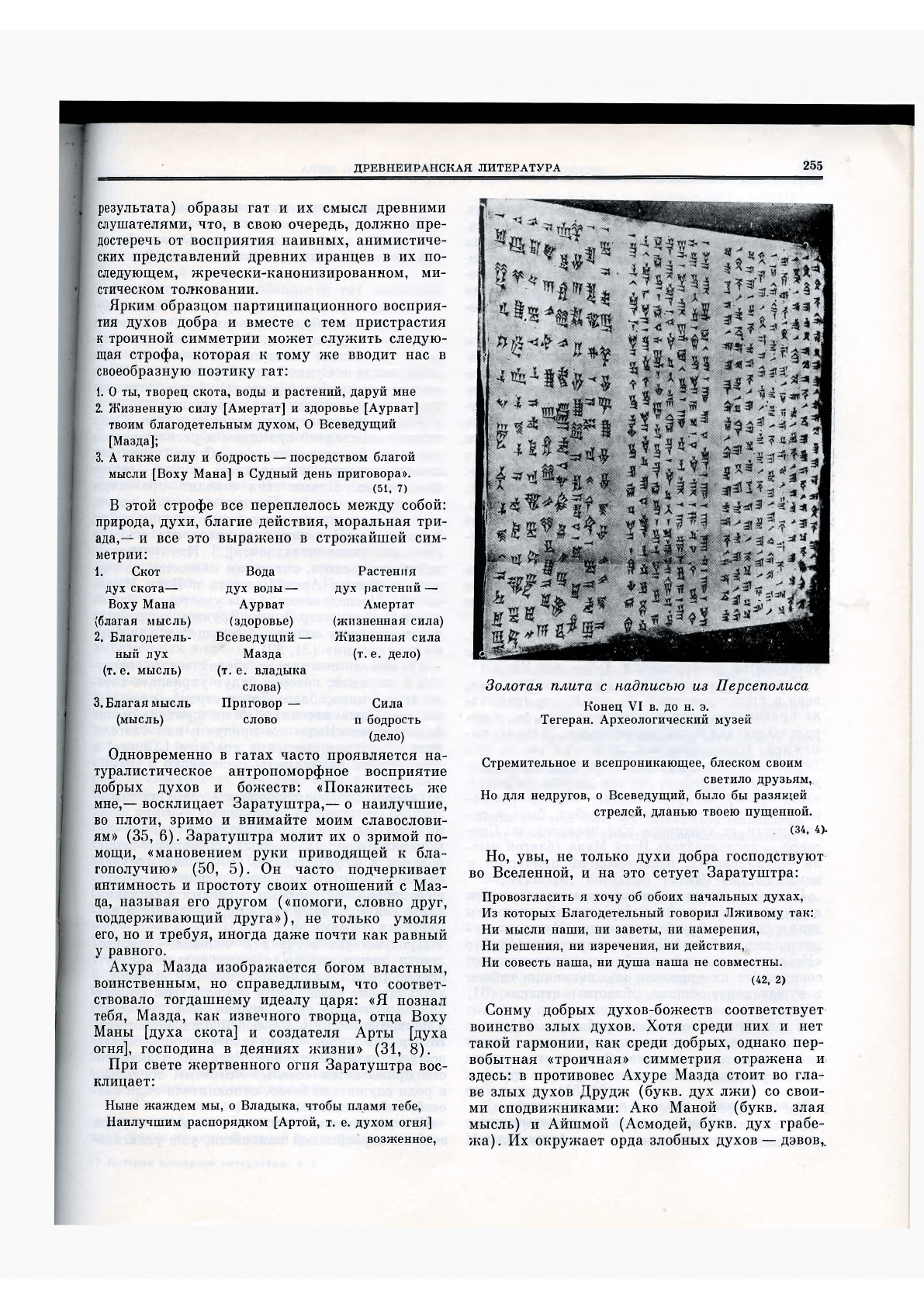
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 249
15")
результата) образы гат и их смысл древними
слушателями, что, в свою очередь, должно пре-
достеречь от восприятия наивных, анимистиче-
ских представлений древних иранцев в их по-
следующем, жречески-канонизированном, ми-
стическом толковании.
Ярким образцом партиципационного восприя-
тия духов добра и вместе с тем пристрастия
к троичной симметрии может служить следую-
щая строфа, которая к тому же вводит нас в
своеобразную поэтику гат:
1. О ты, творец скота, воды и растений, даруй мне
2. Жизненную силу [Амертат] и здоровье [Аурват]
твоим благодетельным духом, О Всеведущий
[Мазда];
3. А также силу и бодрость — посредством благой
мысли [Boxy Мана] в Судный день приговора».
(51, 7)
В этой строфе все переплелось между собой:
природа, духи, благие действия, моральная три-
ада,— и все это выражено в строжайшей сим-
метрии:
1. Скот Вода
дух скота— дух воды
—
Boxy Мана Аурват
(благая мысль) (здоровье)
2. Благодетель- Всеведущий —
ный дух Мазда
(т.е. мысль) (т.е. владыка
слова)
Приговор —
слово
Растения
дух растений —-
Амертат
(жизненная сила)
Жизненная сила
(т. е. дело)
3. Благая мысль
(мысль)
Сила
и бодрость
(дело)
Одновременно в гатах часто проявляется на-
туралистическое антропоморфное восприятие
добрых духов и божеств: «Покажитесь же
мне,— восклицает Заратуштра,— о наилучшие,
во плоти, зримо и внимайте моим славослови-
ям» (35, 6). Заратуштра молит их о зримой по-
мощи, «мановением руки приводящей к бла-
гополучию» (50, 5). Он часто подчеркивает
интимность и простоту своих отношений с Маз-
ца, называя его другом («помоги, словно друг,
поддерживающий друга»), не только умоляя
его, но и требуя, иногда даже почти как равный
у равного.
Ахура Мазда изображается богом властным,
воинственным, но справедливым, что соответ-
ствовало тогдашнему идеалу царя: «Я познал
тебя, Мазда, как извечного творца, отца Boxy
Маны [духа скота] и создателя Арты [духа
огня], господина в деяниях жизни» (31, 8).
При свете жертвенного огня Заратуштра вос-
клицает:
Ныне жаждем мы, о Владыка, чтобы пламя тебе,
Наилучшим распорядком [Артой, т. е. духом огня]
возженное,
Золотая плита с надписью из Персеполиса
Конец VI в. до н. э.
Тегеран. Археологический музей
Стремительное и всепроникающее, блеском своим
светило друзьям,
Но для недругов, о Всеведущий, было бы разящей
стрелой, дланью твоею пущенной.
(34, 4).
Но, увы, не только духи добра господствуют
во Вселенной, и на это сетует Заратуштра:
Провозгласить я хочу об обоих начальных духах,
Из которых Благодетельный говорил Лживому так:
Ни мысли наши, ни заветы, ни намерения,
Ни решения, ни изречения, ни действия,
Ни совесть наша, ни душа наша не совместны.
(42, 2)
Сонму добрых духов-божеств соответствует
воинство злых духов. Хотя среди них и нет
такой гармонии, как среди добрых, однако пер-
вобытная «троичная» симметрия отражена и
здесь: в противовес Ахуре Мазда стоит во гла-
ве злых духов Друдж (букв, дух лжи) со свои-
ми сподвижниками: Ако Маной (букв, злая
мысль) и Айшмой (Асмодей, букв, дух грабе-
жа). Их окружает орда злобных духов — дэвов,.
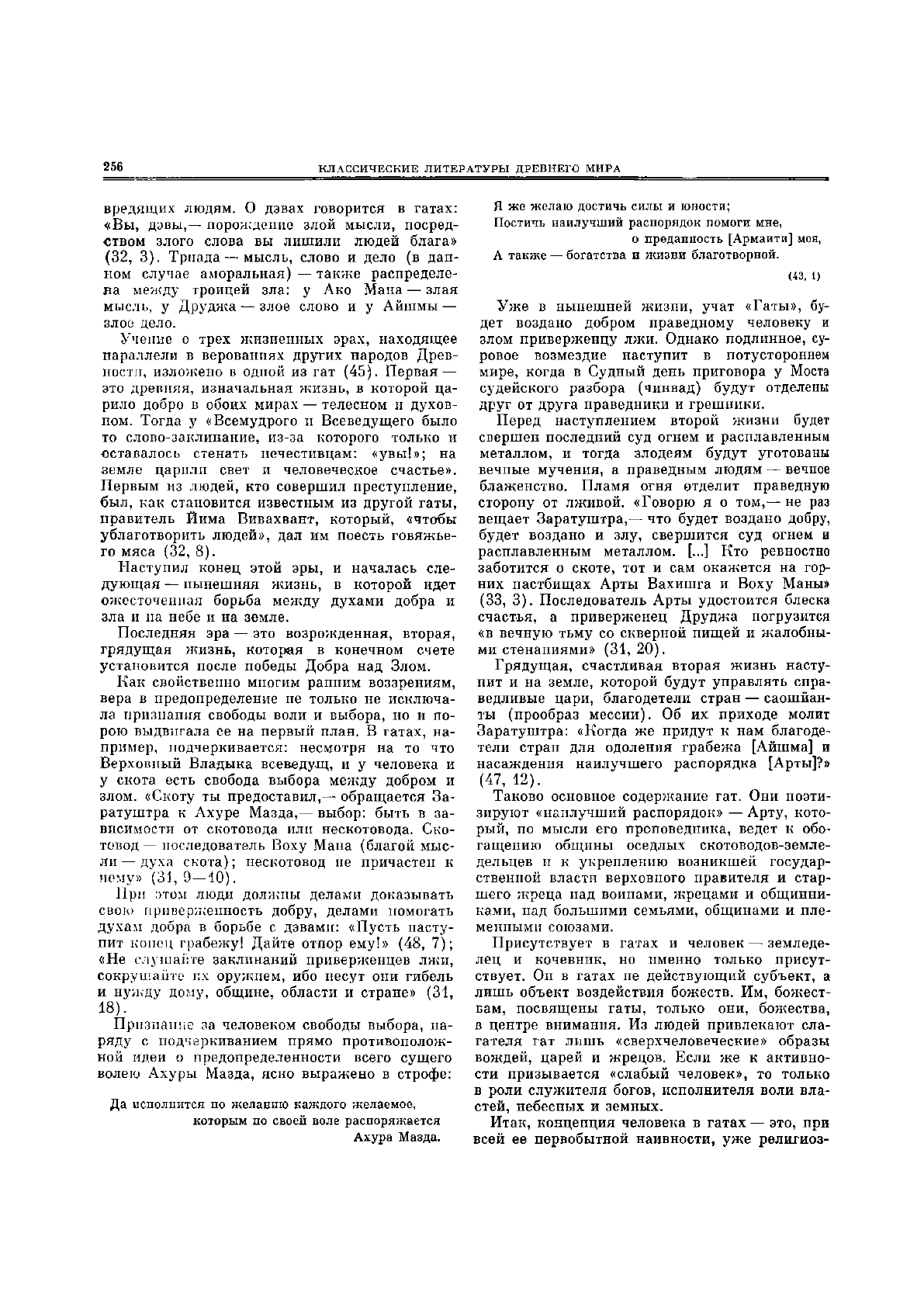
256
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
вредящих людям. О дэвах говорится в гатах:
«Вы, дэвы,— порождение злой мысли, посред-
ством злого слова вы лишили людей блага»
(32, 3). Триада — мысль, слово и дело (в дан-
ном случае аморальная) — также распределе-
на между троицей зла: у Ако Мана — злая
мысль, у Друджа — злое слово и у Айшмы —
злое дело.
Учение о трех жизненных эрах, находящее
параллели в верованиях других народов Древ-
ности, изложено в одной из гат (45). Первая —
это древняя, изначальная жизнь, в которой ца-
рило добро в обоих мирах — телесном и духов-
пом. Тогда у «Всемудрого и Всеведущего было
то слово-заклинание, из-за которого только и
оставалось стенать нечестивцам: «увы!»; на
земле царили свет и человеческое счастье».
Первым из людей, кто совершил преступление,
был, как становится известным из другой гаты,
правитель Йима Вивахвант, который, «чтобы
ублаготворить людей», дал им поесть говяжье-
го мяса (32, 8).
Наступил конец этой эры, и началась сле-
дующая — нынешняя жизнь, в которой идет
ожесточенная борьба менаду духами добра и
зла и на небе и на земле.
Последняя эра — это возрожденная, вторая,
грядущая жизнь, которая в конечном счете
установится после победы Добра над Злом.
Как свойственно многим ранним воззрениям,
вера в предопределение не только не исключа-
ла признания свободы воли и выбора, но и по-
рою выдвигала ее на первый план. В гатах, на-
пример, подчеркивается: несмотря на то что
Верховный Владыка всеведущ, и у человека и
у скота есть свобода выбора между добром и
злом. «Скоту ты предоставил,— обращается За-
ратуштра к Ахуре Мазда,— выбор: быть в за-
висимости от скотовода или нескотовода. Ско-
товод — последователь Boxy Мана (благой мыс-
ли— духа скота); нескотовод ие причастеи к
нему» (31, 9-10).
При этом люди должны делами доказывать
свою приверженность добру, делами помогать
духам добра в борьбе с дэвами: «Пусть насту-
пит конец грабежу! Дайте отпор ему!» (48, 7);
«Не слушайте заклинаний приверженцев лжи,
сокрушайте их оружием, ибо несут они гибель
и нужду дому, общине, области и стране» (31,
18).
Признание за человеком свободы выбора, на-
ряду с подчеркиванием прямо противополож-
ной идеи о предопределенности всего сущего
волею Ахуры Мазда, ясно выражено в строфе:
Да исполнится по желанию каждого желаемое,
которым по своей воле распоряжается
Ахура Мазда.
Я же желаю достичь силы и юности;
Постичь наилучший распорядок помоги мне,
о преданность [Армаити] моя,
А также — богатства и жизни благотворной.
(43, i)
Уже в нынешней жизни, учат «Гаты», бу-
дет воздано добром праведному человеку и
злом приверженцу лжи. Однако подлинное, су-
ровое возмездие наступит в потустороннем
мире, когда в Судный день приговора у Моста
судейского разбора (чинвад) будут отделены
друг от друга праведники и грешники.
Перед наступлением второй жизни будет
свершен последний суд огнем и расплавленным
металлом, и тогда злодеям будут уготованы
вечные мучения, а праведным людям — вечное
блаженство. Пламя огня отделит праведную
сторону от лживой. «Говорю я о том,—не раз
вещает Заратуштра,— что будет воздано добру,
будет воздано и злу, свершится суд огнем и
расплавленным металлом. [...] Кто ревностно
заботится о скоте, тот и сам окажется на гор-
них пастбищах Арты Вахишга и Boxy Маны»
(33, 3). Последователь Арты удостоится блеска
счастья, а приверженец Друджа погрузится
«в вечную тьму со скверной пищей и жалобны-
ми стенаниями» (31, 20).
Грядущая, счастливая вторая жизнь насту-
пит и на земле, которой будут управлять спра-
ведливые цари, благодетели стран — саошйан-
ты (прообраз мессии). Об их приходе молит
Заратуштра: «Когда же придут к нам благоде-
тели стран для одоления грабежа [Айшма] и
насаждения наилучшего распорядка [Арты]?»
(47, 12).
Таково основное содержание гат. Они поэти-
зируют «наилучший распорядок» — Арту, кото-
рый, по мысли его проповедника, ведет к обо-
гащению общины оседлых скотоводов-земле-
дельцев и к укреплению возникшей государ-
ственной власти верховного правителя и стар-
шего жреца над воинами, жрецами и общинни-
ками, над большими семьями, общинами и пле-
менными союзами.
Присутствует в гатах и человек — земледе-
лец и кочевник, но именно только присут-
ствует. Он в гатах не действующий субъект, а
лишь объект воздействия божеств. Им, божест-
вам, посвящены гаты, только они, божества,
в центре внимания. Из людей привлекают сла-
гателя гат лишь «сверхчеловеческие» образы
вождей, царей и жрецов. Если же к активно-
сти призывается «слабый человек», то только
в роли служителя богов, исполнителя воли вла-
стей, небесных и земных.
Итак, концепция человека в гатах — это, при
всей ее первобытной наивности, уже религиоз-
