Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

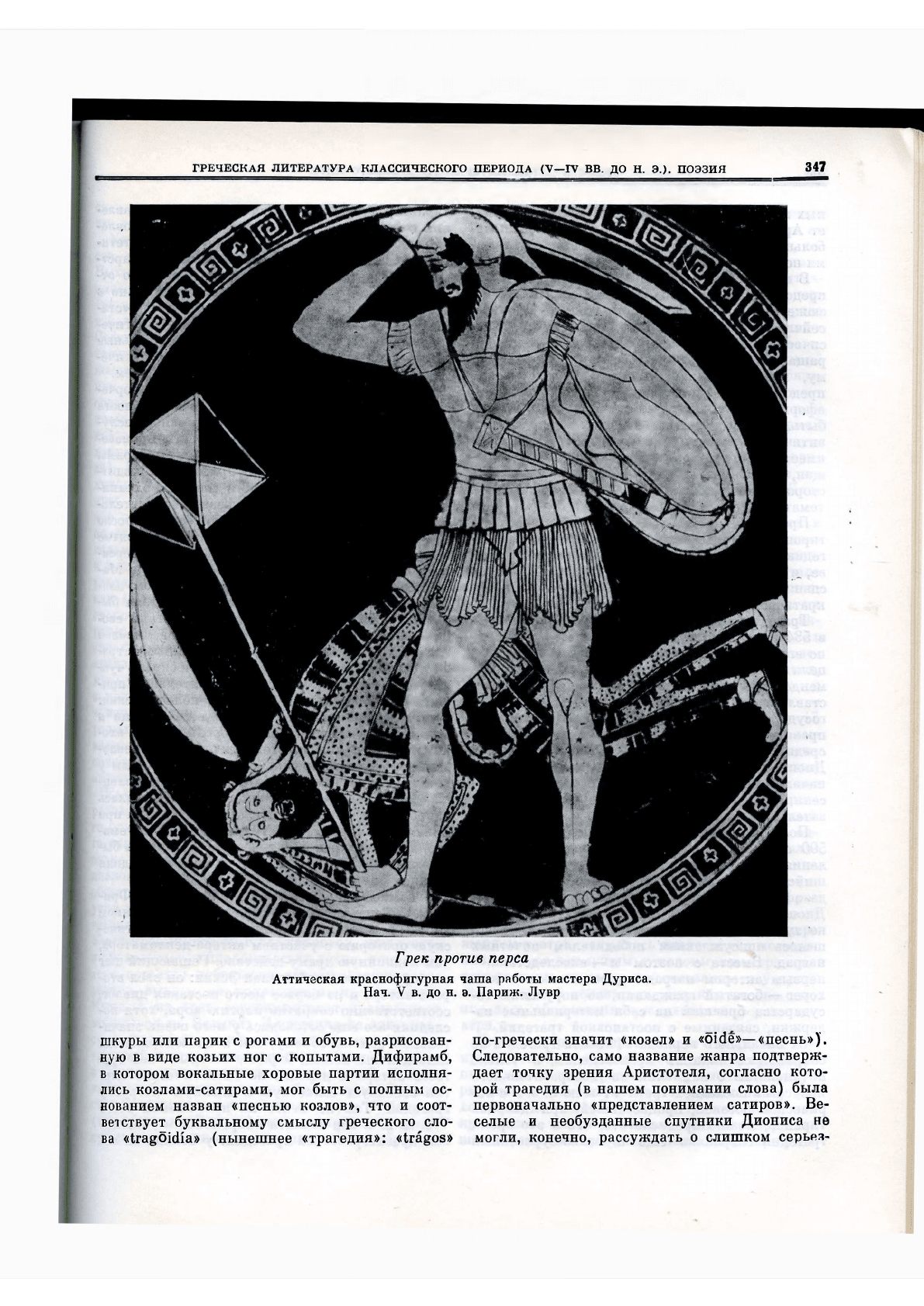
с
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПОЭЗИЯ
347
Грек против перса
Аттическая краснофигурная чаша работы мастера Дуриса.
Нач. V в. до н. э. Париж. Лувр
шкуры или парик с рогами и обувь, разрисован-
ную в виде козьих ног с копытами. Дифирамб,
в котором вокальные хоровые партии исполня-
лись козлами-сатирами, мог быть с полным ос-
нованием назван «песнью козлов», что и соот-
ветствует буквальному смыслу греческого сло-
ва «tragoidia» (нынешнее «трагедия»: «tragos»
по-гречески значит «козел» и «oide»— «песнь»).
Следовательно, само название жанра подтверж-
дает точку зрения Аристотеля, согласно кото-
рой трагедия (в нашем понимании слова) была
первоначально «представлением сатиров». Ве-
селые и необузданные спутники Диониса не
могли, конечно, рассуждать о слишком серьез-
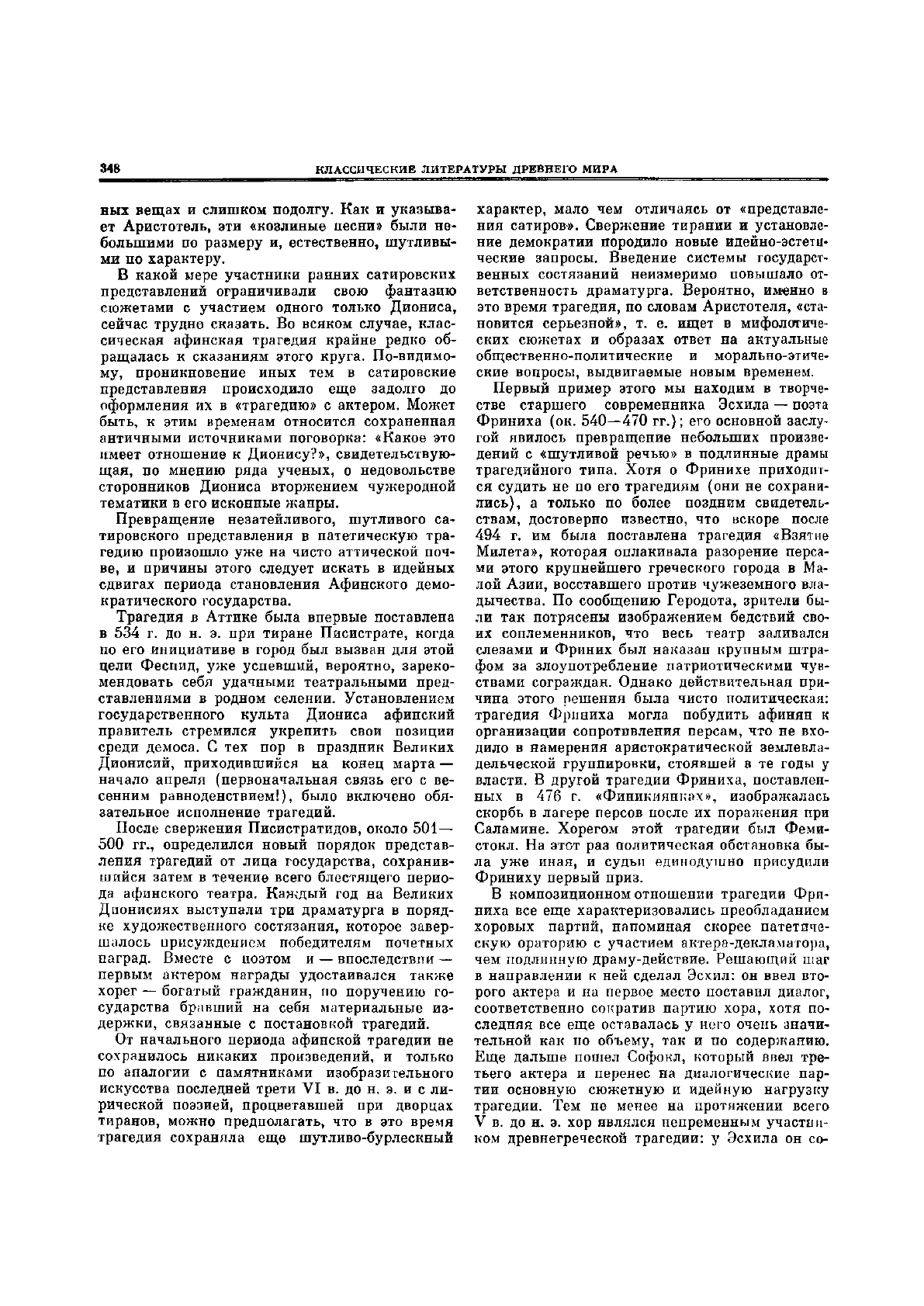
348
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
ных вещах и слишком подолгу. Как и указыва-
ет Аристотель, эти «козлиные песни» были не-
большими по размеру и, естественно, шутливы-
ми по характеру.
В какой мере участники ранних сатировских
представлений ограничивали свою фантазию
сюжетами с участием одного только Диониса,
сейчас трудно сказать. Во всяком случае, клас-
сическая афинская трагедия крайне редко об-
ращалась к сказаниям этого круга. По-видимо-
му, проникновение иных тем в сатировские
представления происходило еще задолго до
оформления их в «трагедию» с актером. Может
быть, к этим временам относится сохраненная
античными источниками поговорка: «Какое это
имеет отношение к Дионису?», свидетельствую-
щая, по мнению ряда ученых, о недовольстве
сторонников Диониса вторжением чужеродной
тематики в его исконные жанры.
Превращение незатейливого, шутливого са-
тировского представления в патетическую тра-
гедию произошло уже на чисто аттической поч-
ве, и причины этого следует искать в идейных
сдвигах периода становления Афинского демо-
кратического государства.
Трагедия в Аттике была впервые поставлена
в 534 г. до н. э. при тиране Писистрате, когда
по его инициативе в город был вызван для этой
цели Феспид, уже успевший, вероятно, зареко-
мендовать себя удачными театральными пред-
ставлениями в родном селении. Установлением
государственного культа Диониса афинский
правитель стремился укрепить свои позиции
среди демоса. С тех пор в праздник Великих
Дионисий, приходившийся на конец марта —
начало апреля (первоначальная связь его с ве-
сенним равноденствием!), было включено обя-
зательное исполнение трагедий.
После свержения Писистратидов, около 501—
500 гг., определился новый порядок представ-
ления трагедий от лица государства, сохранив-
шийся затем в течение всего блестящего перио-
да афинского театра. Каждый год на Великих
Дионисиях выступали три драматурга в поряд-
ке художественного состязания, которое завер-
шалось присуждением победителям почетных
наград. Вместе с поэтом и — впоследствии —
первым актером награды удостаивался также
хорег — богатый гражданин, по поручению го-
сударства бравший на себя материальные из-
держки, связанные с постановкой трагедий.
От начального периода афинской трагедии не
сохранилось никаких произведений, и только
по аналогии с памятниками изобразительного
искусства последней трети VI в. до н. э. и с ли-
рической поэзией, процветавшей при дворцах
тиранов, можно предполагать, что в это время
трагедия сохраняла еще шутливо-бурлескный
характер, мало чем отличаясь от «представле-
ния сатиров». Свержение тирании и установле-
ние демократии породило новые идейно-эстети-
ческие запросы. Введение системы государст-
венных состязаний неизмеримо повышало от-
ветственность драматурга. Вероятно, именно в
это время трагедия, по словам Аристотеля, «ста-
новится серьезной», т. е. ищет в мифологиче-
ских сюжетах и образах ответ на актуальные
общественно-политические и морально-этиче-
ские вопросы, выдвигаемые новым временем.
Первый пример этого мы находим в творче-
стве старшего современника Эсхила — поэта
Фриниха (ок. 540—470 гг.); его основной заслу-
гой явилось превращение небольших произве-
дений с «шутливой речью» в подлинные драмы
трагедийного типа. Хотя о Фринихе приходит-
ся судить не по его трагедиям (они не сохрани-
лись), а только по более поздним свидетель-
ствам, достоверно известно, что вскоре после
494 г. им была поставлена трагедия «Взятие
Милета», которая оплакивала разорение перса-
ми этого крупнейшего греческого города в Ма-
лой Азии, восставшего против чужеземного вла-
дычества. По сообщению Геродота, зрители бы-
ли так потрясены изобрая^ением бедствий сво-
их соплеменников, что весь театр заливался
слезами и Фриних был наказан крупным штра-
фом за злоупотребление патриотическими чув-
ствами сограждан. Однако действительная при-
чина этого решения была чисто политическая:
трагедия Фриниха могла побудить афинян к
организации сопротивления персам, что не вхо-
дило в намерения аристократической землевла-
дельческой группировки, стоявшей в те годы у
власти. В другой трагедии Фриниха, поставлен-
ных в 476 г. «Финикиянках», изображалась
скорбь в лагере персов после их поражения при
Саламине. Хорегом этой трагедии был Феми-
стокл. На этот раз политическая обстановка бы-
ла уже иная, и судьи единодушно присудили
Фриниху первый приз.
В композиционном отношении трагедии Фри-
ниха все еще характеризовались преобладанием
хоровых партий, напоминая скорее патетиче-
скую ораторию с участием актера-декламатора,
чем подлинную драму-действие. Решающий шаг
в направлении к ней сделал Эсхил: он ввел вто-
рого актера и на первое место поставил диалог,
соответственно сократив партию хора, хотя по-
следняя все еще оставалась у него очень значи-
тельной как по объему, так и по содержанию.
Еще дальше пошел Софокл, который ввел тре-
тьего актера и перенес на диалогические пар-
тии основную сюжетную и идейную нагрузку
трагедии. Тем не менее на протнжении всего
V в. до н. э. хор являлся непременным участни-
ком древнегреческой трагедии: у Эсхила он со-
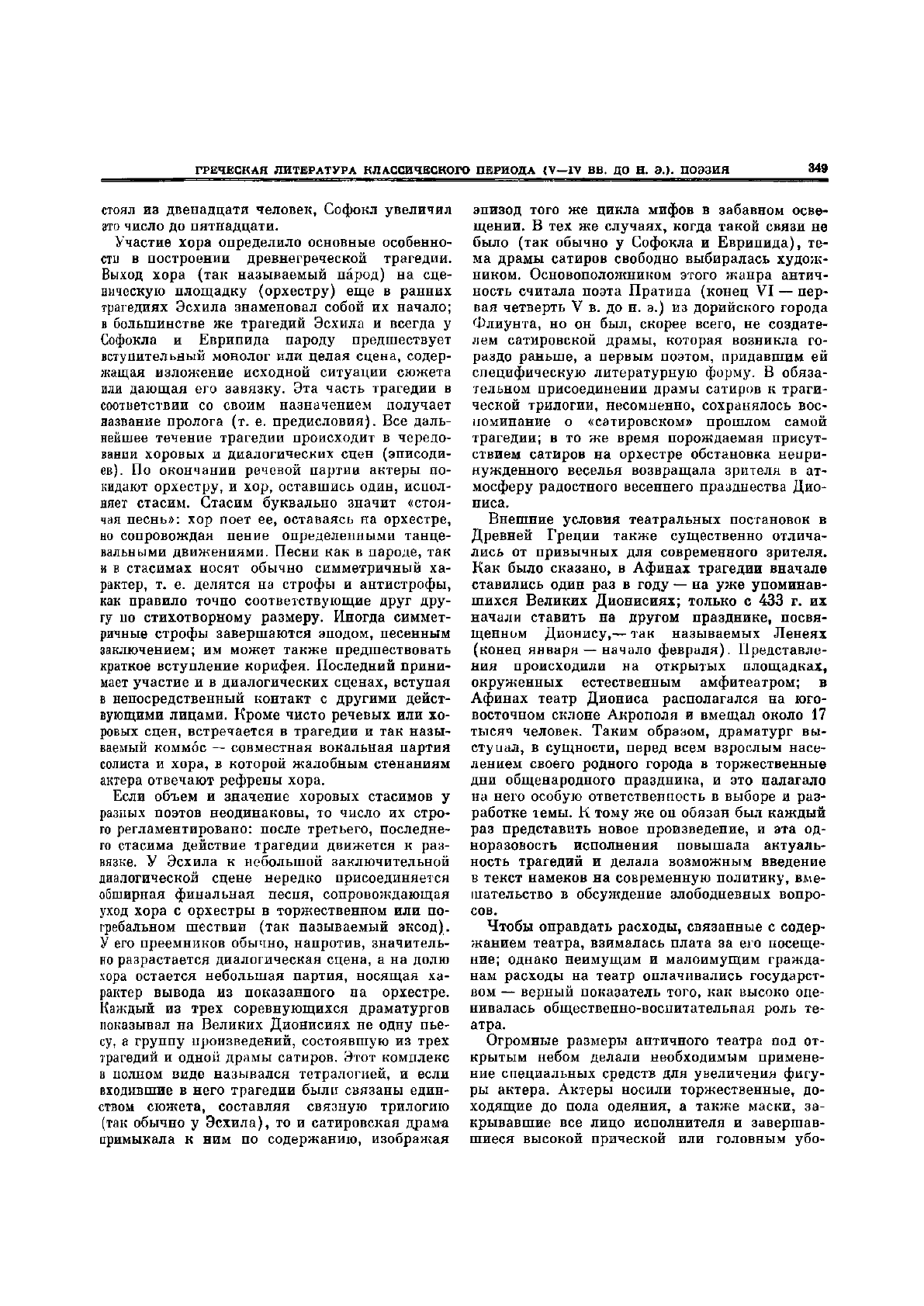
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ
349
стоял из двенадцати человек, Софокл увеличил
зто число до пятнадцати.
Участие хора определило основные особенно-
сти в построении древнегреческой трагедии.
Выход хора (так называемый парод) на сце-
ническую площадку (орхестру) еще в ранних
трагедиях Эсхила знаменовал собой их начало;
в большинстве же трагедий Эсхила и всегда у
Софокла и Еврипида пароду предшествует
вступительный монолог или целая сцена, содер-
жащая изложение исходной ситуации сюжета
или дающая его завязку. Эта часть трагедии в
соответствии со своим назначением получает
название пролога (т. е. предисловия). Все даль-
нейшее течение трагедии происходит в чередо-
вании хоровых и диалогических сцен (эписоди-
ев). По окончании речевой партии актеры по-
кидают орхестру, и хор, оставшись один, испол-
няет стасим. Стасим буквально значит «стоя-
чая песнь»: хор поет ее, оставаясь на орхестре,
но сопровождая пение определенными танце-
вальными движениями. Песни как в пароде, так
и в стасимах носят обычно симметричный ха-
рактер, т. е. делятся на строфы и антистрофы,
как правило точно соответствующие друг дру-
гу по стихотворному размеру. Иногда симмет-
ричные строфы завершаются эподом, песенным
заключением; им может также предшествовать
краткое вступление корифея. Последний прини-
мает участие и в диалогических сценах, вступая
в непосредственный контакт с другими дейст-
вующими лицами. Кроме чисто речевых или хо-
ровых сцен, встречается в трагедии и так назы-
ваемый коммос — совместная вокальная партия
солиста и хора, в которой жалобным стенаниям
актера отвечают рефрены хора.
Если объем и значение хоровых стасимов у
разных поэтов неодинаковы, то число их стро-
го регламентировано: после третьего, последне-
го стасима действие трагедии движется к раз-
вязке. У Эсхила к небольшой заключительной
диалогической сцене нередко присоединяется
обширная финальная песня, сопровождающая
уход хора с орхестры в торжественном или по-
гребальном шествии (так называемый эксод).
У его преемников обычно, напротив, значитель-
но разрастается диалогическая сцена, а на долю
хора остается небольшая партия, носящая ха-
рактер вывода из показанного на орхестре.
Каждый из трех соревнующихся драматургов
показывал на Великих Дионисиях не одну пье-
су, а группу произведений, состоявшую из трех
трагедий и одной драмы сатиров. Этот комплекс
в полном виде назывался тетралогией, и если
входившие в него трагедии были связаны един-
ством сюжета, составляя связную трилогию
(так обычно у Эсхила), то и сатировская драма
примыкала к ним по содержанию, изображая
эпизод того же цикла мифов в забавном осве-
щении. В тех же случаях, когда такой связи не
было (так обычно у Софокла и Еврипида), те-
ма драмы сатиров свободно выбиралась худож-
ником. Основоположником этого жанра антич-
ность считала поэта Пратина (конец VI — пер-
вая четверть V в. до н. э.) из дорийского города
Флиунта, но он был, скорее всего, не создате-
лем сатировской драмы, которая возникла го-
раздо раньше, а первым поэтом, придавшим ей
специфическую литературную форму. В обяза-
тельном присоединении драмы сатиров к траги-
ческой трилогии, несомненно, сохранялось вос-
поминание о «сатировском» прошлом самой
трагедии; в то я^е время порождаемая присут-
ствием сатиров на орхестре обстановка непри-
нужденного веселья возвращала зрителя в ат-
мосферу радостного весеннего празднества Дио-
ниса.
Внешние условия театральных постановок в
Древней Греции также существенно отлича-
лись от привычных для современного зрителя.
Как было сказано, в Афинах трагедии вначале
ставились один раз в году — на уже упоминав-
шихся Великих Дионисиях; только с 433 г. их
начали ставить на другом празднике, посвя-
щенном Дионису,— так называемых Ленеях
(конец января — начало февраля). Представле-
ния происходили на открытых площадках,
окруженных естественным амфитеатром; в
Афинах театр Диониса располагался на юго-
восточном склоне Акрополя и вмещал около 17
тысяч человек. Таким образом, драматург вы-
ступал, в сущности, перед всем взрослым насе-
лением своего родного города в торжественные
дни общенародного праздника, и это налагало
на него особую ответственность в выборе и раз-
работке темы. К тому же он обязан был каждый
раз представить новое произведение, и эта од-
норазовость исполнения повышала актуаль-
ность трагедий и делала возможным введение
в текст намеков на современную политику, вме-
шательство в обсуждение злободневных вопро-
сов.
Чтобы оправдать расходы, связанные с содер-
жанием театра, взималась плата за его посеще-
ние; однако неимущим и малоимущим гражда-
нам расходы на театр оплачивались государст-
вом — верный показатель того, как высоко оце-
нивалась общественно-воспитательная роль те-
атра.
Огромные размеры античного театра под от-
крытым небом делали необходимым примене-
ние специальных средств для увеличения фигу-
ры актера. Актеры носили торжественные, до-
ходящие до пола одеяния, а также маски, за-
крывавшие все лицо исполнителя и завершав-
шиеся высокой прической или головным убо-
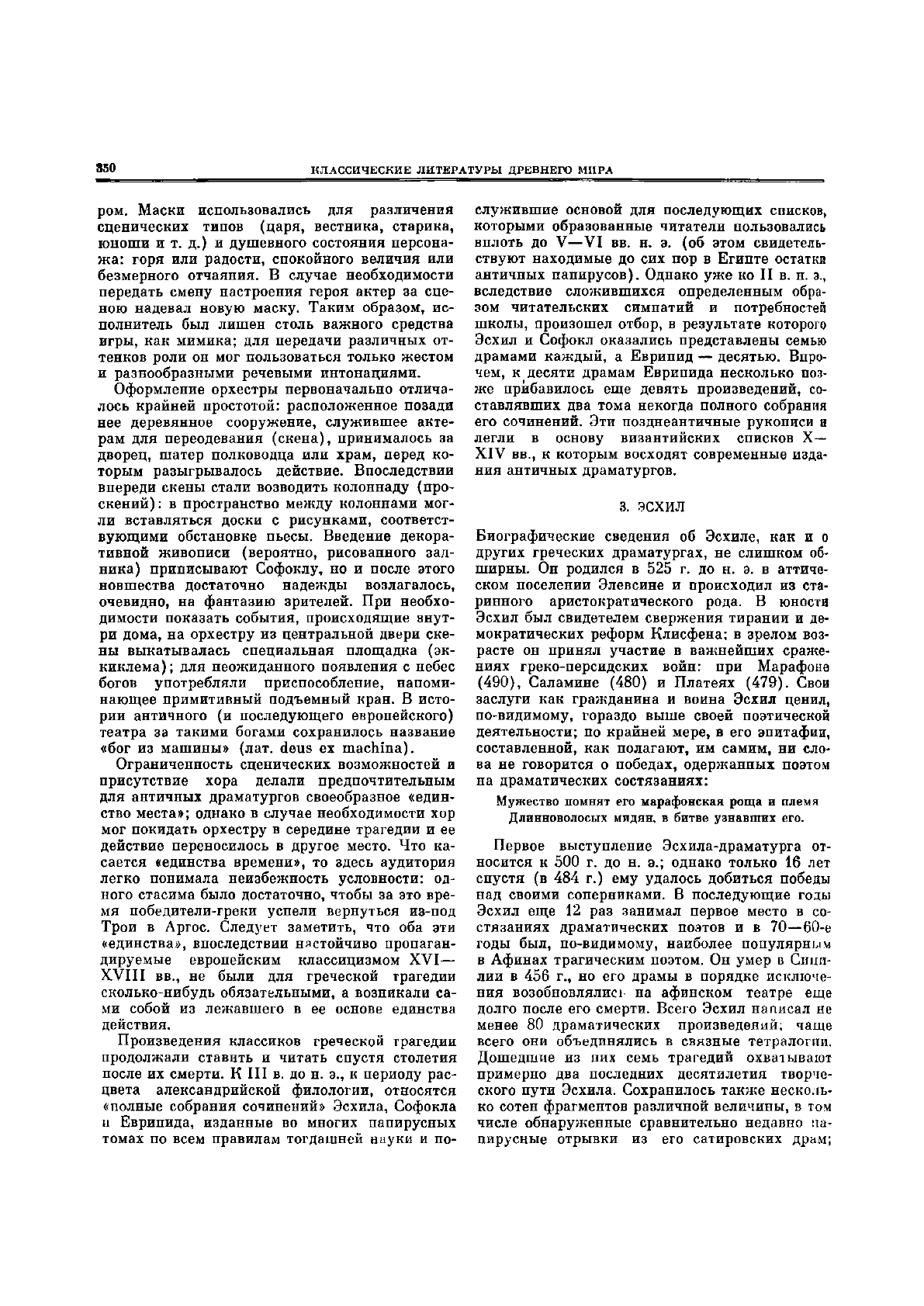
350
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
ром. Маски использовались для различения
сценических типов (царя, вестника, старика,
юноши и т. д.) и душевного состояния персона-
жа: горя или радости, спокойного величия или
безмерного отчаяния. В случае необходимости
передать смену настроения героя актер за сце-
ною надевал новую маску. Таким образом, ис-
полнитель был лишен столь важного средства
игры, как мимика; для передачи различных от-
тенков роли он мог пользоваться только жестом
и разнообразными речевыми интонациями.
Оформление орхестры первоначально отлича-
лось крайней простотой: расположенное позади
нее деревянное сооружение, служившее акте-
рам для переодевания (скена), принималось за
дворец, шатер полководца или храм, перед ко-
торым разыгрывалось действие. Впоследствии
впереди скены стали возводить колоннаду (про-
скений): в пространство между колоннами мог-
ли вставляться доски с рисунками, соответст-
вующими обстановке пьесы. Введение декора-
тивной живописи (вероятно, рисованного зад-
ника) приписывают Софоклу, но и после этого
новшества достаточно надежды возлагалось,
очевидно, на фантазию зрителей. При необхо-
димости показать события, происходящие внут-
ри дома, на орхестру из центральной двери ске-
ны выкатывалась специальная площадка (эк-
киклема); для неожиданного появления с небес
богов употребляли приспособление, напоми-
нающее примитивный подъемный кран. В исто-
рии античного (и последующего европейского)
театра за такими богами сохранилось название
«бог из машины» (лат. deus ex machina).
Ограниченность сценических возможностей и
присутствие хора делали предпочтительным
для античных драматургов своеобразное «един-
ство места»; однако в случае необходимости хор
мог покидать орхестру в середине трагедии и ее
действие переносилось в другое место. Что ка-
сается «единства времени», то здесь аудитория
легко понимала неизбежность условности: од-
ного стасима было достаточно, чтобы за это вре-
мя победители-греки успели вернуться из-под
Трои в Аргос. Следует заметить, что оба эти
«единства», впоследствии настойчиво пропаган-
дируемые европейским классицизмом XVI—
XVIII вв., не были для греческой трагедии
сколько-нибудь обязательными, а возникали са-
ми собой из лежавшего в ее основе единства
действия.
Произведения классиков греческой трагедии
продолжали ставить и читать спустя столетия
после их смерти. К III в. до н. э., к периоду рас-
цвета александрийской филологии, относятся
«полные собрания сочинений» Эсхила, Софокла
и Еврипида, изданные во многих папирусных
томах по всем правилам тогдашней науки и по-
служившие основой для последующих списков,
которыми образованные читатели пользовались
вплоть до V—VI вв. н. э. (об этом свидетель-
ствуют находимые до сих пор в Египте остатки
античных папирусов). Однако уже ко II в. н. э.,
вследствие сложившихся определенным обра-
зом читательских симпатий и потребностей
школы, произошел отбор, в результате которого
Эсхил и Софокл оказались представлены семью
драмами каждый, а Еврипид — десятью. Впро-
чем, к десяти драмам Еврипида несколько поз-
же прибавилось еще девять произведений, со-
ставлявших два тома некогда полного собрания
его сочинений. Эти позднеантичные рукописи и
легли в основу византийских списков X—
XIV вв., к которым восходят современные изда-
ния античных драматургов.
3. ЭСХИЛ
Биографические сведения об Эсхиле, как и о
других греческих драматургах, не слишком об-
ширны. Он родился в 525 г. до н. э. в аттиче-
ском поселении Элевсине и происходил из ста-
ринного аристократического рода. В юности
Эсхил был свидетелем свержения тирании и де-
мократических реформ Клисфена; в зрелом воз-
расте он принял участие в важнейших сраже-
ниях греко-персидских войн: при Марафоне
(490), Саламине (480) и Платеях (479). Свои
заслуги как гражданина и воина Эсхил ценил,
по-видимому, гораздо выше своей поэтической
деятельности; по крайней мере, в его эпитафии,
составленной, как полагают, им самим, ни сло-
ва не говорится о победах, одержанных поэтом
на драматических состязаниях:
Мужество помнят его марафонская роща и племя
Длинноволосых мидян, в битве узнавших его.
Первое выступление Эсхила-драматурга от-
носится к 500 г. до н. э.; однако только 16 лет
спустя (в 484 г.) ему удалось добиться победы
над своими соперниками. В последующие годы
Эсхил еще 12 раз занимал первое место в со-
стязаниях драматических поэтов и в 70—60-е
годы был, по-видимому, наиболее популярным
в Афинах трагическим поэтом. Он умер в Сици-
лии в 456 г., но его драмы в порядке исключе-
ния возобновлялись на афинском театре еще
долго после его смерти. Всего Эсхил написал не
менее 80 драматических произведений; чаще
всего они объединялись в связные тетралогии.
Дошедшие из них семь трагедий охватывают
примерно два последних десятилетия творче-
ского пути Эсхила. Сохранилось также несколь-
ко сотен фрагментов различной величины, в том
числе обнаруженные сравнительно недавно па-
пирусные отрывки из его сатировских драм;
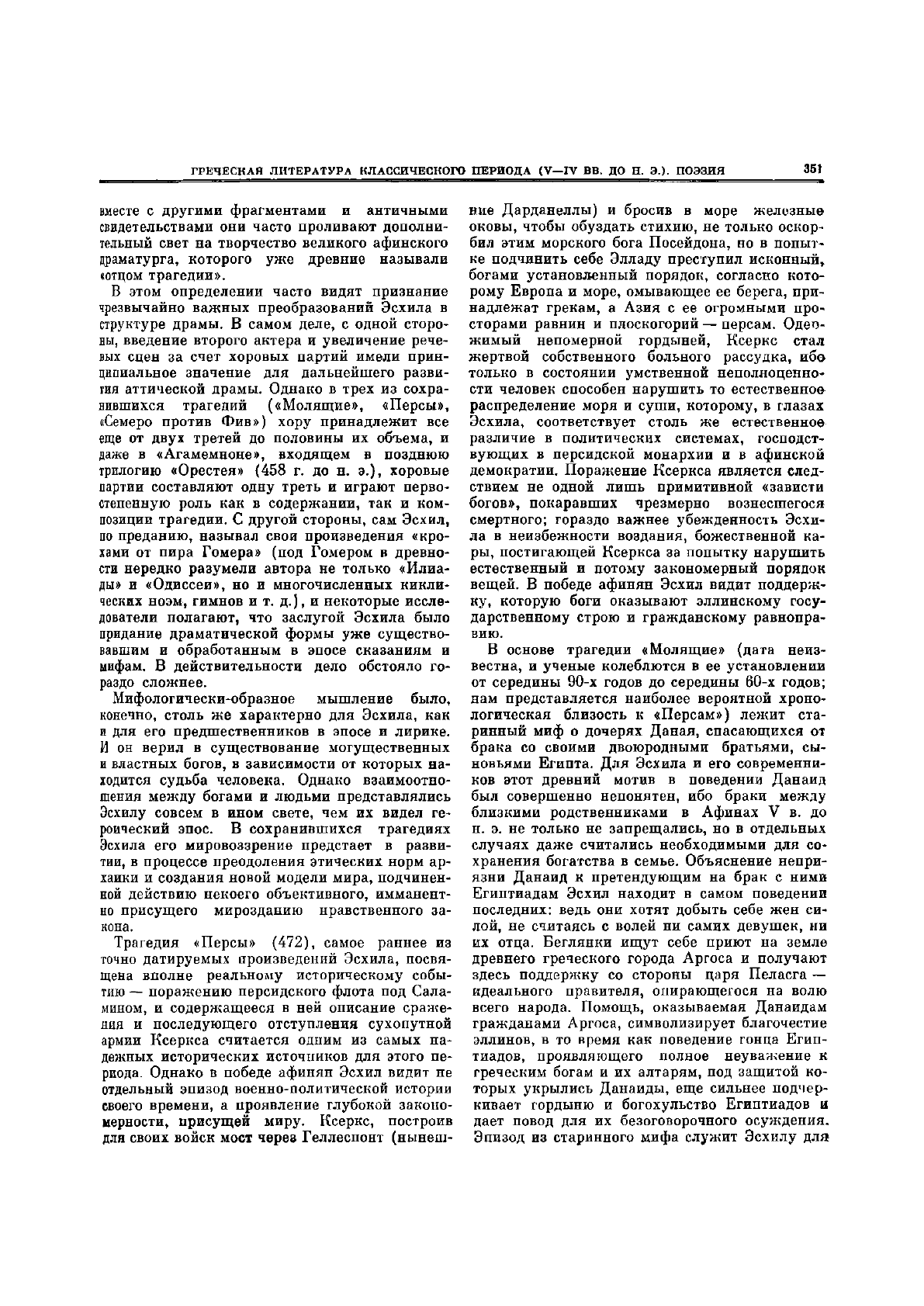
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ 351
вместе с другими фрагментами и античными
свидетельствами они часто проливают дополни-
тельный свет на творчество великого афинского
драматурга, которого уже древние называли
«отцом трагедии».
В этом определении часто видят признание
чрезвычайно важных преобразований Эсхила в
структуре драмы. В самом деле, с одной сторо-
ны, введение второго актера и увеличение рече-
вых сцен за счет хоровых партий имели прин-
ципиальное значение для дальнейшего разви-
тия аттической драмы. Однако в трех из сохра-
нившихся трагедий («Молящие», «Персы»,
«Семеро против Фив») хору принадлежит все
еще от двух третей до половины их объема, и
даже в «Агамемноне», входящем в позднюю
трилогию «Орестея» (458 г. до н. э.), хоровые
партии составляют одну треть и играют перво-
степенную роль как в содержании, так и ком-
позиции трагедии. С другой стороны, сам Эсхил,
по преданию, называл свои произведения «кро-
хами от пира Гомера» (под Гомером в древно-
сти нередко разумели автора не только «Илиа-
ды» и «Одиссеи», но и многочисленных кикли-
ческих ноэм, гимнов и т. д.), и некоторые иссле-
дователи полагают, что заслугой Эсхила было
придание драматической формы уже существо-
вавшим и обработанным в эпосе сказаниям и
мифам. В действительности дело обстояло го-
раздо сложнее.
Мифологически-образное мышление было,
конечно, столь же характерно для Эсхила, как
и для его предшественников в эпосе и лирике.
И он верил в существование могущественных
и властных богов, в зависимости от которых на-
ходится судьба человека. Однако взаимоотно-
шения между богами и людьми представлялись
Эсхилу совсем в ином свете, чем их видел ге-
роический эпос. В сохранившихся трагедиях
Эсхила его мировоззрение предстает в разви-
тии, в процессе преодоления этических норм ар-
хаики и создания новой модели мира, подчинен-
ной действию некоего объективного, имманент-
но присущего мирозданию нравственного за-
кона.
Трагедия «Персы» (472), самое раннее из
точно датируемых произведений Эсхила, посвя-
щена вполне реальному историческому собы-
тию — поражению персидского флота под Сала-
мином, и содержащееся в ней описание сраже-
ния и последующего отступления сухопутной
армии Ксеркса считается одним из самых на-
дежных исторических источников для этого пе-
риода. Однако в победе афинян Эсхил видит не
отдельный эпизод военно-политической истории
своего времени, а проявление глубокой законо-
мерности, присущей миру. Ксеркс, построив
для своих войск мост через Геллеспонт (нынеш-
ние Дарданеллы) и бросив в море железные
оковы, чтобы обуздать стихию, не только оскор-
бил этим морского бога Посейдона, но в попыт-
ке подчинить себе Элладу преступил исконный*
богами установленный порядок, согласно кото-
рому Европа и море, омывающее ее берега, при-
надлежат грекам, а Азия с ее огромными про-
сторами равнин и плоскогорий — персам. Одер-
жимый непомерной гордыней, Ксеркс стал
жертвой собственного больного рассудка, ибо
только в состоянии умственной неполноценно-
сти человек способен нарушить то естественное
распределение моря и суши, которому, в глазах
Эсхила, соответствует столь же естественное
различие в политических системах, господст-
вующих в персидской монархии и в афинской
демократии. Поражение Ксеркса является след-
ствием не одной лишь примитивной «зависти
богов», покаравших чрезмерно вознесшегося
смертного; гораздо важнее убежденность Эсхи-
ла в неизбежности воздания, божественной ка-
ры, постигающей Ксеркса за попытку нарушить
естественный и потому закономерный порядок
вещей. В победе афинян Эсхил видит поддерж-
ку, которую боги оказывают эллинскому госу-
дарственному строю и гражданскому равнопра-
вию.
В основе трагедии «Молящие» (дата неиз-
вестна, и ученые колеблются в ее установлении
от середины 90-х годов до середины 60-х годов;
нам представляется наиболее вероятной хроно-
логическая близость к «Персам») лежит ста-
ринный миф о дочерях Даная, спасающихся от
брака со своими двоюродными братьями, сы-
новьями Египта. Для Эсхила и его современни-
ков этот древний мотив в поведении Данаид
был совершенно непонятен, ибо браки между
близкими родственниками в Афинах V в. до
н. э. не только не запрещались, но в отдельных
случаях даже считались необходимыми для со-
хранения богатства в семье. Объяснение непри-
язни Данаид к претендующим на брак с ними
Египтиадам Эсхил находит в самом поведении
последних: ведь они хотят добыть себе жен си-
лой, не считаясь с волей ни самих девушек, ни
их отца. Беглянки ищут себе приют на земле
древнего греческого города Аргоса и получают
здесь поддержку со стороны царя Пеласга —
идеального правителя, опирающегося на волю
всего народа. Помощь, оказываемая Данаидам
гражданами Аргоса, символизирует благочестие
эллинов, в то время как поведение гонца Егип-
тиадов, проявляющего полное неуважение к
греческим богам и их алтарям, под защитой ко-
торых укрылись Данаиды, еще сильнее подчер-
кивает гордыню и богохульство Египтиадов а
дает повод для их безоговорочного осуждения.
Эпизод из старинного мифа служит Эсхилу для
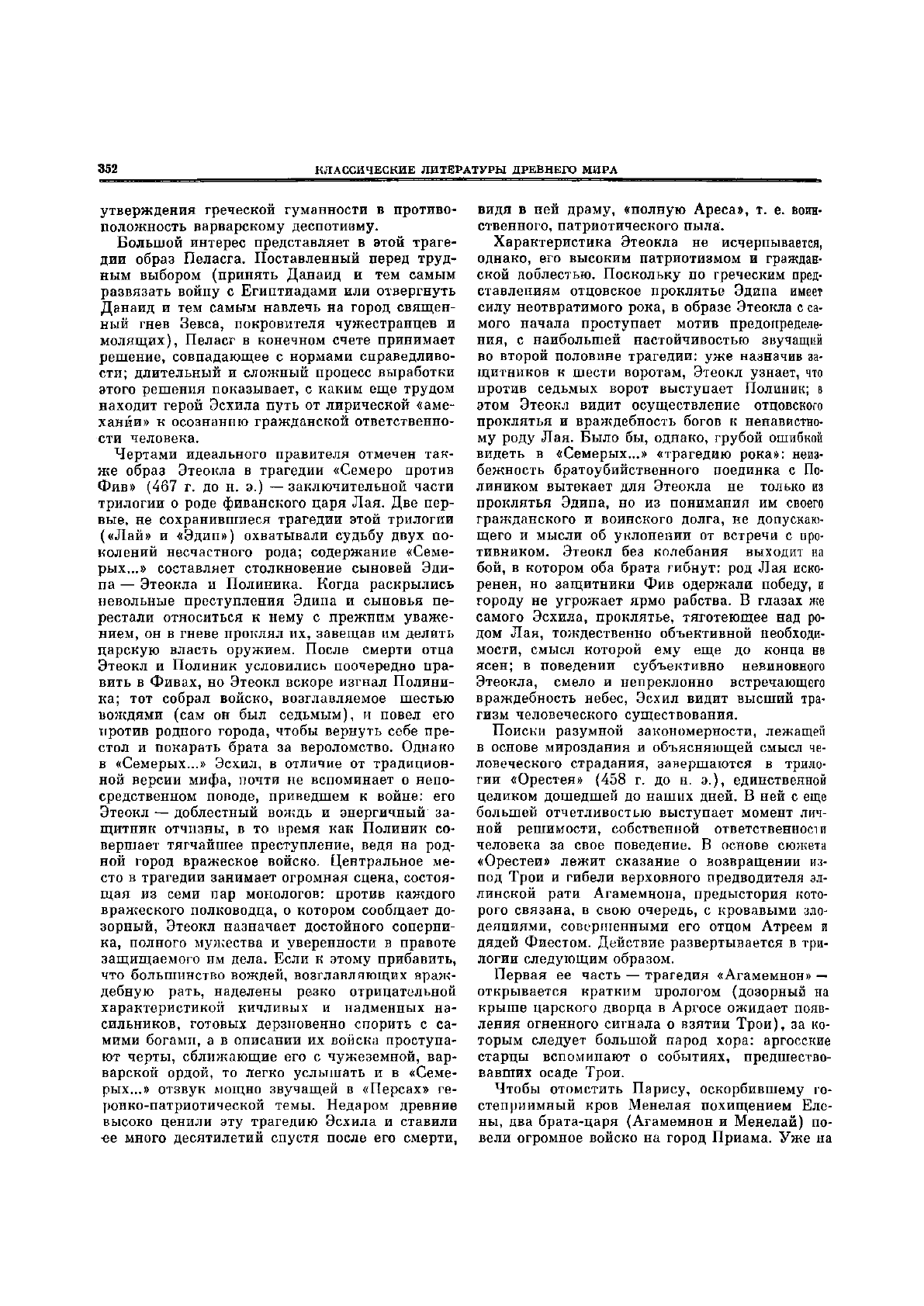
352
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
утверждения греческой гуманности в противо-
положность варварскому деспотизму.
Большой интерес представляет в этой траге-
дии образ Пеласга. Поставленный перед труд-
ным выбором (принять Данаид и тем самым
развязать войну с Египтиадами или отвергнуть
Данаид и тем самым навлечь на город священ-
ный гнев Зевса, покровителя чужестранцев и
молящих), Пеласг в конечном счете принимает
решение, совпадающее с нормами справедливо-
сти; длительный и сложный процесс выработки
этого решения показывает, с каким еще трудом
находит герой Эсхила путь от лирической «аме-
ханйи» к осознанию гражданской ответственно-
сти человека.
Чертами идеального правителя отмечен так-
же образ Этеокла в трагедии «Семеро против
Фив» (467 г. до н. э.) — заключительной части
трилогии о роде фиванского царя Лая. Две пер-
вые, не сохранившиеся трагедии этой трилогии
(«Лай» и «Эдип») охватывали судьбу двух по-
колений несчастного рода; содержание «Семе-
рых...» составляет столкновение сыновей Эди-
па — Этеокла и Полиника. Когда раскрылись
невольные преступления Эдипа и сыновья пе-
рестали относиться к нему с прежним уваже-
нием, он в гневе проклял их, завещав им делить
царскую власть оружием. После смерти отца
Этеокл и Полиник условились поочередно пра-
вить в Фивах, но Этеокл вскоре изгнал Полини-
ка; тот собрал войско, возглавляемое шестью
вождями (сам он был седьмым), и повел его
против родного города, чтобы вернуть себе пре-
стол и покарать брата за вероломство. Однако
в «Семерых...» Эсхил, в отличие от традицион-
ной версии мифа, почти не вспоминает о непо-
средственном поводе, приведшем к войне: его
Этеокл — доблестный вождь и энергичный за-
щитник отчизны, в то время как Полиник со-
вершает тягчайшее преступление, ведя на род-
ной город вражеское войско. Центральное ме-
сто в трагедии занимает огромная сцена, состоя-
щая из семи пар монологов: против каждого
вражеского полководца, о котором сообщает до-
зорный, Этеокл назначает достойного соперни-
ка, полного мужества и уверенности в правоте
защищаемого им дела. Если к этому прибавить,
что большинство вождей, возглавлнющих враж-
дебную рать, наделены резко отрицательной
характеристикой кичливых и надменных на-
сильников, готовых дерзновенно спорить с са-
мими богами, а в описании их войска проступа-
ют черты, сближающие его с чужеземной, вар-
варской ордой, то легко услышать и в «Семе-
рых...» отзвук мощно звучащей в «Персах» ге-
роико-патриотической темы. Недаром древние
высоко ценили эту трагедию Эсхила и ставили
ее много десятилетий спустя после его смерти,
видя в ней драму, «полную Ареса», т. е. воин-
ственного, патриотического пыла.
Характеристика Этеокла не исчерпывается,
однако, его высоким патриотизмом и граждан-
ской доблестью. Поскольку по греческим пред-
ставлениям отцовское проклятье Эдипа имеет
силу неотвратимого рока, в образе Этеокла с са-
мого начала проступает мотив предопределе-
ния, с наибольшей настойчивостью звучащий
во второй половине трагедии: уже назначив за-
щитников к шести воротам, Этеокл узнает, что
против седьмых ворот выступает Полиник; в
этом Этеокл видит осуществление отцовского
проклятья и враждебность богов к ненавистно-
му роду Лая. Было бы, однако, грубой ошибкой
видеть в «Семерых...» «трагедию рока»: неиз-
бежность братоубийственного поединка с По-
лиником вытекает для Этеокла не только из
проклятья Эдипа, но из понимания им своего
гражданского и воинского долга, не допускаю-
щего и мысли об уклонении от встречи с про-
тивником. Этеокл без колебания выходит на
бой, в котором оба брата гибнут: род Лая иско-
ренен, но защитники Фив одержали победу, и
городу не угрожает ярмо рабства. В глазах же
самого Эсхила, проклятье, тяготеющее над ро-
дом Лая, тождественно объективной необходи-
мости, смысл которой ему еще до конца не
ясен; в поведении субъективно невиновного
Этеокла, смело и непреклонно встречающего
враждебность небес, Эсхил видит высший тра-
гизм человеческого существования.
Поиски разумной закономерности, лежащей
в основе мироздания и объясняющей смысл че-
ловеческого страдания, завершаются в трило-
гии «Орестея» (458 г. до н. э.), единственной
целиком дошедшей до наших дней. В ней с еще
большей отчетливостью выступает момент лич-
ной решимости, собственной ответственности
человека за свое поведение. В основе сюжета
«Орестеи» лежит сказание о возвращении из-
под Трои и гибели верховного предводителя эл-
линской рати Агамемнона, предыстория кото-
рого связана, в свою очередь, с кровавыми зло-
деяниями, совершенными его отцом Атреем и
дядей Фиестом. Действие развертывается в три-
логии следующим образом.
Первая ее часть — трагедия «Агамемнон»
—
открывается кратким прологом (дозорный на
крыше царского дворца в Аргосе ожидает появ-
ления огненного сигнала о взятии Трои), за ко-
торым следует большой парод хора: аргосские
старцы вспоминают о событиях, предшество-
вавших осаде Трои.
Чтобы отомстить Парису, оскорбившему го-
степриимный кров Менелая похищением Еле-
ны, два брата-царя (Агамемнон и Менелай) по-
вели огромное войско на город Приама. Уже на
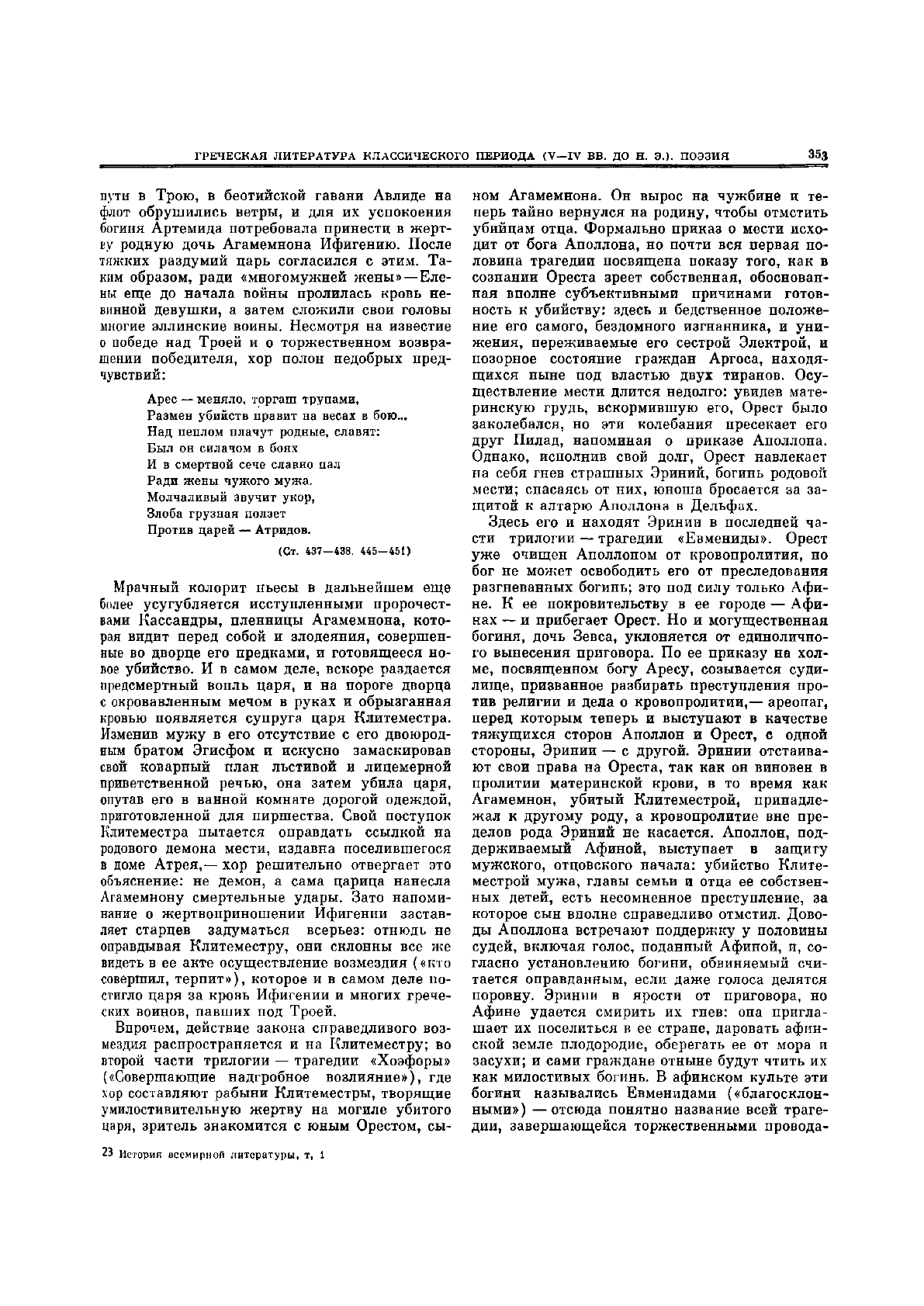
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ
347
пути в Трою, в беотийской гавани Авлиде на
флот обрушились ветры, и для их успокоения
богиня Артемида потребовала принести в жерт-
ву родную дочь Агамемнона Ифигению. После
тяжких раздумий царь согласился с этим. Та-
ким образом, ради «многомужней жены»—Еле-
ны еще до начала войны пролилась кровь не-
винной девушки, а затем сложили свои головы
многие эллинские воины. Несмотря на известие
о победе над Троей PI О торжественном возвра-
щении победителя, хор полон недобрых пред-
чувствий:
Арес — меняло, торгаш трупами,
Размен убийств правит на весах в бою...
Над пеплом плачут родные, славят:
Был он силачом в боях
И в смертной сече славно пал
Ради жены чужого мужа.
Молчаливый звучит укор,
Злоба грузная ползет
Против царей — Атридов.
(Ст. 437—438, 445—451)
Мрачный колорит пьесы в дальнейшем еще
более усугубляется исступленными пророчест-
вами Кассандры, пленницы Агамемнона, кото-
рая видит перед собой и злодеяния, совершен-
ные во дворце его предками, и готовящееся но-
вое убийство. И в самом деле, вскоре раздается
предсмертный вопль царя, и на пороге дворца
с окровавленным мечом в руках и обрызганная
кровью появляется супруга царя Клитеместра.
Изменив мужу в его отсутствие с его двоюрод-
ным братом Эгисфом и искусно замаскировав
свой коварный план льстивой и лицемерной
приветственной речью, она затем убила царя,
опутав его в ванной комнате дорогой одеждой,
приготовленной для пиршества. Свой поступок
Клитеместра пытается оправдать ссылкой на
родового демона мести, издавна поселившегося
в доме Атрея,— хор решительно отвергает это
объяснение: не демон, а сама царица нанесла
Агамемнону смертельные удары. Зато напоми-
нание о жертвоприношении Ифигении застав-
ляет старцев задуматься всерьез: отнюдь не
оправдывая Клитеместру, они склонны все же
видеть в ее акте осуществление возмездия («кто
совершил, терпит»), которое и в самом деле по-
стигло царя за кровь Ифигении и многих грече-
ских воинов, павших под Троей.
Впрочем, действие закона справедливого воз-
мездия распространяется и на Клитеместру; во
второй части трилогии — трагедии «Хоэфоры»
(«Совершающие надгробное возлияние»), где
хор составляют рабыни Клитеместры, творящие
умилостивительную жертву на могиле убитого
царя, зритель знакомится с юным Орестом, сы-
ном Агамемнона. Он вырос на чужбине и те-
перь тайно вернулся на родину, чтобы отмстить
убийцам отца. Формально приказ о мести исхо-
дит от бога Аполлона, но почти вся первая по-
ловина трагедии посвящена показу того, как в
сознании Ореста зреет собственная, обоснован-
ная вполне субъективными причинами готов-
ность к убийству: здесь и бедственное положе-
ние его самого, бездомного изгнанника, и уни-
жения, переживаемые его сестрой Электрой, и
позорное состояние граждан Аргоса, находя-
щихся ныне под властью двух тиранов. Осу-
ществление мести длится недолго: увидев мате-
ринскую грудь, вскормившую его, Орест было
заколебался, но эти колебания пресекает его
друг Пилад, напоминая о приказе Аполлона.
Однако, исполнив свой долг, Орест навлекает
на себя гнев страшных Эриний, богинь родовой
мести; спасаясь от них, юноша бросается за за-
щитой к алтарю Аполлона в Дельфах.
Здесь его и находят Эринии в последней ча-
сти трилогии — трагедии «Евмениды». Орест
уже очищен Аполлоном от кровопролития, но
бог не может освободить его от преследования
разгневанных богинь; это под силу только Афи-
не. К ее покровительству в ее городе — Афи-
нах — и прибегает Орест. Но и могущественная
богиня, дочь Зевса, уклоняется от единолично-
го вынесения приговора. По ее приказу на хол-
ме, посвященном богу Аресу, созывается суди-
лище, призванное разбирать преступления про-
тив религии и дела о кровопролитии,— ареопаг,
перед которым теперь и выступают в качестве
тяжущихся сторон Аполлон и Орест, с одной
стороны, Эринии — с другой. Эринии отстаива-
ют свои права на Ореста, так как он виновен в
пролитии материнской крови, в то время как
Агамемнон, убитый Клитеместрой, принадле-
жал к другому роду, а кровопролитие вне пре-
делов рода Эриний не касается. Аполлон, под-
держиваемый Афиной, выступает в защиту
мужского, отцовского начала: убийство Клите-
местрой мужа, главы семьи и отца ее собствен-
ных детей, есть несомненное преступление, за
которое сын вполне справедливо отмстил. Дово-
ды Аполлона встречают поддержку у половины
судей, включая голос, поданный Афиной, и, со-
гласно установлению богини, обвиняемый счи-
тается оправданным, если даже голоса делятся
поровну. Эринии в ярости от приговора, но
Афине удается смирить их гнев: она пригла-
шает их поселиться в ее стране, даровать афин-
ской земле плодородие, оберегать ее от мора и
засухи; и сами граждане отныне будут чтить их
как милостивых богинь. В афинском культе эти
богини назывались Евменидами («благосклон-
ными») — отсюда понятно название всей траге-
дии, завершающейся торжественными провода-
23 История всемирной литературы, т, 1
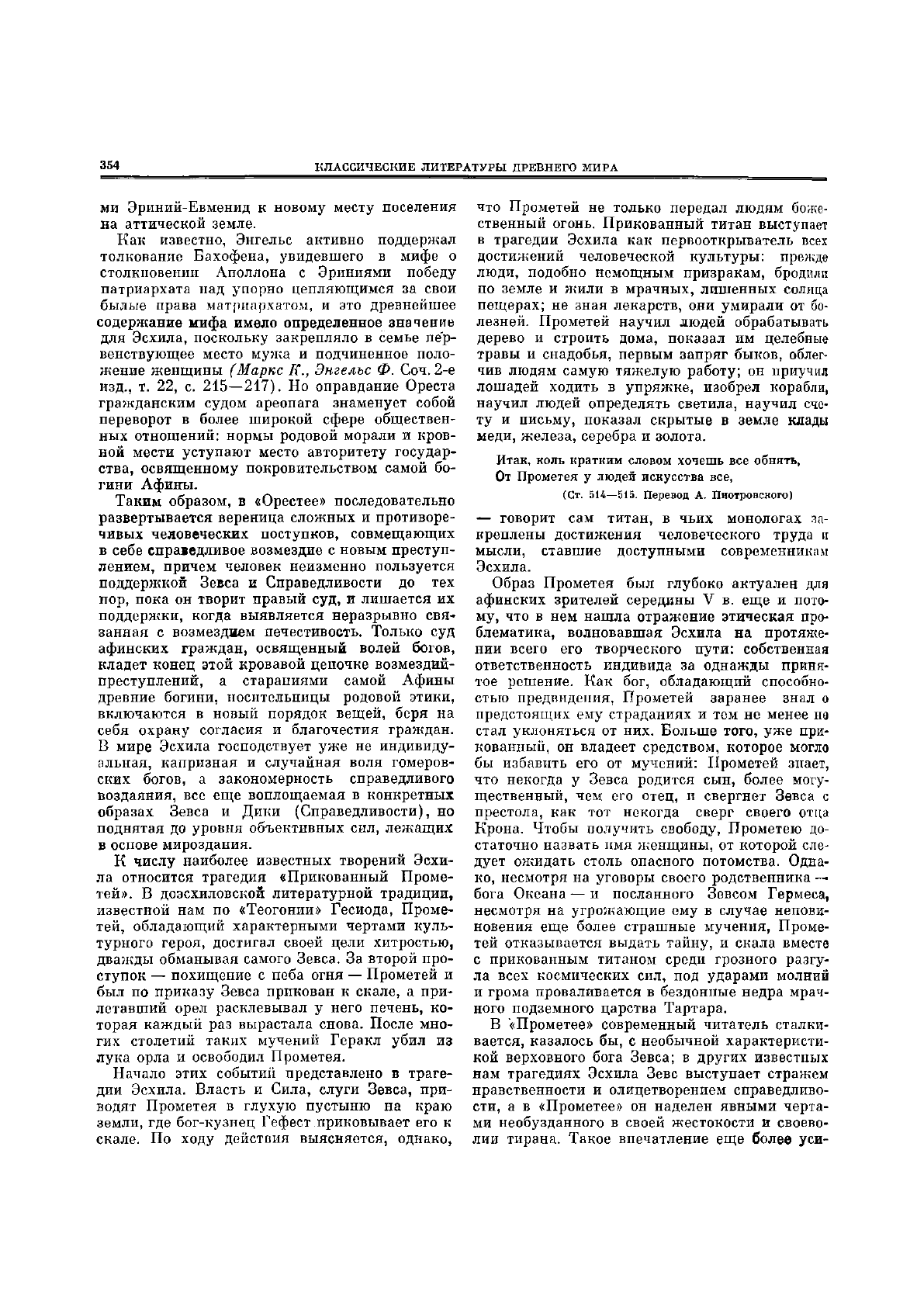
354
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
ми Эриний-Евменид к новому месту поселения
на аттической земле.
Как известно, Энгельс активно поддержал
толкование Бахофена, увидевшего в мифе о
столкновении Аполлона с Эриниями победу
патриархата над упорно цепляющимся за свои
былые права матриархатом, и это древнейшее
содержание мифа имело определенное значение
для Эсхила, поскольку закрепляло в семье пер-
венствующее место мужа и подчиненное поло-
жение женщины (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд., т. 22, с. 215—217). Но оправдание Ореста
гражданским судом ареопага знаменует собой
переворот в более широкой сфере обществен-
ных отношений: нормы родовой морали и кров-
ной мести уступают место авторитету государ-
ства, освященному покровительством самой бо-
гини Афины.
Таким образом, в «Орестее» последовательно
развертывается вереница сложных и противоре-
чивых человеческих поступков, совмещающих
в себе справедливое возмездие с новым преступ-
лением, причем человек неизменно пользуется
поддержкой Зевса и Справедливости до тех
пор, пока он творит правый суд, и лишается их
поддержки, когда выявляется неразрывно свя-
занная с возмездием нечестивость. Только суд
афинских граждан, освященный волей богов,
кладет конец этой кровавой цепочке возмездий-
преступлений, а стараниями самой Афины
древние богини, носительницы родовой этики,
включаются в новый порядок вещей, беря на
себя охрану согласия и благочестия граждан.
В мире Эсхила господствует уже не индивиду-
альная, капризная и случайная воля гомеров-
ских богов, а закономерность справедливого
воздаяния, все еще воплощаемая в конкретных
образах Зевса и Дики (Справедливости), но
поднятая до уровня объективных сил, лежащих
в основе мироздания.
К числу наиболее известных творений Эсхи-
ла относится трагедия «Прикованный Проме-
тей». В доэсхиловской литературной традиции,
известной нам по «Теогонии» Гесиода, Проме-
тей, обладающий характерными чертами куль-
турного героя, достигал своей цели хитростью,
дважды обманывая самого Зевса. За второй про-
ступок — похищение с неба огня — Прометей и
был по приказу Зевса прикован к скале, а при-
летавший орел расклевывал у него печень, ко-
торая каждый раз вырастала снова. После мно-
гих столетий таких мучений Геракл убил из
лука орла и освободил Прометея.
Начало этих событий представлено в траге-
дии Эсхила. Власть и Сила, слуги Зевса, при-
водят Прометея в глухую пустыню на краю
земли, где бог-кузнец Гефест приковывает его к
скале. По ходу действия выясняется, однако,
что Прометей не только передал людям боже-
ственный огонь. Прикованный титан выступает
в трагедии Эсхила как первооткрыватель всех
достижений человеческой культуры: прежде
люди, подобно немощным призракам, бродили
по земле и жили в мрачных, лишенных солнца
пещерах; не зная лекарств, они умирали от бо-
лезней. Прометей научил людей обрабатывать
дерево и строить дома, показал им целебные
травы и снадобья, первым запряг быков, облег-
чив людям самую тяжелую работу; он приучил
лошадей ходить в упряжке, изобрел корабли,
научил людей определять светила, научил сче-
ту и письму, показал скрытые в земле клады
меди, железа, серебра и золота.
Итак, коль кратким словом хочешь все обнять,
От Прометея у людей искусства все,
(Ст. 514—515. Перевод А. Пиотровского)
— говорит сам титан, в чьих монологах за-
креплены достижения человеческого труда и
мысли, ставшие доступными современникам
Эсхила.
Образ Прометея был глубоко актуален для
афинских зрителей середины V в. еще и пото-
му, что в нем нашла отражение этическая про-
блематика, волновавшая Эсхила на протяже-
нии всего его творческого пути: собственная
ответственность индивида за однажды приня-
тое решение. Как бог, обладающий способно-
стью предвидения, Прометей заранее знал о
предстоящих ему страданиях и тем не менее не
стал уклоняться от них. Больше того, уже при-
кованный, он владеет средством, которое могло
бы избавить его от мучений: Прометей знает,
что некогда у Зевса родится сын, более могу-
щественный, чем его отец, и свергнет Зевса с
престола, как тот некогда сверг своего отца
Крона. Чтобы получить свободу, Прометею до-
статочно назвать имя женщины, от которой сле-
дует ожидать столь опасного потомства. Одна-
ко, несмотря на уговоры своего родственника —
бога Океана — и посланного Зевсом Гермеса,
несмотря на угрожающие ему в случае непови-
новения еще более страшные мучения, Проме-
тей отказывается выдать тайну, и скала вместе
с прикованным титаном среди грозного разгу-
ла всех космических сил, под ударами молний
и грома проваливается в бездонные недра мрач-
ного подземного царства Тартара.
В «Прометее» современный читатель сталки-
вается, казалось бы, с необычной характеристи-
кой верховного бога Зевса; в других известных
нам трагедиях Эсхила Зевс выступает стражем
нравственности и олицетворением справедливо-
сти, а в «Прометее» он наделен явными черта-
ми необузданного в своей жестокости и своево-
лии тирана. Такое впечатление еще более уси-
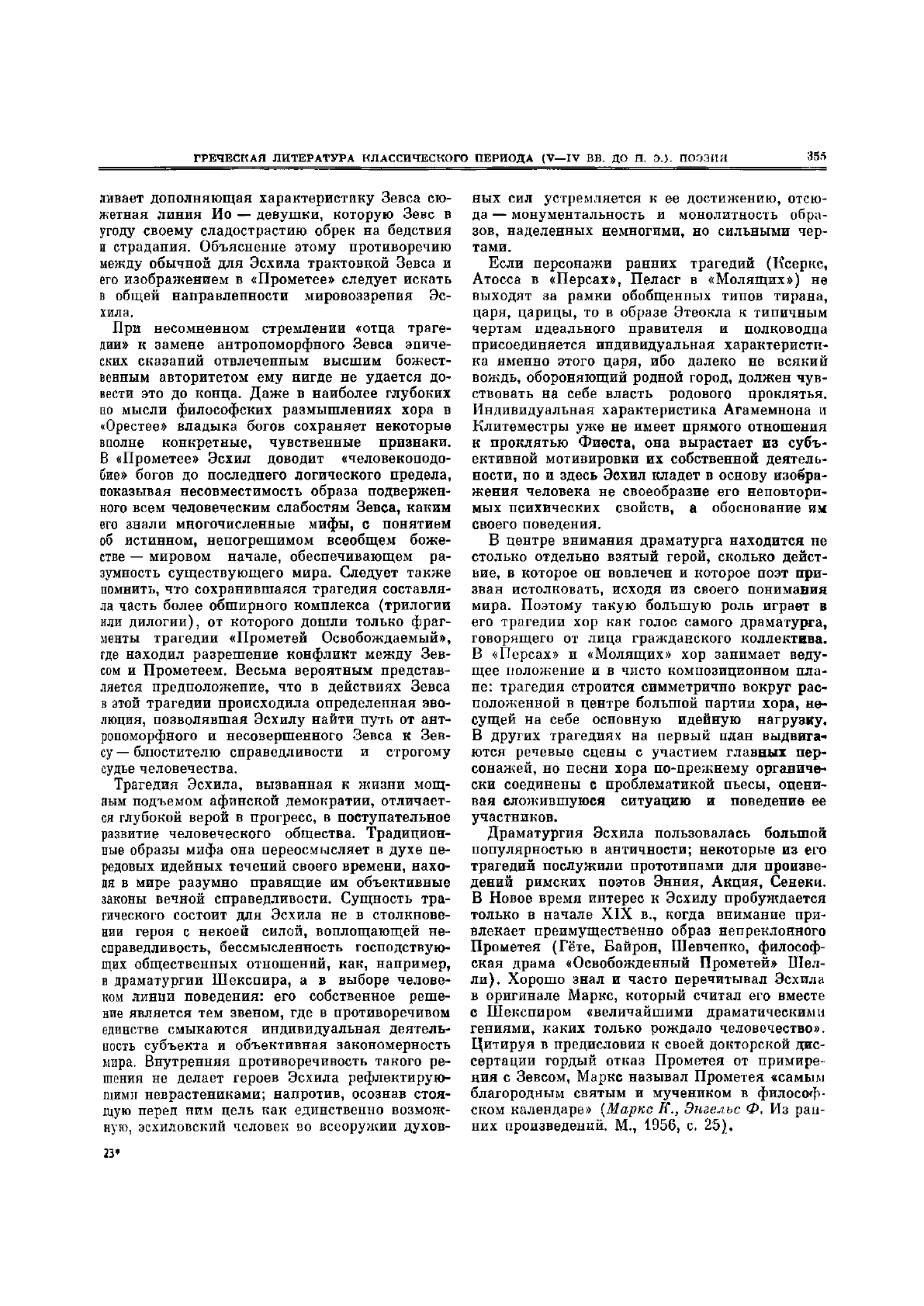
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (У—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПОЭЗИЯ
355
ливает дополняющая характеристику Зевса сю-
жетная линия Ио — девушки, которую Зевс в
угоду своему сладострастию обрек на бедствия
и страдания. Объяснение этому противоречию
между обычной для Эсхила трактовкой Зевса и
его изображением в «Прометее» следует искать
в общей направленности мировоззрения Эс-
хила.
При несомненном стремлении «отца траге-
дии» к замене антропоморфного Зевса эпиче-
ских сказаний отвлеченным высшим божест-
венным авторитетом ему нигде не удается до-
вести это до конца. Даже в наиболее глубоких
по мысли философских размышлениях хора в
«Орестее» владыка богов сохраняет некоторые
вполне конкретные, чувственные признаки.
В «Прометее» Эсхил доводит «человеконодо-
бие» богов до последнего логического предела,
показывая несовместимость образа подвержен-
ного всем человеческим слабостям Зевса, каким
его знали многочисленные мифы, с понятием
об истинном, непогрешимом всеобщем боже-
стве — мировом начале, обеспечивающем ра-
зумность существующего мира. Следует также
помнить, что сохранившаяся трагедия составля-
ла часть более обширного комплекса (трилогии
или дилогии), от которого дошли только фраг-
менты трагедии «Прометей Освобождаемый»,
где находил разрешение конфликт между Зев-
сом и Прометеем. Весьма вероятным представ-
ляется предположение, что в действиях Зевса
в этой трагедии происходила определенная эво-
люция, позволявшая Эсхилу найти путь от ант-
ропоморфного и несовершенного Зевса к Зев-
су
—
блюстителю справедливости и строгому
судье человечества.
Трагедия Эсхила, вызванная к жизни мощ-
ным подъемом афинской демократии, отличает-
ся глубокой верой в прогресс, в поступательное
развитие человеческого общества. Традицион-
ные образы мифа она переосмысляет в духе пе-
редовых идейных течений своего времени, нахо-
дя в мире разумно правящие им объективные
законы вечной справедливости. Сущность тра-
гического состоит для Эсхила не в столкнове-
нии героя с некоей силой, воплощающей не-
справедливость, бессмысленность господствую-
щих общественных отношений, как, например,
в драматургии Шекспира, а в выборе челове-
ком линии поведения: его собственное реше-
ние является тем звеном, где в противоречивом
единстве смыкаются индивидуальная деятель-
ность субъекта и объективная закономерность
мира. Внутренняя противоречивость такого ре-
шения не делает героев Эсхила рефлектирую-
щими неврастениками; напротив, осознав стоя-
щую перед ним цель как единственно возмож-
ную, эсхиловский человек во всеоружии духов-
ных сил устремляется к ее достижению, отсю-
да — монументальность и монолитность обра-
зов, наделенных немногими, но сильными чер-
тами.
Если персонажи ранних трагедий (Ксеркс,
Атосса в «Персах», Пеласг в «Молящих») не
выходят за рамки обобщенных типов тирана,
царя, царицы, то в образе Этеокла к типичным
чертам идеального правителя и полководца
присоединяется индивидуальная характеристи-
ка именно этого царя, ибо далеко не всякий
вождь, обороняющий родной город, должен чув-
ствовать на себе власть родового проклятья.
Индивидуальная характеристика Агамемнона и
Клитеместры уже не имеет прямого отношения
к проклятью Фиеста, она вырастает из субъ-
ективной мотивировки их собственной деятель-
ности, но и здесь Эсхил кладет в основу изобра-
жения человека не своеобразие его неповтори-
мых психических свойств, а обоснование им
своего поведения.
В центре внимания драматурга находится не
столько отдельно взятый герой, сколько дейст-
вие, в которое он вовлечен и которое поэт при-
зван истолковать, исходя из своего понимания
мира. Поэтому такую большую роль играет в
его трагедии хор как голос самого драматурга,
говорящего от лица гражданского коллектива.
В «Персах» и «Молящих» хор занимает веду-
щее положение и в чисто композиционном пла-
не: трагедия строится симметрично вокруг рас-
положенной в центре большой партии хора, не-
сущей на себе основную идейную нагрузку.
В других трагедиях на первый план выдвига*
ются речевые сцены с участием главных пер-
сонажей, но песни хора по-прежнему органиче-
ски соединены с проблематикой пьесы, оцени-
вая сложившуюся ситуацию и поведение ее
участников.
Драматургия Эсхила пользовалась большой
популярностью в античности; некоторые из его
трагедий послужили прототипами для произве-
дений римских поэтов Энния, Акция, Сенеки.
В Новое время интерес к Эсхилу пробуждается
только в начале XIX в., когда внимание при-
влекает преимущественно образ непреклонного
Прометея (Гёте, Байрон, Шевченко, философ-
ская драма «Освобожденный Прометей» Шел-
ли). Хорошо знал и часто перечитывал Эсхила
в оригинале Маркс, который считал его вместе
с Шекспиром «величайшими драматическими
гениями, каких только рождало человечество».
Цитируя в предисловии к своей докторской дис-
сертации гордый отказ Прометея от примире-
ния с Зевсом, Маркс называл Прометея «самым
благородным святым и мучеником в философ-
ском календаре» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ран-
них произведений. М., 1956, с. 25).
23*
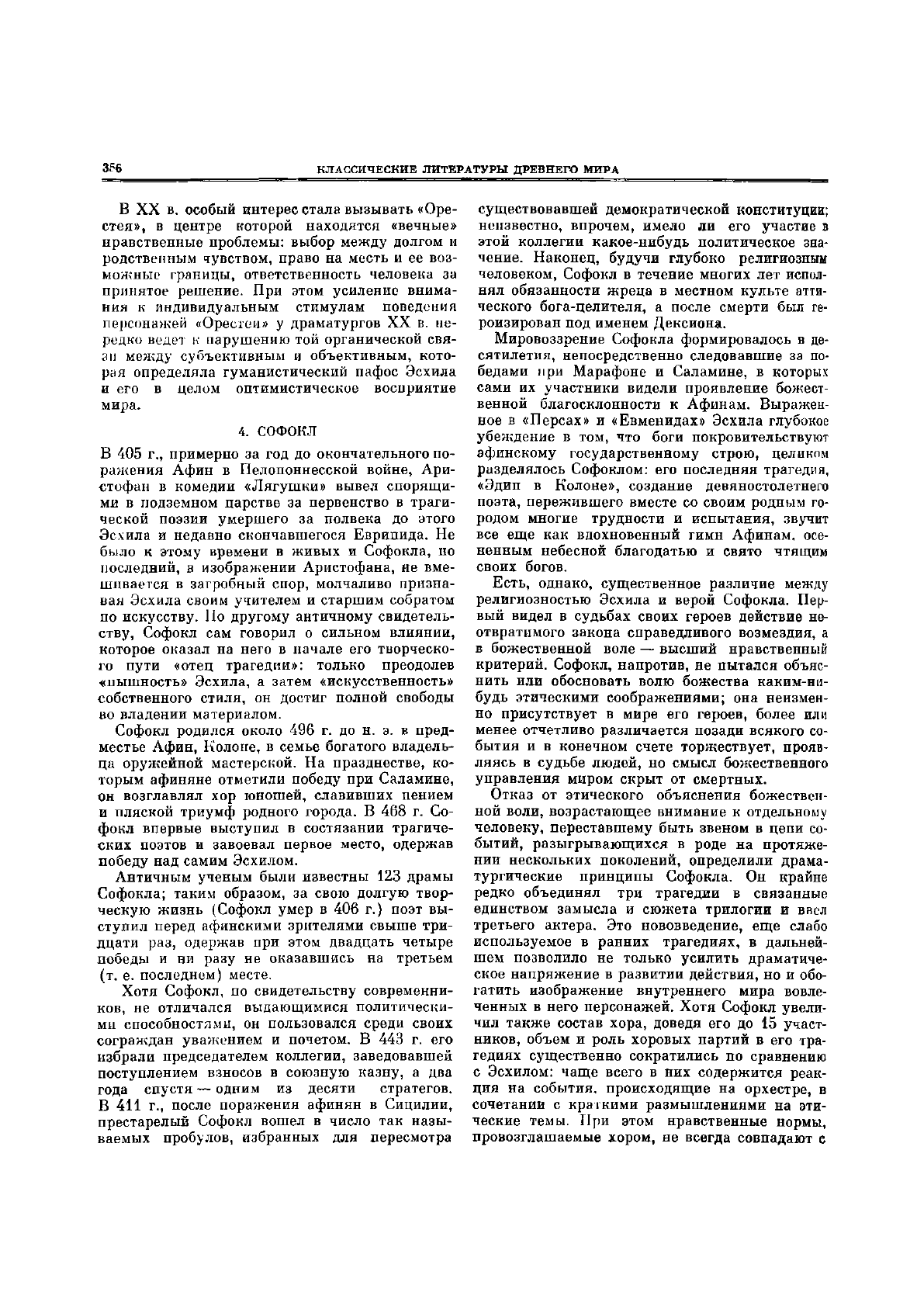
356
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА
В XX в. особый интерес стала вызывать «Оре-
стея», в центре которой находятся «вечные»
нравственные проблемы: выбор между долгом и
родственным чувством, право на месть и ее воз-
можные границы, ответственность человека за
принятое решение. При этом усиление внима-
ния к индивидуальным стимулам поведения
персонажей «Оресхеи» у драматургов XX в. не-
редко ведет к нарушению той органической свя-
зи между субъективным и объективным, кото-
рая определяла гуманистический пафос Эсхила
и его в целом оптимистическое восприятие
мира.
4. СОФОКЛ
В 405 г., примерно за год до окончательного по-
ражения Афин в Пелопоннесской войне, Ари-
стофан в комедии «Лягушки» вывел спорящи-
ми в подземном царстве за первенство в траги-
ческой поэзии умершего за полвека до этого
Эсхила и недавно скончавшегося Еврипида. Не
было к этому времени в живых и Софокла, ио
последний, в изображении Аристофана, не вме-
шивается в загробный спор, молчаливо призна-
вая Эсхила своим учителем и старшим собратом
по искусству. По другому античному свидетель-
ству, Софокл сам говорил о сильном влиянии,
которое оказал на него в начале его творческо-
го пути «отец трагедии»: только преодолев
«пышность» Эсхила, а затем «искусственность»
собственного стиля, он достиг полной свободы
во владении материалом.
Софокл родился около 496 г. до н. э. в пред-
местье Афин, Колоне, в семье богатого владель-
ца оружейной мастерской. На празднестве, ко-
торым афиняне отметили победу при Саламине,
он возглавлял хор юношей, славивших пением
и пляской триумф родного города. В 468 г. Со-
фокл впервые выступил в состязании трагиче-
ских поэтов и завоевал первое место, одержав
победу над самим Эсхилом.
Античным ученым были известны 123 драмы
Софокла; таким образом, за свою долгую твор-
ческую жизнь (Софокл умер в 406 г.) поэт вы-
ступил перед афинскими зрителями свыше три-
дцати раз, одержав при этом двадцать четыре
победы и ни разу не оказавшись на третьем
(т. е. последнем) месте.
Хотя Софокл, по свидетельству современни-
ков, не отличался выдающимися политически-
ми способностями, он пользовался среди своих
сограждан уважением и почетом. В 443 г. его
избрали председателем коллегии, заведовавшей
поступлением взносов в союзную казну, а два
года спустя — одним из десяти стратегов.
В 411 г., после поражения афинян в Сицилии,
престарелый Софокл вошел в число так назы-
ваемых пробулов, избранных для пересмотра
существовавшей демократической конституции;
неизвестно, впрочем, имело ли его участие в
этой коллегии какое-нибудь политическое зна-
чение. Наконец, будучи глубоко религиозным
человеком, Софокл в течение многих лет испол-
нял обязанности жреца в местном культе атти-
ческого бога-целителя, а после смерти был ге-
роизирован под именем Дексиона.
Мировоззрение Софокла формировалось в де-
сятилетия, непосредственно следовавшие за по-
бедами при Марафоне и Саламине, в которых
сами их участники видели проявление божест-
венной благосклонности к Афинам. Выражен-
ное в «Персах» и «Евменидах» Эсхила глубокое
убеждение в том, что боги покровительствуют
афинскому государственному строю, целиком
разделялось Софоклом: его последняя трагедия,
«Эдип в Колоне», создание девяностолетнего
поэта, пережившего вместе со своим родным го-
родом многие трудности и испытания, звучит
все еще как вдохновенный гимн Афинам, осе-
ненным небесной благодатью и свято чтящим
своих богов.
Есть, однако, существенное различие между
религиозностью Эсхила и верой Софокла. Пер-
вый видел в судьбах своих героев действие не-
отвратимого закона справедливого возмездия, а
в божественной воле — высший нравственный
критерий. Софокл, напротив, не пытался объяс-
нить или обосновать волю божества каким-ни-
будь этическими соображениями; она неизмен-
но присутствует в мире его героев, более или
менее отчетливо различается позади всякого со-
бытия и в конечном счете торжествует, прояв-
ляясь в судьбе людей, но смысл божественного
управления миром скрыт от смертных.
Отказ от этического объяснения божествен-
ной воли, возрастающее внимание к отдельному
человеку, переставшему быть звеном в цепи со-
бытий, разыгрывающихся в роде на протяже-
нии нескольких поколений, определили драма-
тургические принципы Софокла. Он крайне
редко объединял три трагедии в связанные
единством замысла и сюжета трилогии и ввел
третьего актера. Это нововведение, еще слабо
используемое в ранних трагедиях, в дальней-
шем позволило не только усилить драматиче-
ское напряжение в развитии действия, но и обо-
гатить изображение внутреннего мира вовле-
ченных в него персонажей. Хотя Софокл увели-
чил также состав хора, доведя его до 15 участ-
ников, объем и роль хоровых партий в его тра-
гедиях существенно сократились по сравнению
с Эсхилом: чаще всего в них содержится реак-
ция на события, происходящие на орхестре, в
сочетании с краткими размышлениями на эти-
ческие темы. При этом нравственные нормы,
провозглашаемые хором, не всегда совпадают с
