Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

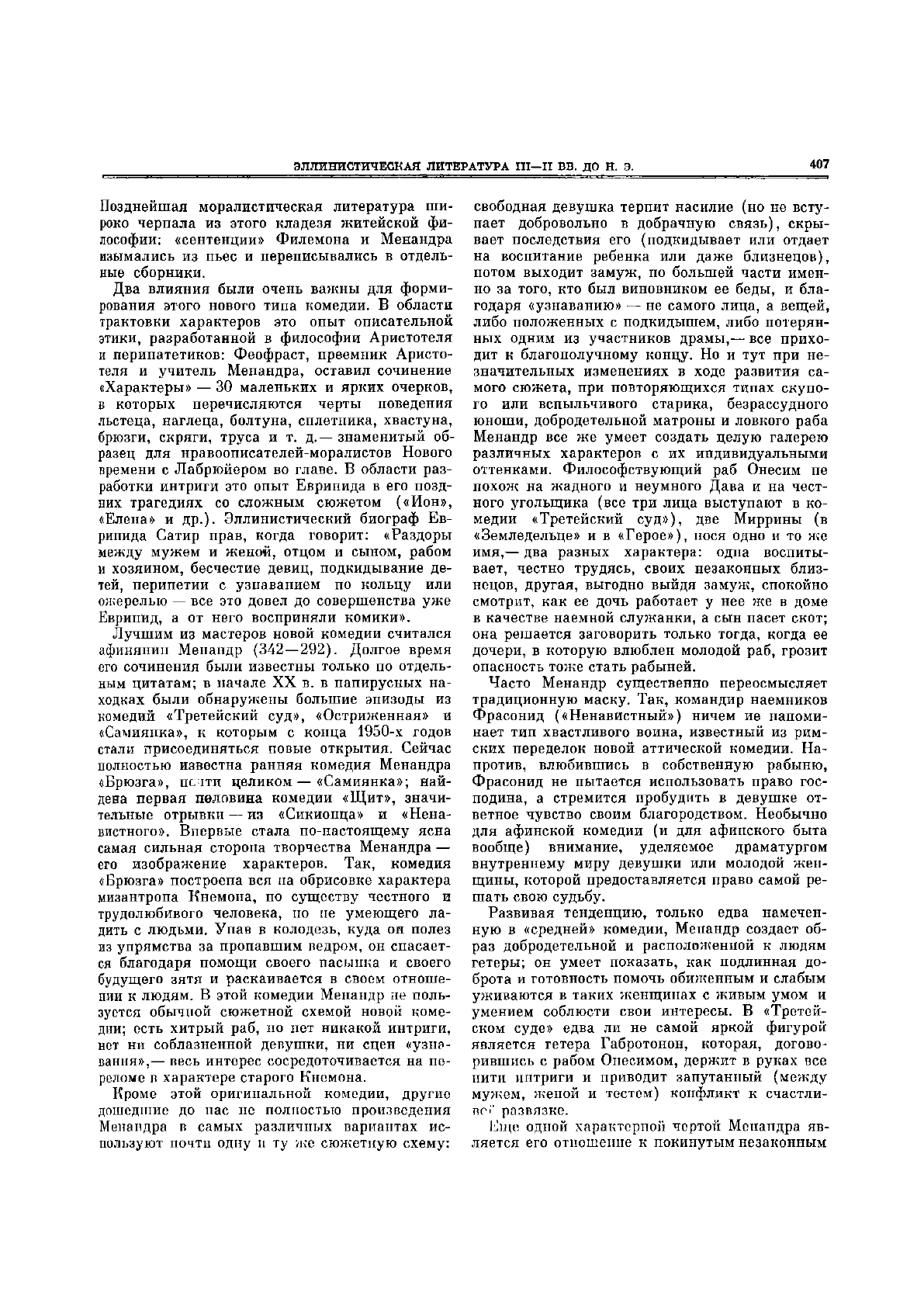
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
407
Позднейшая моралистическая литература ши-
роко черпала из этого кладезя житейской фи-
лософии: «сентенции» Филемона и Менандра
изымались из пьес и переписывались в отдель-
ные сборники.
Два влияния были очень важны для форми-
рования этого нового типа комедии. В области
трактовки характеров это опыт описательной
этики, разработанной в философии Аристотеля
и перипатетиков: Феофраст, преемник Аристо-
теля и учитель Менандра, оставил сочинение
«Характеры» — 30 маленьких и ярких очерков,
в которых перечисляются черты поведения
льстеца, наглеца, болтуна, сплетника, хвастуна,
брюзги, скряги, труса и т. д.— знаменитый об-
разец для нравоописателей-моралистов Нового
времени с Лабрюйером во главе. В области раз-
работки интриги это опыт Еврипида в его позд-
них трагедиях со сложным сюжетом («Ион»,
«Елена» и др.). Эллинистический биограф Ев-
рипида Сатир прав, когда говорит: «Раздоры
между мужем и женой, отцом и сыном, рабом
и хозяином, бесчестие девиц, подкидывание де-
тей, перипетии с узнаванием по кольцу или
ожерелью — все это довел до совершенства уже
Еврипид, а от него восприняли комики».
Лучшим из мастеров новой комедии считался
афинянин Менандр (342—292). Долгое время
его сочинения были известны только по отдель-
ным цитатам; в начале XX в. в папирусных на-
ходках были обнаружены большие эпизоды из
комедий «Третейский суд», «Остриженная» и
«Самиянка», к которым с конца 1950-х годов
стали присоединяться новые открытия. Сейчас
полностью известна ранняя комедия Менандра
«Брюзга», псчти целиком—«Самиянка»; най-
дена первая половина комедии «Щит», значи-
тельные отрывки — из «Сикиопца» и «Нена-
вистного». Впервые стала по-настоящему ясна
самая сильная сторона творчества Менандра —
его изображение характеров. Так, комедия
«Брюзга» построена вся на обрисовке характера
мизантропа Кнемоиа, по существу честного и
трудолюбивого человека, но не умеющего ла-
дить с людьми. Упав в колодезь, куда он полез
из упрямства за пропавшим ведром, он спасает-
ся благодаря помощи своего пасынка и своего
будущего зятя и раскаивается в своем отноше-
нии к людям. В этой комедии Менандр не поль-
зуется обычной сюжетной схемой новой коме-
дии; есть хитрый раб, но нет никакой интриги,
нет ни соблазненной девушки, ни сцен «узна-
вания»,— весь интерес сосредоточивается на пе-
реломе в характере старого Киомона.
Кроме этой оригинальной комедии, другие
дошедшие до нас не полностью произведения
Менандра в самых различных вариантах ис-
пользуют почти одну и ту же сюжетную схему:
свободная девушка терпит насилие (но не всту-
пает добровольно в добрачную связь), скры-
вает последствия его (подкидывает или отдает
на воспитание ребенка или даже близнецов),
потом выходит замуж, по большей части имен-
но за того, кто был виновником ее беды, и бла-
годаря «узнаванию» — не самого лица, а вещей,
либо положенных с подкидышем, либо потерян-
ных одним из участников драмы,— все прихо-
дит к благополучному концу. Но и тут при не-
значительных изменениях в ходе развития са-
мого сюжета, при повторяющихся типах скупо-
го или вспыльчивого старика, безрассудного
юноши, добродетельной матроны и ловкого раба
Менандр все же умеет создать целую галерею
различных характеров с их индивидуальными
оттенками. Философствующий раб Онесим пе
похож на я^адного и неумного Дава и на чест-
ного угольщика (все три лица выступают в ко-
медии «Третейский суд»), две Миррины (в
«Земледельце» и в «Герое»), нося одно и то же
имя,— два разных характера: одна воспиты-
вает, честно трудясь, своих незаконных близ-
нецов, другая, выгодно выйдя замуж, спокойно
смотрит, как ее дочь работает у нее же в доме
в качестве наемной служанки, а сын пасет скот;
она решается заговорить только тогда, когда ее
дочери, в которую влюблен молодой раб, грозит
опасность тоже стать рабыней.
Часто Менандр существенно переосмысляет
традиционную маску. Так, командир наемников
Фрасонид («Ненавистный») ничем ие напоми-
нает тип хвастливого воина, известный из рим-
ских переделок новой аттической комедии. На-
против, влюбившись в собственную рабыню,
Фрасонид не пытается использовать право гос-
подина, а стремится пробудить в девушке от-
ветное чувство своим благородством. Необычно
для афинской комедии (и для афинского быта
вообще) внимание, уделяемое драматургом
внутреннему миру девушки или молодой жен-
щины, которой предоставляется право самой ре-
шать свою судьбу.
Развивая тенденцию, только едва намечен-
ную в «средней» комедии, Менандр создает об-
раз добродетельной и располоя^енной к людям
гетеры; он умеет показать, как подлинная до-
брота и готовность помочь обиженным и слабым
уживаются в таких женщинах с живым умом и
умением соблюсти свои интересы. В «Третей-
ском суде» едва ли не самой яркой фигурой
является гетера Габротонон, которая, догово-
рившись с рабом Оиесимом, держит в руках все
нити интриги и приводит запутанный (между
мужем, женой и тестем) конфликт к счастли-
во'" развязке.
Еще одной характерной чертой Менандра яв-
ляется его отношение к покинутым незаконным
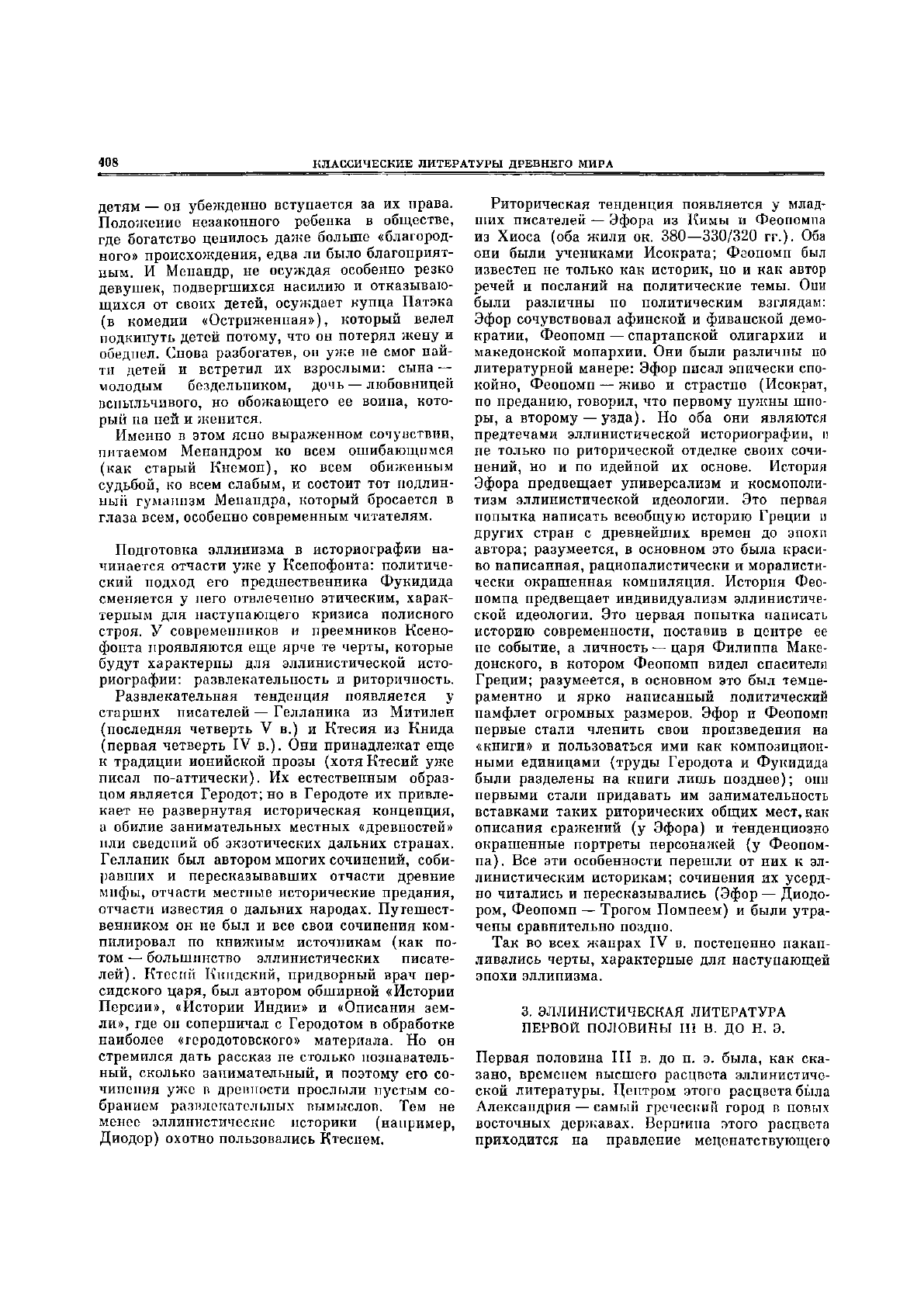
408
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
детям — он убежденно вступается за их права.
Положение незаконного ребенка в обществе,
где богатство ценилось даже больше «благород-
ного» происхождения, едва ли было благоприят-
ным. И Менандр, не осуждая особенно резко
девушек, подвергшихся насилию и отказываю-
щихся от своих детей, осуждает купца Патэка
(в комедии «Остриженная»), который велел
подкинуть детей потому, что он потерял жену и
обеднел. Снова разбогатев, он уже не смог най-
ти детей и встретил их взрослыми: сына —
молодым бездельником, дочь — любовницей
вспыльчивого, но обожающего ее воина, кото-
рый на ней и женится.
Именно в этом ясно выраженном сочувствии,
питаемом Менандром ко всем ошибающимся
(как старый Кнемои), ко всем обиженным
судьбой, ко всем слабым, и состоит тот подлин-
ный гуманизм Менандра, который бросается в
глаза всем, особенно современным читателям.
Подготовка эллинизма в историографии на-
чинается отчасти уже у Ксенофонта: политиче-
ский подход его предшественника Фукидида
сменяется у него отвлеченно этическим, харак-
терным для наступающего кризиса полисного
строя. У современников и преемников Ксено-
фонта проявляются еще ярче те черты, которые
будут характерны для эллинистической исто-
риографии: развлекательность и риторичность.
Развлекательная тенденция появляется у
старших писателей — Гелланика из Митилен
(последняя четверть V в.) и Ктесия из Книда
(первая четверть IV в.). Они принадлежат еще
к традиции ионийской прозы (хотя Ктесий уже
писал по-аттически). Их естественным образ-
цом является Геродот; но в Геродоте их привле-
кает не развернутая историческая концепция,
а обилие занимательных местных «древностей»
или сведений об экзотических дальних странах.
Гелланик был автором многих сочинений, соби-
равших и пересказывавших отчасти древние
мифы, отчасти местные исторические предания,
отчасти известия о дальних народах. Путешест-
венником он не был и все свои сочинения ком-
пилировал по книжным источникам (как по-
том — большинство эллинистических писате-
лей). Ктеспй Книдский, придворный врач пер-
сидского царя, был автором обширной «Истории
Персии», «Истории Индии» и «Описания зем-
ли», где ои соперничал с Геродотом в обработке
наиболее «геродотовского» материала. Но он
стремился дать рассказ не столько познаватель-
ный, сколько занимательный, и поэтому его со-
чинения уже в древности прослыли пустым со-
бранием развлекательных вымыслов. Тем не
менее эллинистические историки (например,
Диодор) охотно пользовались Ктесием,
Риторическая тенденция появляется у млад-
ших писателей — Эфора из Кимы и Феопомпа
из Хиоса (оба жили ок. 380—330/320 гг.). Оба
они были учениками Исократа; Феопомп был
известен не только как историк, но и как автор
речей и посланий на политические темы. Они
были различны по политическим взглядам:
Эфор сочувствовал афинской и фиванской демо-
кратии, Феопомп — спартанской олигархии и
македонской монархии. Они были различны по
литературной манере: Эфор писал эпически спо-
койно, Феопомп — живо и страстно (Исократ,
по преданию, говорил, что первому нужны шпо-
ры, а второму — узда). Но оба они являются
предтечами эллинистической историографии, и
не только по риторической отделке своих сочи-
нений, но и по идейной их основе. История
Эфора предвещает универсализм и космополи-
тизм эллинистической идеологии. Это первая
попытка написать всеобщую историю Греции и
других стран с древнейших времен до эпохи
автора; разумеется, в основном это была краси-
во написанная, рационалистически и моралисти-
чески окрашенная компиляция. История Фео-
помпа предвещает индивидуализм эллинистиче-
ской идеологии. Это первая попытка написать
историю современности, поставив в центре ее
не событие, а личность — царя Филиппа Маке-
донского, в котором Феопомп видел спасителя
Греции; разумеется, в основном это был темпе-
раментно и ярко написанный политический
памфлет огромных размеров. Эфор и Феопомп
первые стали членить свои произведения на
«книги» и пользоваться ими как композицион-
ными единицами (труды Геродота и Фукидида
были разделены на книги лишь позднее); они
первыми стали придавать им занимательность
вставками таких риторических общих мест, как
описания сражений (у Эфора) и тенденциозно
окрашенные портреты персонажей (у Феопом-
па). Все эти особенности перешли от них к эл-
линистическим историкам; сочинения их усерд-
но читались и пересказывались (Эфор — Диодо-
ром, Феопомп — Трогом Помпеем) и были утра-
чены сравнительно поздно.
Так во всех жанрах IV в. постепенно накап-
ливались черты, характерные для наступающей
эпохи эллинизма.
3. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ III В. ДО Н. Э.
Первая половина III в. до н. э. была, как ска-
зано, временем высшего расцвета эллинистиче-
ской литературы. Центром этого расцвета была
Александрия — самый греческий город в повых
восточных державах. Вершина этого расцвета
приходится на правление меценатствующего
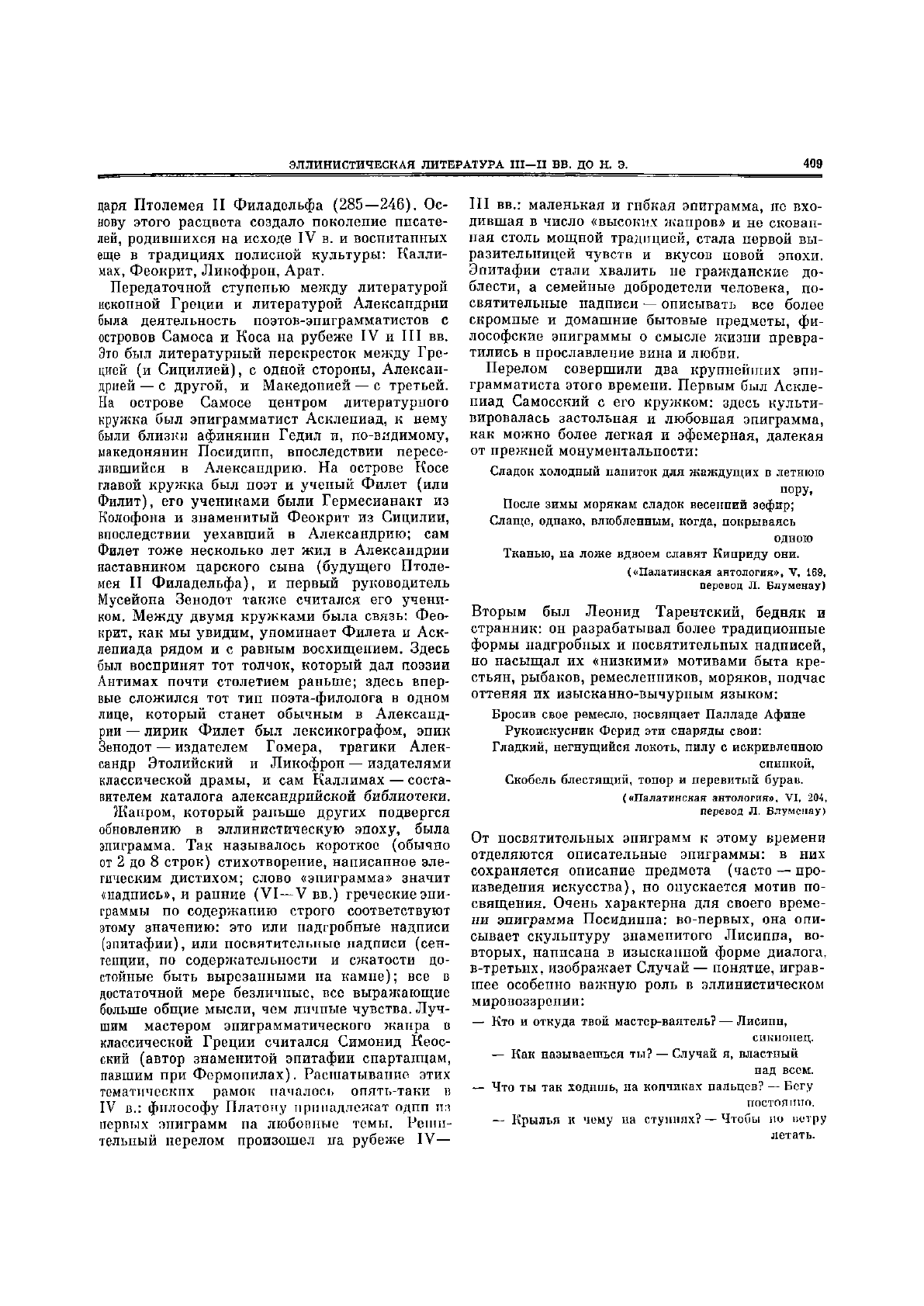
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
409
царя Птолемея II Филадельфа (285—246). Ос-
нову этого расцвета создало поколение писате-
лей, родившихся на исходе IV в. и воспитанных
еще в традициях полисной культуры: Калли-
мах, Феокрит, Ликофрон, Арат.
Передаточной ступенью между литературой
исконной Греции и литературой Александрии
была деятельность поэтов-эпиграмматистов с
островов Самоса и Коса на рубеже IV и III вв.
Это был литературный перекресток между Гре-
цией (и Сицилией), с одной стороны, Алексан-
дрией — с другой, и Македонией — с третьей.
На острове Самосе центром литературпого
кружка был эпиграмматист Асклепиад, к нему
были близки афинянин Гедил и, по-видимому,
македонянин Посидипп, впоследствии пересе-
лившийся в Александрию. На острове Косе
главой кружка был поэт и ученый Филет (или
Филит), его учениками были Гермесианакт из
Колофона и знаменитый Феокрит из Сицилии,
впоследствии уехавший в Александрию; сам
Филет тоже несколько лет жил в Александрии
наставником царского сына (будущего Птоле-
мея II Филадельфа), и первый руководитель
Мусейоиа Зенодот также считался его учени-
ком. Между двумя кружками была связь: Фео-
крит, как мы увидим, упоминает Филета и Аск-
лепиада рядом и с равным восхищением. Здесь
был воспринят тот толчок, который дал поэзии
Антимах почти столетием раньше; здесь впер-
вые сложился тот тип поэта-филолога в одном
лице, который станет обычным в Александ-
рии — лирик Филет был лексикографом, эпик
Зенодот — издателем Гомера, трагики Алек-
сандр Этолийский и Ликофрон — издателями
классической драмы, и сам Каллимах — соста-
вителем каталога александрийской библиотеки.
Жанром, который раньше других подвергся
обновлению в эллинистическую эпоху, была
эпиграмма. Так называлось короткое (обычно
от 2 до 8 строк) стихотворение, написанное эле-
гическим дистихом; слово «эпиграмма» значит
«надпись», и ранние (VI—V вв.) греческие эпи-
граммы по содержанию строго соответствуют
этому значению: это или надгробные надписи
(эпитафии), или посвятительные надписи (сен-
тенции, по содержательности и сжатости до-
стойные быть вырезанными на камне); все в
достаточной мере безличные, все выражающие
больше общие мысли, чем личные чувства. Луч-
шим мастером эпиграмматического жанра в
классической Греции считался Симонид Кеос-
ский (автор знаменитой эпитафии спартанцам,
павшим при Фермопилах). Расшатывание этих
тематических рамок началось опять-таки в
IV в.: философу Платону принадлежат одпп из
первых эпиграмм па любовные темы. Реши-
тельный перелом произошел на рубеже IV—
III вв.: маленькая и гибкая эпиграмма, не вхо-
дившая в число «высоких жанров» и не скован-
ная столь мощной традицией, стала первой вы-
разительницей чувств и вкусов новой эпохи.
Эпитафии стали хвалить не гражданские до-
блести, а семейные добродетели человека, по-
святительные надписи — описывать все более
скромпые и домашние бытовые предметы, фи-
лософские эпиграммы о смысле жизни превра-
тились в прославление вина и любви.
Перелом совершили два крупнейших эпи-
грамматиста этого времени. Первым был Аскле-
пиад Самосский с его кружком: здесь культи-
вировалась застольная и любовная эпиграмма,
как можно более легкая и эфемерная, далекая
от прежней монументальности:
Сладок холодный напиток для жаждущих в летнюю
пору,
После зимы морякам сладок весенний зефир;
Слаще, однако, влюбленным, когда, покрываясь
одною
Тканью, на ложе вдвоем славят Кинриду они.
(«Палатинская антология», V, 169,
перевод Л. Блуменау)
Вторым был Леонид Тарентский, бедняк и
странник: он разрабатывал более традиционные
формы надгробных и посвятительных надписей,
но насыщал их «низкими» мотивами быта кре-
стьян, рыбаков, ремесленников, моряков, подчас
оттеняя их изысканно-вычурным языком:
Бросив свое ремесло, посвящает Палладе Афине
Рукоискусник Ферид эти снаряды свои:
Гладкий, негнущийся локоть, пилу с искривленною
спипкой,
Скобель блестящий, топор и перевитый бурав.
(«Палатинская антология», VI, 204,
перевод Л. Блуменау)
От посвятительных эпиграмм к этому времени
отделяются описательные эпиграммы: в них
сохраняется описание предмета (часто — про-
изведения искусства), но опускается мотив по-
священия. Очень характерна для своего време-
ни эпиграмма Посидиппа: во-первых, она опи-
сывает скульптуру знаменитого Лисиппа, во-
вторых, написана в изысканной форме диалога,
в-третьих, изображает Случай — понятие, играв-
шее особенно важную роль в эллинистическом
мировоззрении:
— Кто и откуда твой мастер-ваятель? — Лисипн,
сикионец.
— Как называешься ты? — Случай я, властный
над всем.
— Что ты так ходишь, на копчиках пальцев? — Бегу
постоянно.
— Крылья к чему на ступнях? — Чтобы по ветру
летать.
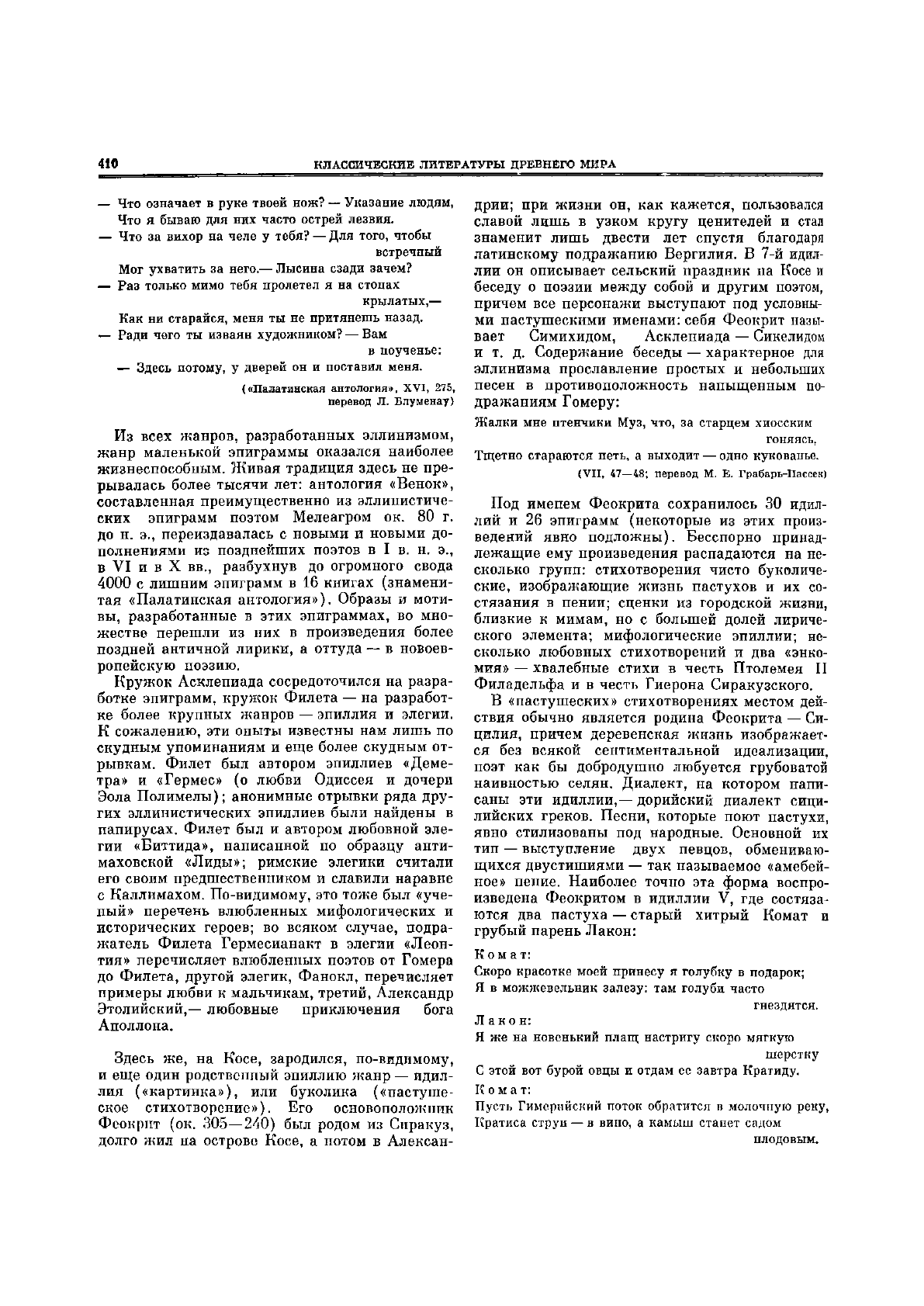
410
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
— Что означает в руке твоей нож? — Указание людям,
Что я бываю для них часто острей лезвия.
— Что за вихор на челе у тебя? — Для того, чтобы
встречный
Мог ухватить за него.— Лысина сзади зачем?
— Раз только мимо тебя пролетел я на стопах
крылатых,—
Как ни старайся, меня ты не притянешь назад.
— Ради чего ты изваян художником? — Вам
в поученье:
— Здесь потому, у дверей он и поставил меня.
(«Палатинская антология», XVI, 275,
перевод Л. Блуменау)
Из всех жанров, разработанных эллинизмом,
жанр маленькой эпиграммы оказался наиболее
жизнеспособным. Живая традиция здесь не пре-
рывалась более тысячи лет: антология «Венок»,
составленная преимущественно из эллинистиче-
ских эпиграмм поэтом Мелеагром ок. 80 г.
до н. э., переиздавалась с новыми и новыми до-
полнениями из позднейших поэтов в I в. н. э.,
в VI и в X вв., разбухнув до огромного свода
4000 с лишним эпиграмм в 16 книгах (знамени-
тая «Палатинская антология»). Образы и моти-
вы, разработанные в этих эпиграммах, во мно-
жестве перешли из них в произведения более
поздней античной лирики, а оттуда — в новоев-
ропейскую поэзию.
Кружок Асклепиада сосредоточился на разра-
ботке эпиграмм, кружок Филета — на разработ-
ке более крупных жанров — эпиллия и элегии.
К сожалению, эти опыты известны нам лишь по
скудным упоминаниям и еще более скудным от-
рывкам. Филет был автором эпиллиев «Деме-
тра» и «Гермес» (о любви Одиссея и дочери
Эола Пол имел ы); анонимные отрывки ряда дру-
гих эллинистических эпиллиев были найдены в
папирусах. Филет был и автором любовной эле-
гии «Биттида», написанной по образцу анти-
маховской «Лиды»; римские элегики считали
его своим предшественником и славили наравне
с Каллимахом. По-видимому, это тоже был «уче-
ный» перечень влюбленных мифологических и
исторических героев; во всяком случае, подра-
жатель Филета Гермесианакт в элегии «Леон-
тия» перечисляет влюбленных поэтов от Гомера
до Филета, другой элегик, Фанокл, перечисляет
примеры любви к мальчикам, третий, Александр
Этолийский,— любовные приключения бога
Аполлона.
Здесь же, на Косе, зародился, по-видимому,
и еще один родственный эпиллию жанр — идил-
лия («картинка»), или буколика («пастуше-
ское стихотворение»). Его основоположник
Феокрит (ок. 305—240) был родом из Сиракуз,
долго жил на острове Косе, а потом в Алексан-
дрии; при жизни он, как кажется, пользовался
славой лишь в узком кругу ценителей и стал
знаменит лишь двести лет спустя благодаря
латинскому подражанию Вергилия. В 7-й идил-
лии он описывает сельский праздник на Косе и
беседу о поэзии между собой и другим поэтом,
причем все персонажи выступают под условны-
ми пастушескими именами: себя Феокрит назы-
вает Симихидом, Асклепиада — Сикелидом
и т. д. Содержание беседы — характерное для
эллинизма прославление простых и небольших
песен в противоположность напыщенным по-
дражаниям Гомеру:
Жалки мне птенчики Муз, что, за старцем хиосским
гоняясь,
Тщетно стараются петь, а выходит — одно кукованье.
(VII, 47—48; перевод M. Е. Грабарь-Пассек)
Под именем Феокрита сохранилось 30 идил-
лий и 26 эпиграмм (некоторые из этих произ-
ведений явно подложны). Бесспорно принад-
лежащие ему произведения распадаются на не-
сколько групп: стихотворения чисто буколиче-
ские, изображающие жизнь пастухов и их со-
стязания в пении; сценки из городской жизни,
близкие к мимам, но с большей долей лириче-
ского элемента; мифологические эпиллии; не-
сколько любовных стихотворений и два «энко-
мия» — хвалебные стихи в честь Птолемея II
Филадельфа и в честь Гиерона Сиракузского.
В «пастушеских» стихотворениях местом дей-
ствия обычно является родина Феокрита — Си-
цилия, причем деревенская жизнь изображает-
ся без всякой сентиментальной идеализации,
поэт как бы добродушно любуется грубоватой
наивностью селян. Диалект, на котором напи-
саны эти идиллии,— дорийский диалект сици-
лийских греков. Песни, которые поют пастухи,
явно стилизованы под народные. Основной их
тип — выступление двух певцов, обмениваю-
щихся двустишиями — так называемое «амебей-
ное» пение. Наиболее точно эта форма воспро-
изведена Феокритом в идиллии V, где состяза-
ются два пастуха — старый хитрый Комат и
грубый парень Лакон:
Комат:
Скоро красотке моей принесу я голубку в подарок;
Я в можжевельник залезу: там голуби часто
гнездятся.
Лакон:
Я же на новенький плащ настригу скоро мягкую
шерстку
С этой вот бурой овцы и отдам ее завтра Кратиду.
Комат:
Пусть Гимерийский поток обратится в молочную реку,
Кратиса струи — в вино, а камыш станет садом
плодовым.
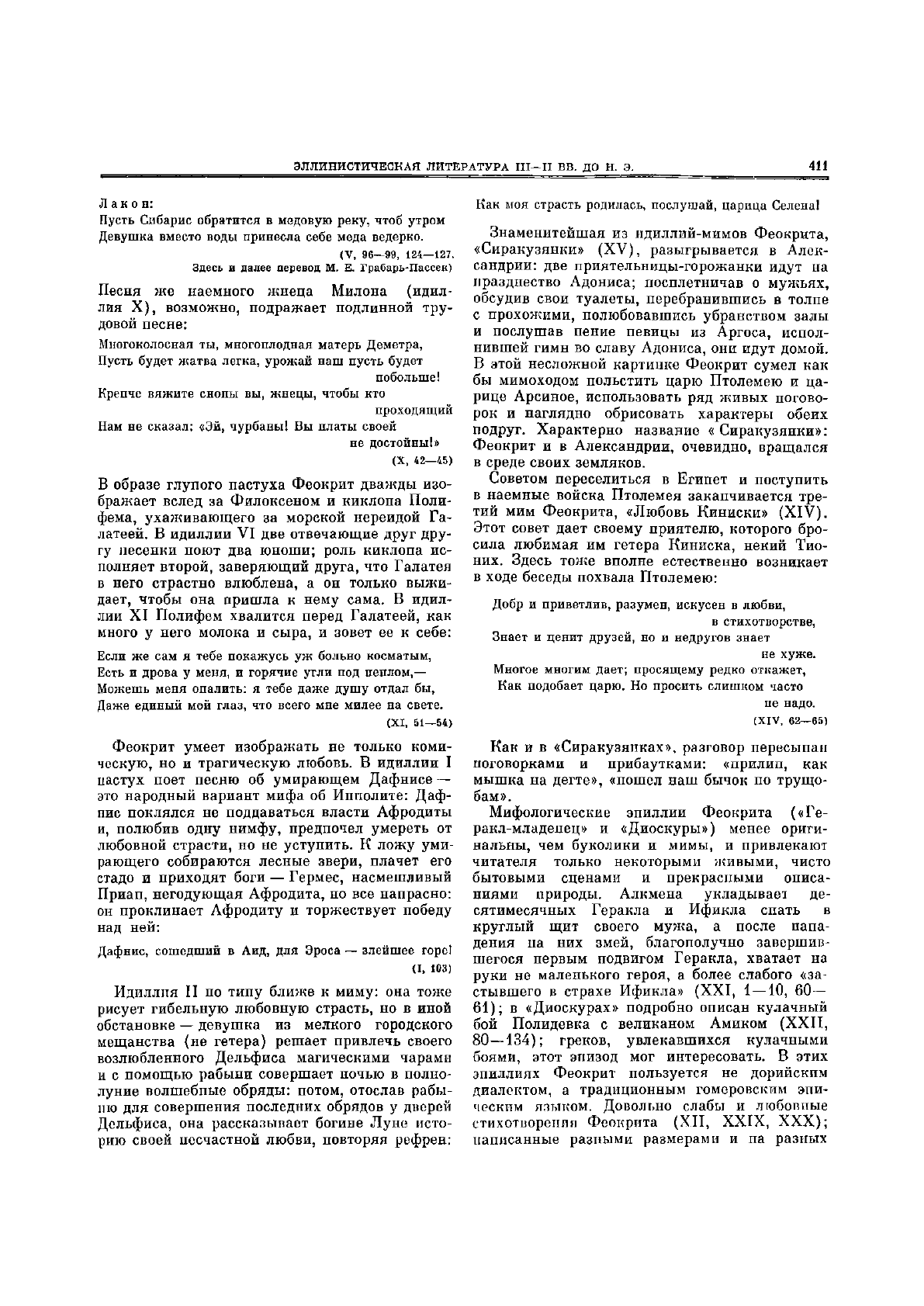
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
411
Лакон:
Пусть Сибарис обратится в медовую реку, чтоб утром
Девушка вместо воды принесла себе меда ведерко.
(V, 96—99, 124—127.
Здесь и далее перевод М. Е. Грабарь-Пассек)
Песня же наемного жнеца Милона (идил-
лия X), возможно, подражает подлинной тру-
довой песне:
Многоколосная ты, многоплодная матерь Деметра,
Пусть будет жатва легка, урожай наш пусть будет
побольше!
Крепче вяжите снопы вы, жнецы, чтобы кто
проходящий
Нам не сказал: «Эй, чурбаны! Вы платы своей
не достойны!»
(X, 42—45)
В образе глупого пастуха Феокрит дважды изо-
бражает вслед за Филоксеном и киклопа Поли-
фема, ухаживающего за морской нереидой Га-
латеей. В идиллии VI две отвечающие друг дру-
гу песенки поют два юноши; роль киклопа ис-
полняет второй, заверяющий друга, что Галатея
в него страстно влюблена, а он только выжи-
дает, чтобы она пришла к нему сама. В идил-
лии XI Полифем хвалится перед Галатеей, как
много у него молока и сыра, и зовет ее к себе:
Если же сам я тебе покажусь уж больно косматым,
Есть и дрова у меня, и горячие угли под пеплом,—
Можешь меня опалить: я тебе даже душу отдал бы,
Даже единый мой глаз, что всего мне милее на свете.
(XI, 51—54)
Феокрит умеет изображать не только коми-
ческую, но и трагическую любовь. В идиллии I
настух поет песню об умирающем Дафнисе —
это народный вариант мифа об Ипполите: Даф-
нис поклялся не поддаваться власти Афродиты
и, полюбив одну нимфу, предпочел умереть от
любовной страсти, но не уступить. К ложу уми-
рающего собираются лесные звери, плачет его
стадо и приходят боги — Гермес, насмешливый
Приап, негодующая Афродита, но все напрасно:
он проклинает Афродиту и торжествует победу
над ней:
Дафнис, сошедший в Аид, для Эроса — злейшее горе!
(I, ЮЗ)
Идиллия II по типу ближе к миму: она тоже
рисует гибельную любовную страсть, но в иной
обстановке — девушка из мелкого городского
мещанства (не гетера) решает привлечь своего
возлюбленного Дельфиса магическими чарами
и с помощью рабыни совершает ночью в полно-
луние волшебные обряды: потом, отослав рабы-
ню для совершения последних обрядов у дверей
Дельфиса, она рассказывает богине Луне исто-
рию своей несчастной любви, повторяя рефрен:
Как моя страсть родилась, послушай, царица Селена!
Знаменитейшая из идиллий-мимов Феокрита,
«Сиракузянки» (XV), разыгрывается в Алек-
сандрии: две приятельницы-горожанки идут на
празднество Адониса; посплетничав о мужьях,
обсудив свои туалеты, перебранившись в толпе
с прохожими, полюбовавшись убранством залы
и послушав пение певицы из Аргоса, испол-
нившей гимн во славу Адониса, они идут домой.
В этой несложной картинке Феокрит сумел как
бы мимоходом польстить царю Птолемею и ца-
рице Арсиное, использовать ряд живых погово-
рок и наглядно обрисовать характеры обеих
подруг. Характерно название « Сиракузянки»:
Феокрит и в Александрии, очевидно, вращался
в среде своих земляков.
Советом переселиться в Египет и поступить
в наемные войска Птолемея закапчивается тре-
тий мим Феокрита, «Любовь Киниски» (XIV).
Этот совет дает своему приятелю, которого бро-
сила любимая им гетера Киниска, некий Тио-
них. Здесь тоже вполне естественно возникает
в ходе беседы похвала Птолемею:
Добр и приветлив, разумен, искусен в любви,
в стихотворстве,
Знает и ценит друзей, но и недругов знает
не хуже.
Многое многим дает; просящему редко откажет,
Как подобает царю. Но просить слишком часто
не надо.
(XIV, 62—65)
Как и в «Сиракузяпках», разговор пересыпай
поговорками и прибаутками: «прилип, как
мышка на дегте», «пошел наш бычок по трущо-
бам».
Мифологические эпиллии Феокрита («Ге-
ракл-младенец» и «Диоскуры») менее ориги-
нальны, чем буколики и мимы, и привлекают
читателя только некоторыми живыми, чисто
бытовыми сценами и прекрасными описа-
ниями природы. Алкмена укладывает де-
сятимесячных Геракла и Ификла спать в
круглый щит своего мужа, а после напа-
дения на них змей, благополучно завершив-
шегося первым подвигом Геракла, хватает на
руки не маленького героя, а более слабого «за-
стывшего в страхе Ификла» (XXI, 1—10, 60—
61); в «Диоскурах» подробно описан кулачный
бой Полидевка с великаном Амиком (XXII,
80—134); греков, увлекавшихся кулачными
боями, этот эпизод мог интересовать. В этих
эпиллиях Феокрит пользуется не дорийским
диалектом, а традиционным гомеровским эпи-
ческим языком. Довольно слабы и любовные
стихотворения Феокрита (XII, XXIX, XXX);
написанные разными размерами и на разных
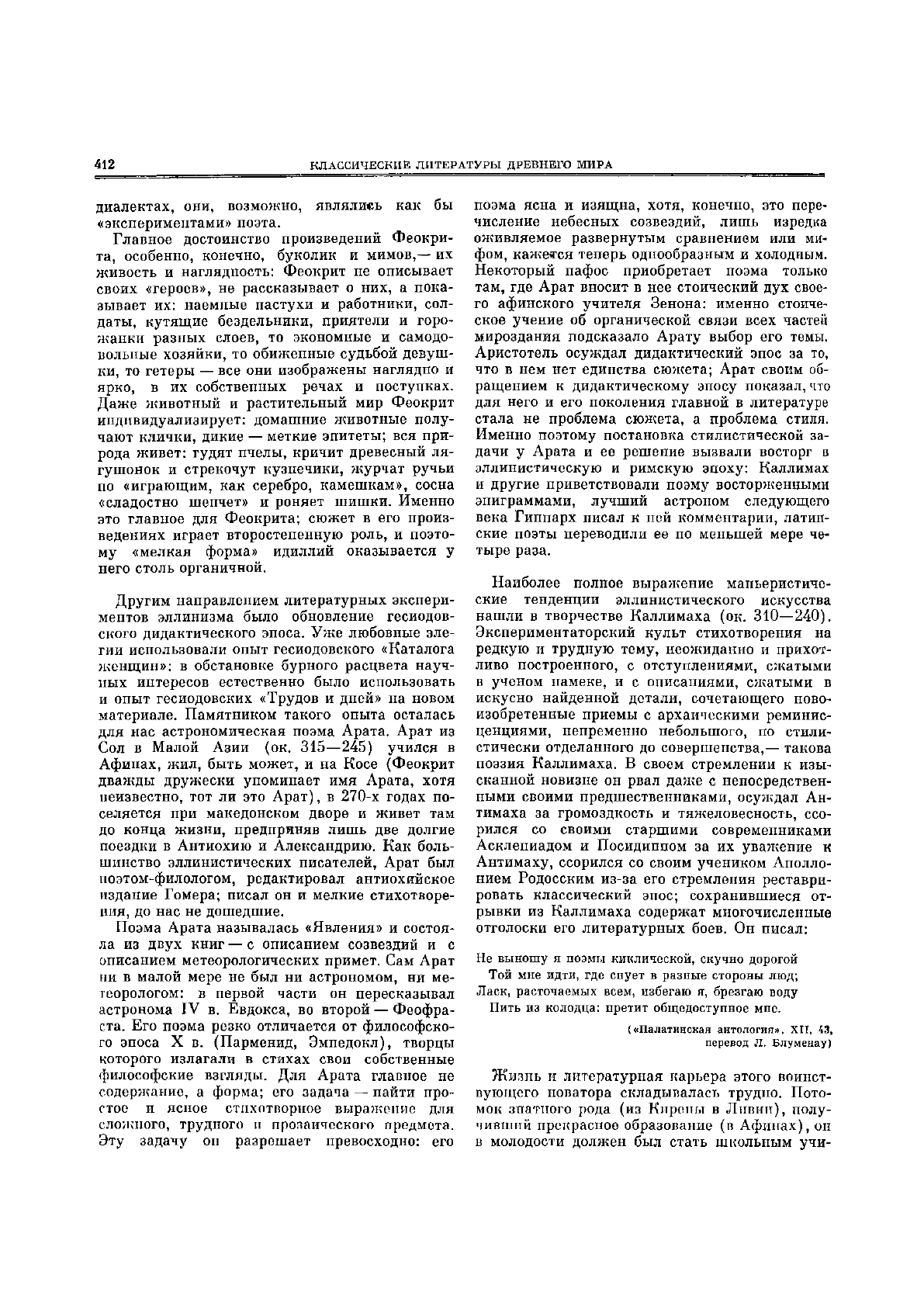
412 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
диалектах, они, возможно, являлись как бы
«экспериментами» поэта.
Главное достоинство произведений Феокри-
та, особенно, конечно, буколик и мимов,— их
лшвость и наглядность: Феокрит не описывает
своих «героев», не рассказывает о них, а пока-
зывает их: наемные пастухи и работники, сол-
даты, кутящие бездельники, приятели и горо-
жанки разных слоев, то экономные и самодо-
вольные хозяйки, то обиженные судьбой девуш-
ки, то гетеры — все они изображены наглядно и
ярко, в их собственных речах и поступках.
Даже животный и растительный мир Феокрит
индивидуализирует: домашние яшвотные полу-
чают клички, дикие — меткие эпитеты; вся при-
рода живет: гудят пчелы, кричит древесный ля-
гушонок и стрекочут кузнечики, журчат ручьи
по «играющим, как серебро, камешкам», сосна
«сладостно шепчет» и роняет шишки. Именно
это главное для Феокрита; сюжет в его произ-
ведениях играет второстепенную роль, и поэто-
му «мелкая форма» идиллий оказывается у
него столь органичной.
Другим направлением литературных экспери-
ментов эллинизма было обновление гесиодов-
ского дидактического эпоса. Уже любовные эле-
гии использовали опыт гесиодовского «Каталога
женщин»: в обстановке бурного расцвета науч-
ных интересов естественно было использовать
и опыт гесиодовских «Трудов и дней» на новом
материале. Памятником такого опыта осталась
для нас астрономическая поэма Арата. Арат из
Сол в Малой Азии (ок. 315—245) учился в
Афинах, жил, быть может, и на Косе (Феокрит
дважды дружески упоминает имя Арата, хотя
неизвестно, тот ли это Арат), в 270-х годах по-
селяется при македонском дворе и живет там
до конца жизни, предприняв лишь две долгие
поездки в Антиохию и Александрию. Как боль-
шинство эллинистических писателей, Арат был
поэтом-филологом, редактировал антиохийское
издание Гомера; писал он и мелкие стихотворе-
ния, до нас не дошедшие.
Поэма Арата называлась «Явления» и состоя-
ла из двух книг — с описанием созвездий и с
описанием метеорологических примет. Сам Арат
ни в малой мере не был ни астрономом, ни ме-
теорологом: в первой части он пересказывал
астронома IV в. Евдокса, во второй — Феофра-
ста. Его поэма резко отличается от философско-
го эпоса X в. (Парменид, Эмпедокл), творцы
которого излагали в стихах свои собственные
философские взгляды. Для Арата главное не
содержание, а форма; его задача — пайти про-
стое и ясное стихотворное выражение для
сложного, трудного и прозаического предмета.
Эту задачу он разрешает превосходно: его
поэма ясна и изящна, хотя, конечно, это пере-
числение небесных созвездий, лишь изредка
оживляемое развернутым сравнением или ми-
фом, кажемся теперь однообразным и холодным.
Некоторый пафос приобретает поэма только
там, где Арат вносит в нее стоический дух свое-
го афинского учителя Зенона: именно стоиче-
ское учение об органической связи всех частей
мироздания подсказало Арату выбор его темы.
Аристотель осуждал дидактический эпос за то,
что в нем нет единства сюжета; Арат своим об-
ращением к дидактическому эпосу показал, что
для него и его поколения главной в литературе
стала не проблема скшета, а проблема стиля.
Именно поэтому постановка стилистической за-
дачи у Арата и ее решение вызвали восторг в
эллинистическую и римскую эпоху: Каллимах
и другие приветствовали поэму восторженными
эпиграммами, лучший астроном следующего
века Гиппарх писал к ней комментарии, латин-
ские поэты переводили ее по меньшей мере че-
тыре раза.
Наиболее полное выражение маньеристиче-
ские тенденции эллинистического искусства
нашли в творчестве Каллимаха (ок. 310—240).
Экспериментаторский культ стихотворения на
редкую и трудную тему, неожиданно и прихот-
ливо построенного, с отступлениями, сжатыми
в ученом намеке, и с описаниями, сжатыми в
искусно найденной детали, сочетающего ново-
изобретенные приемы с архаическими реминис-
ценциями, непременно небольшого, по стили-
стически отделанного до совершенства,— такова
поэзия Каллимаха. В своем стремлении к изы-
сканной новизне он рвал даже с непосредствен-
ными своими предшественниками, осуждал Ан-
тимаха за громоздкость и тяжеловесность, ссо-
рился со своими старшими современниками
Асклепиадом и Посидиппом за их уважение к
Антимаху, ссорился со своим учеником Аполло-
нием Родосским из-за его стремления реставри-
ровать классический эпос; сохранившиеся от-
рывки из Каллимаха содержат многочисленные
отголоски его литературных боев. Он писал:
Не выношу я поэмы киклической, скучно дорогой
Той мне идти, где снует в разные стороны люд;
Ласк, расточаемых всем, избегаю я, брезгаю воду
Пить из колодца: претит общедоступное мне.
(«Палатинская антология», XII, 43,
перевод Л. Блуменау)
Жизнь и литературная карьера этого воинст-
вующего новатора складывалась трудно. Пото-
мок знатного рода (из Кирепы в Ливии), полу-
чивший прекрасное образование (в Афинах), он
в молодости должен был стать школьным учи-
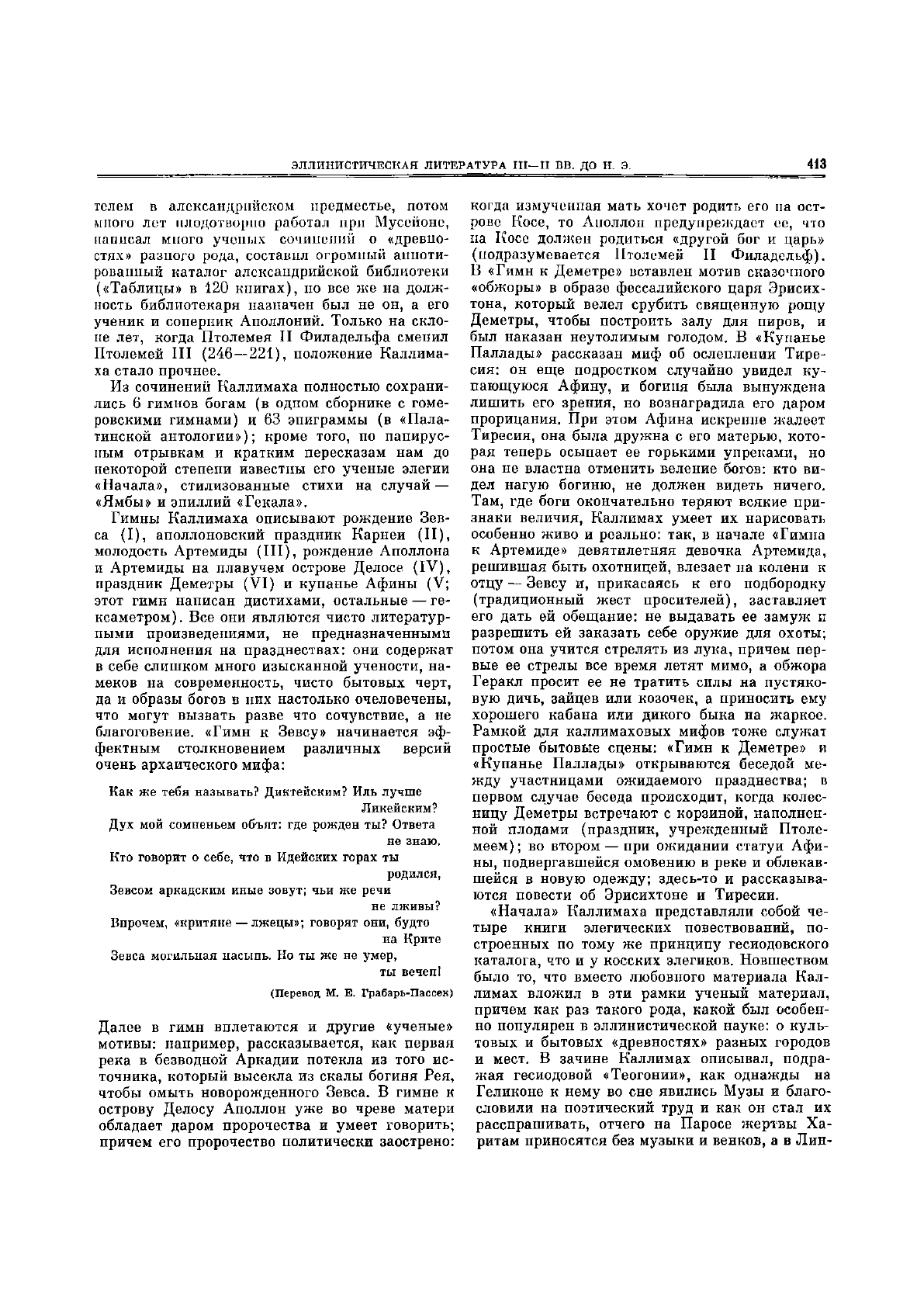
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
413
тслем в александрийском предместье, потом
много лет плодотворно работал при Мусейоне,
иаиисал много ученых сочинений о «древно-
стях» разного рода, составил огромный анноти-
рованный каталог александрийской библиотеки
(«Таблицы» в 120 книгах), но все же на долж-
ность библиотекаря назначен был не он, а его
ученик и соперник Аполлоний. Только на скло-
не лет, когда Птолемея II Филадельфа смеиил
Птолемей III (246—221), положение Каллима-
ха стало прочнее.
Из сочинений Каллимаха полностью сохрани-
лись 6 гимнов богам (в одном сборнике с гоме-
ровскими гимнами) и 63 эпиграммы (в «Пала-
тинской антологии»); кроме того, по папирус-
ным отрывкам и кратким пересказам нам до
некоторой степени известны его ученые элегии
«Начала», стилизованные стихи на случай —
«Ямбы» и эпиллий «Гекала».
Гимны Каллимаха описывают рождение Зев-
са (I), аполлоновский праздник Карнеи (II),
молодость Артемиды (III), рождение Аполлона
и Артемиды на плавучем острове Делосе (IV),
праздник Деметры (VI) и купанье Афины (V;
этот гимн написан дистихами, остальные — ге-
ксаметром). Все они являются чисто литератур-
ными произведениями, не предназначенными
для исполнения на празднествах: они содержат
в себе слишком много изысканной учености, на-
меков на современность, чисто бытовых черт,
да и образы богов в них настолько очеловечены,
что могут вызвать разве что сочувствие, а не
благоговение. «Гимн к Зевсу» начинается эф-
фектным столкновением различных версий
очень архаического мифа:
Как же тебя называть? Диктейским? Иль лучше
Ликейским?
Дух мой сомпеньем объят: где рожден ты? Ответа
не знаю.
Кто говорит о себе, что в Идейских горах ты
родился,
Зевсом аркадским иные зовут; чьи же речи
не лживы?
Впрочем, «критяне — лжецы»; говорят они, будто
на Крите
Зевса могильная насыпь. Но ты же не умер,
ты вечеп!
(Перевод M. Е. Грабарь-Пассек)
Далее в гимн вплетаются и другие «ученые»
мотивы: например, рассказывается, как первая
река в безводной Аркадии потекла из того ис-
точника, который высекла из скалы богиня Рея,
чтобы омыть новорожденного Зевса. В гимне к
острову Делосу Аполлон уже во чреве матери
обладает даром пророчества и умеет говорить;
причем его пророчество политически заострено:
когда измученная мать хочет родить его па ост-
рове Косе, то Аполлон предупреждает ос, что
иа Косе должен родиться «другой бог и царь»
(подразумевается Птолемей II Филадельф).
В «Гимн к Деметре» вставлен мотив сказочного
«обжоры» в образе фессалийского царя Эрисих-
тона, который велел срубить священную рощу
Деметры, чтобы построить залу для пиров, и
был наказан неутолимым голодом. В «Купанье
Паллады» рассказан миф об ослеплении Тире-
сия: он еще подростком случайно увидел ку-
пающуюся Афину, и богиня была вынуждена
лишить его зрения, но вознаградила его даром
прорицания. При этом Афина искренне жалеет
Тиресия, она была дружна с его матерью, кото-
рая теперь осыпает ее горькими упреками, но
она не властна отменить веление богов: кто ви-
дел нагую богиню, не должен видеть ничего.
Там, где боги окончательно теряют всякие при-
знаки величия, Каллимах умеет их нарисовать
особенно живо и реально: так, в начале «Гимна
к Артемиде» девятилетняя девочка Артемида,
решившая быть охотницей, влезает на колени к
отцу — Зевсу и, прикасаясь к его подбородку
(традиционный жест просителей), заставляет
его дать ей обещание: не выдавать ее замуж и
разрешить ей заказать себе оружие для охоты;
потом она учится стрелять из лука, причем пер-
вые ее стрелы все время летят мимо, а обжора
Геракл просит ее не тратить силы на пустяко-
вую дичь, зайцев или козочек, а приносить ему
хорошего кабана или дикого быка на жаркое.
Рамкой для каллимаховых мифов тоже служат
простые бытовые сцены: «Гимн к Деметре» и
«Купанье Паллады» открываются беседой ме-
жду участницами ожидаемого празднества; в
первом случае беседа происходит, когда колес-
ницу Деметры встречают с корзиной, наполнен-
ной плодами (праздник, учрежденный Птоле-
меем); во втором — при ожидании статуи Афи-
ны, подвергавшейся омовению в реке и облекав-
шейся в новую одежду; здесь-то и рассказыва-
ются повести об Эрисихтоне и Тиресии.
«Начала» Каллимаха представляли собой че-
тыре книги элегических повествований, по-
строенных по тому же принципу гесиодовского
каталога, что и у косских элегиков. Новшеством
было то, что вместо любовного материала Кал-
лимах вложил в эти рамки ученый материал,
причем как раз такого рода, какой был особен-
но популярен в эллинистической науке: о куль-
товых и бытовых «древностях» разных городов
и мест. В зачине Каллимах описывал, подра-
жая гесиодовой «Теогонии», как однажды на
Геликоне к нему во сне явились Музы и благо-
словили на поэтический труд и как он стал их
расспрашивать, отчего на Паросе жертвы Ха-
ритам приносятся без музыки и венков, а в Лин-
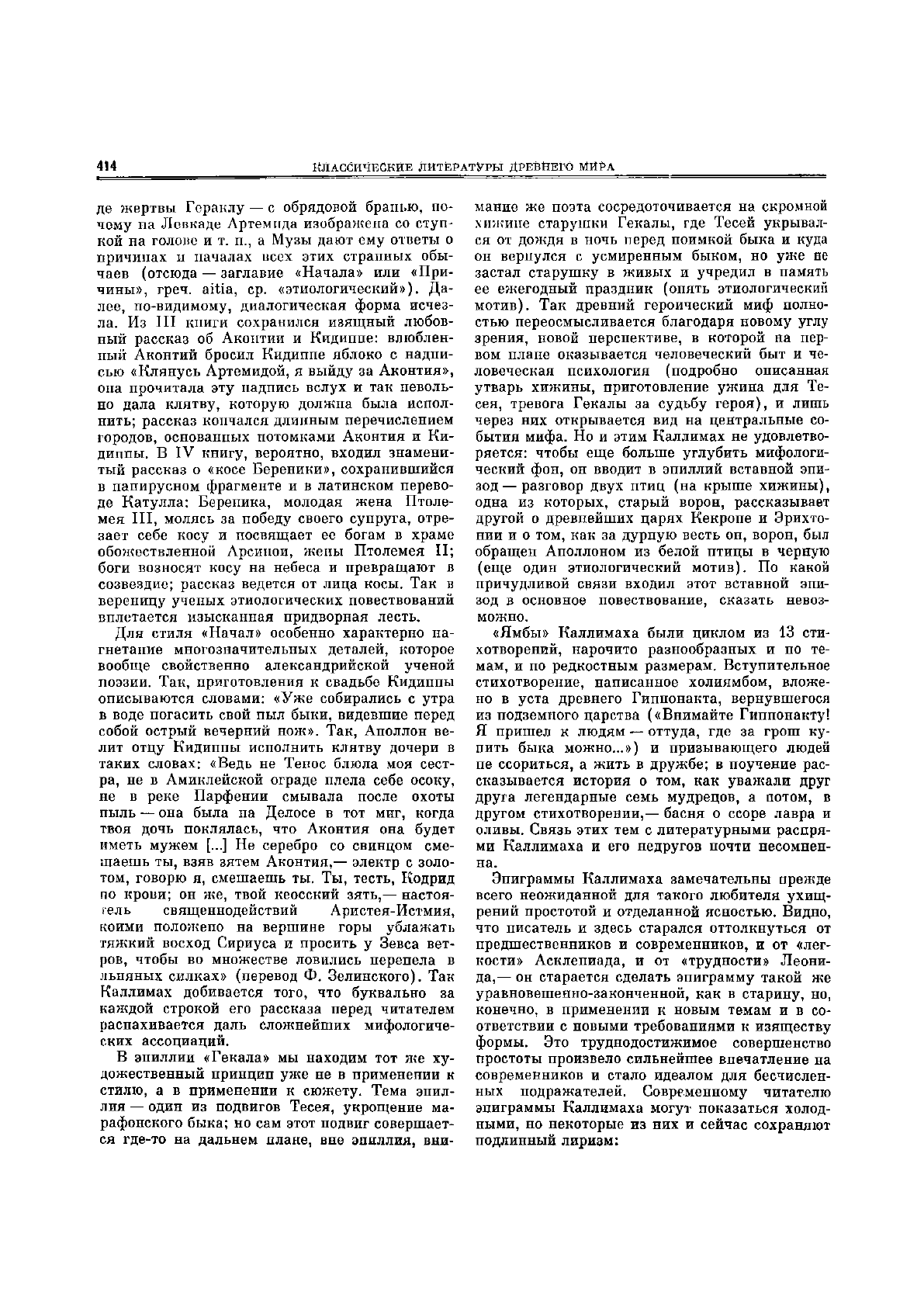
414
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВЙЕГО МЙ*>А
де жертвы Гераклу — с обрядовой бранью, по-
чему па Левкаде Артемида изображена со ступ-
кой на голове и т. п., а Музы дают ему ответы о
причинах и началах всех этих странных обы-
чаев (отсюда — заглавие «Начала» или «При-
чины», греч. aitia, ср. «этиологический»). Да-
лее, по-видимому, диалогическая форма исчез-
ла. Из III книги сохранился изящный любов-
ный рассказ об Аконтии и Кидиппе: влюблен-
ный Аконтий бросил Кидиппе яблоко с надпи-
сью «Клянусь Артемидой, я выйду за Аконтия»,
она прочитала эту надпись вслух и так неволь-
но дала клятву, которую должна была испол-
нить; рассказ кончался длинным перечислением
городов, основанных потомками Акоптия и Ки-
диппы. В IV книгу, вероятно, входил знамени-
тый рассказ о «косе Береники», сохранившийся
в папирусном фрагменте и в латинском перево-
де Катулла: Береника, молодая жена Птоле-
мея III, молясь за победу своего супруга, отре-
зает себе косу и посвящает ее богам в храме
обожествленной Арсинои, жены Птолемея II;
боги возносят косу на небеса и превращают в
созвездие; рассказ ведется от лица косы. Так в
вереницу ученых этиологических повествований
вплетается изысканная придворная лесть.
Для стиля «Начал» особенно характерно на-
гнетание многозначительных деталей, которое
вообще свойственно александрийской ученой
поэзии. Так, приготовления к свадьбе Кидиппы
описываются словами: «Уже собирались с утра
в воде погасить свой пыл быки, видевшие перед
собой острый вечерний нож». Так, Аполлон ве-
лит отцу Кидиппы исполнить клятву дочери в
таких словах: «Ведь не Тенос блюла моя сест-
ра, не в Амиклейской ограде плела себе осоку,
не в реке Парфении смывала после охоты
пыль — она была на Делосе в тот миг, когда
твоя дочь поклялась, что Аконтия она будет
иметь мужем [...] Не серебро со свинцом сме-
шаешь ты, взяв зятем Аконтия,— электр с золо-
том, говорю я, смешаешь ты. Ты, тесть, Кодрид
по крови; он же, твой кеосский зять,— настоя-
тель священнодействий Аристея-Истмия,
коими положено на вершине горы ублажать
тяжкий восход Сириуса и просить у Зевса вет-
ров, чтобы во множестве ловились перепела в
льняных силках» (перевод Ф. Зелинского). Так
Каллимах добивается того, что буквально за
каждой строкой его рассказа перед читателем
распахивается даль сложнейших мифологиче-
ских ассоциаций.
В эпиллии «Гекала» мы находим тот же ху-
дожественный принцип уже не в применении к
стилю, а в применении к сюжету. Тема эпил-
лия — один из подвигов Тесея, укрощение ма-
рафонского быка; но сам этот подвиг совершает-
ся где-то на дальнем плане, вне эпиллия, вни-
мание же поэта сосредоточивается на скромной
хижине старушки Гекалы, где Тесей укрывал-
ся от дождя в ночь перед поимкой быка и куда
он вернулся с усмиренным быком, но уже не
застал старушку в живых и учредил в память
ее ежегодный праздник (опять этиологический
мотив). Так древний героический миф полно-
стью переосмысливается благодаря новому углу
зрения, повой перспективе, в которой на пер-
вом плане оказывается человеческий быт и че-
ловеческая психология (подробно описанная
утварь хижины, приготовление ужина для Те-
сея, тревога Гекалы за судьбу героя), и лишь
через них открывается вид на центральные со-
бытия мифа. Но и этим Каллимах не удовлетво-
ряется: чтобы еще больше углубить мифологи-
ческий фон, он вводит в эпиллий вставной эпи-
зод— разговор двух птиц (на крыше хижины),
одна из которых, старый ворон, рассказывает
другой о древнейших царях Кекропе и Эрихто-
нии и о том, как за дурную весть он, ворон, был
обращен Аполлоном из белой птицы в черную
(еще один этиологический мотив). По какой
причудливой связи входил этот вставной эпи-
зод в основное повествование, сказать невоз-
можно.
«Ямбы» Каллимаха были циклом из 13 сти-
хотворений, нарочито разнообразных и по те-
мам, и по редкостным размерам. Вступительное
стихотворение, написанное холиямбом, вложе-
но в уста древнего Гиппонакта, вернувшегося
из подземного царства («Внимайте Гиппонакту!
Я пришел к людям — оттуда, где за грош ку-
пить быка можно...») и призывающего людей
пе ссориться, а жить в дружбе; в поучение рас-
сказывается история о том, как уважали друг
друга легендарные семь мудрецов, а потом, в
другом стихотворении,— басня о ссоре лавра и
оливы. Связь этих тем с литературными распря-
ми Каллимаха и его недругов почти несомнен-
на.
Эпиграммы Каллимаха замечательны прежде
всего неожиданной для такого любителя ухищ-
рений простотой и отделанной ясностью. Видно,
что писатель и здесь старался оттолкнуться от
предшественников и современников, и от «лег-
кости» Асклепиада, и от «трудности» Леони-
да,— он старается сделать эпиграмму такой же
уравновешенно-законченной, как в старину, но,
конечно, в применении к новым темам и в со-
ответствии с новыми требованиями к изяществу
формы. Это труднодостижимое совершенство
простоты произвело сильнейшее впечатление на
современников и стало идеалом для бесчислен-
ных подражателей. Современному читателю
эпиграммы Каллимаха могут показаться холод-
ными, но некоторые из них и сейчас сохраняют
подлинный лиризм;
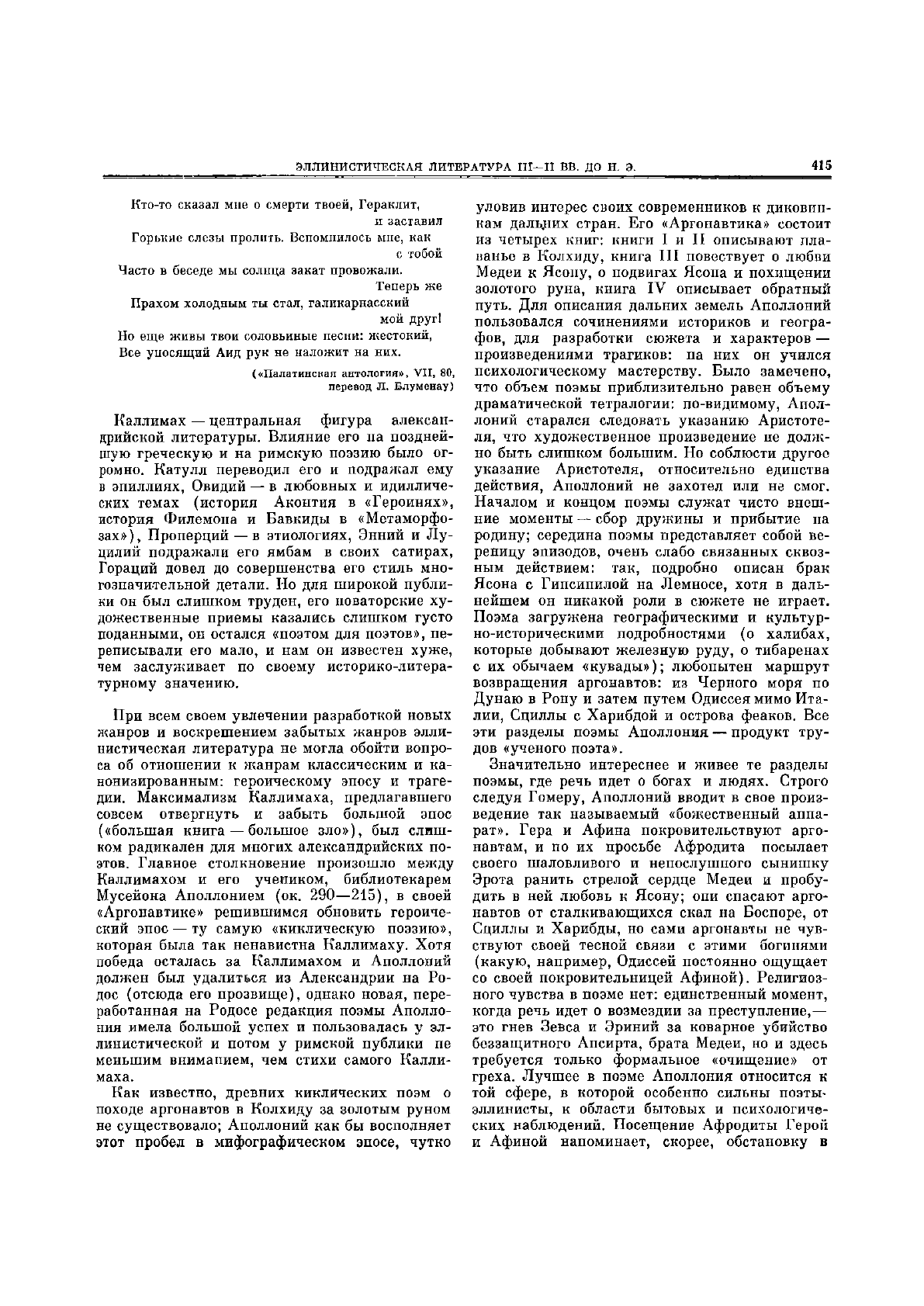
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
415
Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит,
и заставил
Горькие слезы пролить. Вспомнилось мне, как
с тобой
Часто в беседе мы солнца закат провожали.
Теперь же
Прахом холодным ты стал, галикарнасский
мой друг!
Но еще живы твои соловьиные песни: жестокий,
Все уносящий Аид рук не наложит на них.
(«Палатинская антология», VII, 80,
перевод Л. Блуменау)
Каллимах — центральная фигура алексан-
дрийской литературы. Влияние его на поздней-
шую греческую и на римскую поэзию было ог-
ромно. Катулл переводил его и подражал ему
в эпиллиях, Овидий — в любовных и идилличе-
ских темах (история Аконтия в «Героинях»,
история Филемона и Бавкиды в «Метаморфо-
зах»), Проперций — в этиологиях, Энний и Jly-
цилий подражали его ямбам в своих сатирах,
Гораций довел до совершенства его стиль мно-
гозначительной детали. Но для широкой публи-
ки он был слишком труден, его новаторские ху-
дожественные приемы казались слишком густо
поданными, он остался «поэтом для поэтов», пе-
реписывали его мало, и нам он известен хуже,
чем заслуживает по своему историко-литера-
турному значению.
При всем своем увлечении разработкой новых
жанров и воскрешением забытых жанров элли-
нистическая литература не могла обойти вопро-
са об отношении к жанрам классическим и ка-
нонизированным: героическому эпосу и траге-
дии. Максимализм Каллимаха, предлагавшего
совсем отвергнуть и забыть большой энос
(«большая книга — большое зло»), был слиш-
ком радикален для многих александрийских по-
этов. Главное столкновение произошло между
Каллимахом и его учеником, библиотекарем
Мусейона Аполлонием (ок. 290—215), в своей
«Аргонавтике» решившимся обновить героиче-
ский эпос — ту самую «киклическую поэзию»,
которая была так ненавистна Каллимаху. Хотя
победа осталась за Каллимахом и Аполлоний
должен был удалиться из Александрии на Ро-
дос (отсюда его прозвище), однако новая, пере-
работанная на Родосе редакция поэмы Аполло-
ния имела большой успех и пользовалась у эл-
линистической и потом у римской публики не
меньшим вниманием, чем стихи самого Калли-
маха.
Как известно, древних киклических поэм о
походе аргонавтов в Колхиду за золотым руном
не существовало; Аполлоний как бы восполняет
этот пробел в мифографическом эпосе, чутко
уловив интерес своих современников к диковин-
кам дальних стран. Его «Аргонавтика» состоит
из четырех книг: книги I и II описывают пла-
ванье в Колхиду, книга III повествует о любви
Медеи к Ясоиу, о подвигах Ясона и похищении
золотого руна, книга IV описывает обратный
путь. Для описания дальних земель Аполлоний
пользовался сочинениями историков и геогра-
фов, для разработки сюжета и характеров —
произведениями трагиков: па них он учился
психологическому мастерству. Было замечено,
что объем поэмы приблизительно равен объему
драматической тетралогии: по-видимому, Апол-
лоний старался следовать указанию Аристоте-
ля, что худоя^ественное произведение не долж-
но быть слишком большим. Но соблюсти другое
указание Аристотеля, относительно единства
действия, Аполлоний не захотел или не смог.
Началом и концом поэмы служат чисто внеш-
ние моменты — сбор дружины и прибытие на
родину; середина поэмы представляет собой ве-
реницу эпизодов, очень слабо связанных сквоз-
ным действием: так, подробно описан брак
Ясона с Гипсипилой на Лемносе, хотя в даль-
нейшем он никакой роли в сюжете не играет.
Поэма загружена географическими и культур-
но-историческими подробностями (о халибах,
которые добывают железную руду, о тибаренах
с их обычаем «кувады»); любопытен маршрут
возвращения аргонавтов: из Черного моря по
Дунаю в Рону и затем путем Одиссея мимо Ита-
лии, Сциллы с Харибдой и острова феаков. Все
эти разделы поэмы Аполлония — продукт тру-
дов «ученого поэта».
Значительно интереснее и живее те разделы
поэмы, где речь идет о богах и людях. Строго
следуя Гомеру, Аполлоний вводит в свое произ-
ведение так называемый «божественный аппа-
рат». Гера и Афина покровительствуют арго-
навтам, и по их просьбе Афродита посылает
своего шаловливого и непослушного сынишку
Эрота ранить стрелой сердце Медеи и пробу-
дить в ней любовь к Ясону; они спасают арго-
навтов от сталкивающихся скал на Боспоре, от
Сциллы и Харибды, но сами аргонавты не чув-
ствуют своей тесной связи с этими богинями
(какую, например, Одиссей постоянно ощущает
со своей покровительницей Афиной). Религиоз-
ного чувства в поэме нет: единственный момент,
когда речь идет о возмездии за преступление,—
это гнев Зевса и Эриний за коварное убийство
беззащитного Апсирта, брата Медеи, но и здесь
требуется только формальное «очищение» от
греха. Лучшее в поэме Аполлония относится к
той сфере, в которой особенно сильны поэты-
эллинисты, к области бытовых и психологиче-
ских наблюдений. Посещение Афродиты Герой
и Афиной напоминает, скорее, обстановку в
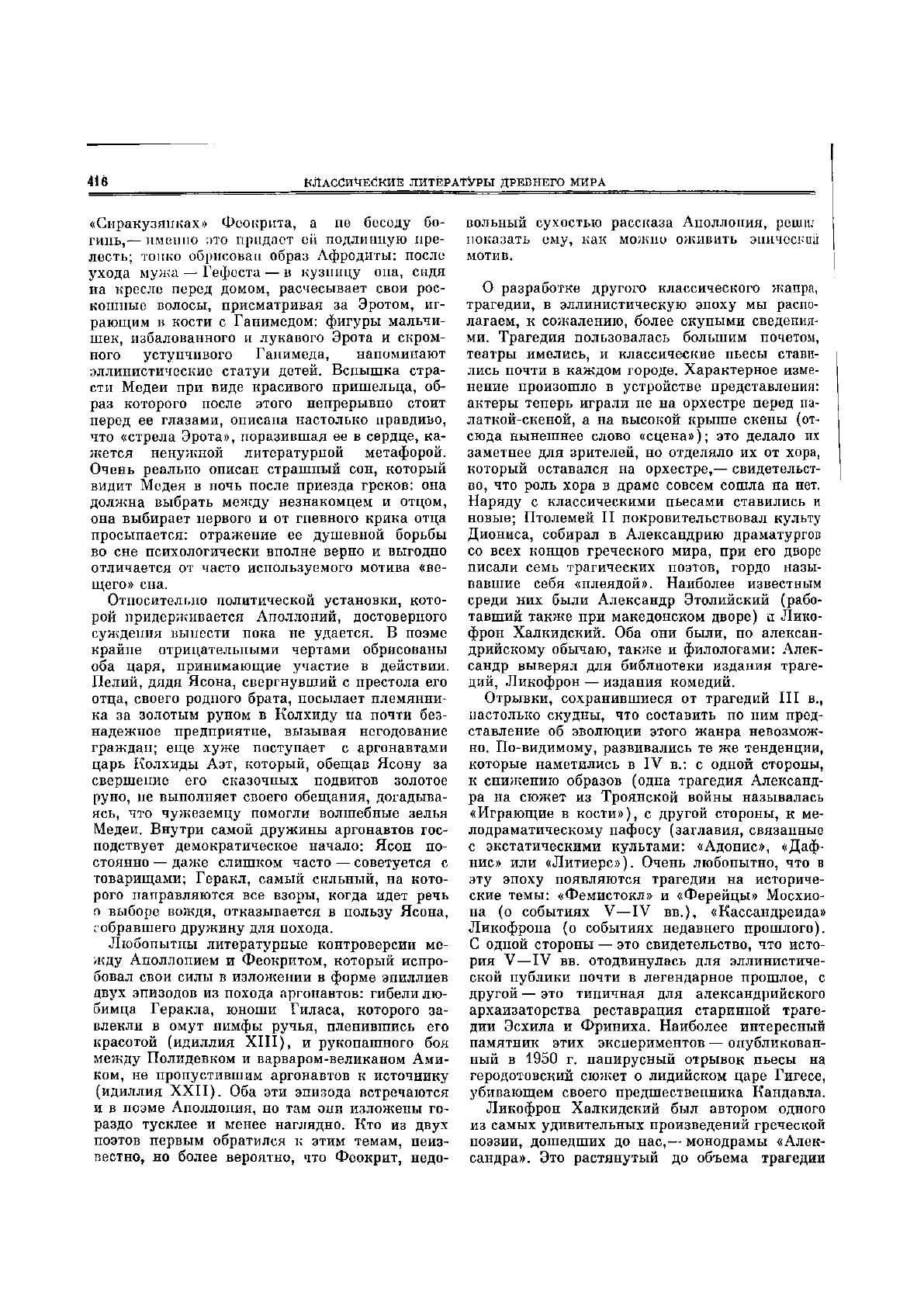
416
КЛАССИЧЕСКИЕ
ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
«Сиракузянках» Феокрита, а не беседу бо-
гинь,— именно это придает ей подлинную пре-
лесть; топко обрисован образ Афродиты: после
ухода мужа — Гефеста — в кузницу она, сидя
на кресле перед домом, расчесывает свои рос-
кошные волосы, присматривая за Эротом, иг-
рающим в кости с Ганимедом: фигуры мальчи-
шек, избалованного PI лукавого Эрота и скром-
ного уступчивого Ганимеда, напоминают
эллинистические статуи детей. Вспышка стра-
сти Медеи при виде красивого пришельца, об-
раз которого после этого непрерывно стоит
перед ее глазами, описана настолько правдиво,
что «стрела Эрота», поразившая ее в сердце, ка-
жется ненужной литературной метафорой.
Очень реально описан страшный сон, который
видит Медея в ночь после приезда греков: она
должна выбрать между незнакомцем и отцом,
она выбирает первого и от гневного крика отца
просыпается: отражение ее душевной борьбы
во сне психологически вполне верно и выгодно
отличается от часто используемого мотива «ве-
щего» сна.
Относительно политической установки, кото-
рой придерживается Аполлоний, достоверного
суждения вынести пока не удается. В поэме
крайне отрицательными чертами обрисованы
оба царя, принимающие участие в действии.
Пелий, дядя Ясона, свергнувший с престола его
отца, своего родного брата, посылает племянни-
ка за золотым руном в Колхиду па почти без-
надежное предприятие, вызывая негодование
граждан; еще хуже поступает с аргонавтами
царь Колхиды Аэт, который, обещав Ясону за
свершение его сказочных подвигов золотое
руно, не выполняет своего обещания, догадыва-
ясь, что чужеземцу помогли волшебные зелья
Медеи. Внутри самой дружины аргонавтов гос-
подствует демократическое начало: Ясон по-
стоянно — даже слишком часто — советуется с
товарищами; Геракл, самый сильный, на кото-
рого направляются все взоры, когда идет речь
о выборе вождя, отказывается в пользу Ясона,
собравшего дружину для похода.
Любопытны литературные контроверсии ме-
жду Аполлонием и Феокритом, который испро-
бовал свои силы в изложении в форме эпиллиев
двух эпизодов из похода аргонавтов: гибели лю-
бимца Геракла, юноши Гиласа, которого за-
влекли в омут нимфы ручья, пленившись его
красотой (идиллия XIII), и рукопашного боя
между Полидевком и варваром-великаном Ами-
ком, не пропустившим аргонавтов к источнику
(идиллия XXII). Оба эти эпизода встречаются
и в поэме Аполлония, но там они изложены го-
раздо тусклее и менее наглядно. Кто из двух
поэтов первым обратился к этим темам, неиз-
вестно, но более вероятно, что Феокрит, недо-
вольный сухостью рассказа Аполлония, реппи
показать ему, как можно оживить эпический
мотив.
О разработке другого классического жапра,
трагедии, в эллинистическую эпоху мы распо-
лагаем, к сожалению, более скупыми сведения-
ми. Трагедия пользовалась большим почетом,
театры имелись, и классические пьесы стави-
лись почти в каждом городе. Характерное изме-
нение произошло в устройстве представления:
актеры теперь играли не на орхестре перед па-
латкой-скеной, а на высокой крыше скены (от-
сюда нынешнее слово «сцена»); это делало их
заметнее для зрителей, но отделяло их от хора,
который оставался на орхестре,— свидетельст-
во, что роль хора в драме совсем сошла на нет.
Наряду с классическими пьесами ставились и
новые; Птолемей II покровительствовал культу
Диониса, собирал в Александрию драматургов
со всех концов греческого мира, при его дворе
писали семь трагических поэтов, гордо назы-
вавшие себя «плеядой». Наиболее известным
среди них были Александр Этолийский (рабо-
тавший также при македонском дворе) а Лико-
фрон Халкидский. Оба они были, по алексан-
дрийскому обычаю, также и филологами: Алек-
сандр выверял для библиотеки издания траге-
дий, Ликофрон — издания комедий.
Отрывки, сохранившиеся от трагедий III в.,
настолько скудны, что составить по ним пред-
ставление об эволюции этого жанра невозмож-
но. По-видимому, развивались те же тенденции,
которые наметились в IV в.: с одной стороны,
к снижению образов (одна трагедия Александ-
ра на сюжет из Троянской войны называлась
«Играющие в кости»), с другой стороны, к ме-
лодраматическому пафосу (заглавия, связанные
с экстатическими культами: «Адонис», «Даф-
нис» или «Литиерс»). Очень любопытно, что в
эту эпоху появляются трагедии на историче-
ские темы: «Фемистокл» и «Ферейцы» Мосхио-
на (о событиях V—IV вв.), «Кассандреида»
Ликофрона (о событиях недавнего прошлого).
С одной стороны — это свидетельство, что исто-
рия V—IV вв. отодвинулась для эллинистиче-
ской публики почти в легендарное прошлое, с
другой — это типичная для александрийского
архаизаторства реставрация старинной траге-
дии Эсхила и Фриниха. Наиболее интересный
памятник этих экспериментов — опубликован-
ный в 1950 г. папирусный отрывок пьесы на
геродотовский сюжет о лидийском царе Гигесе,
убивающем своего предшественника Кандавла.
Ликофрон Халкидский был автором одного
из самых удивительных произведений греческой
поэзии, дошедших до нас,— монодрамы «Алек-
сандра». Это растянутый до объема трагедии
