Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

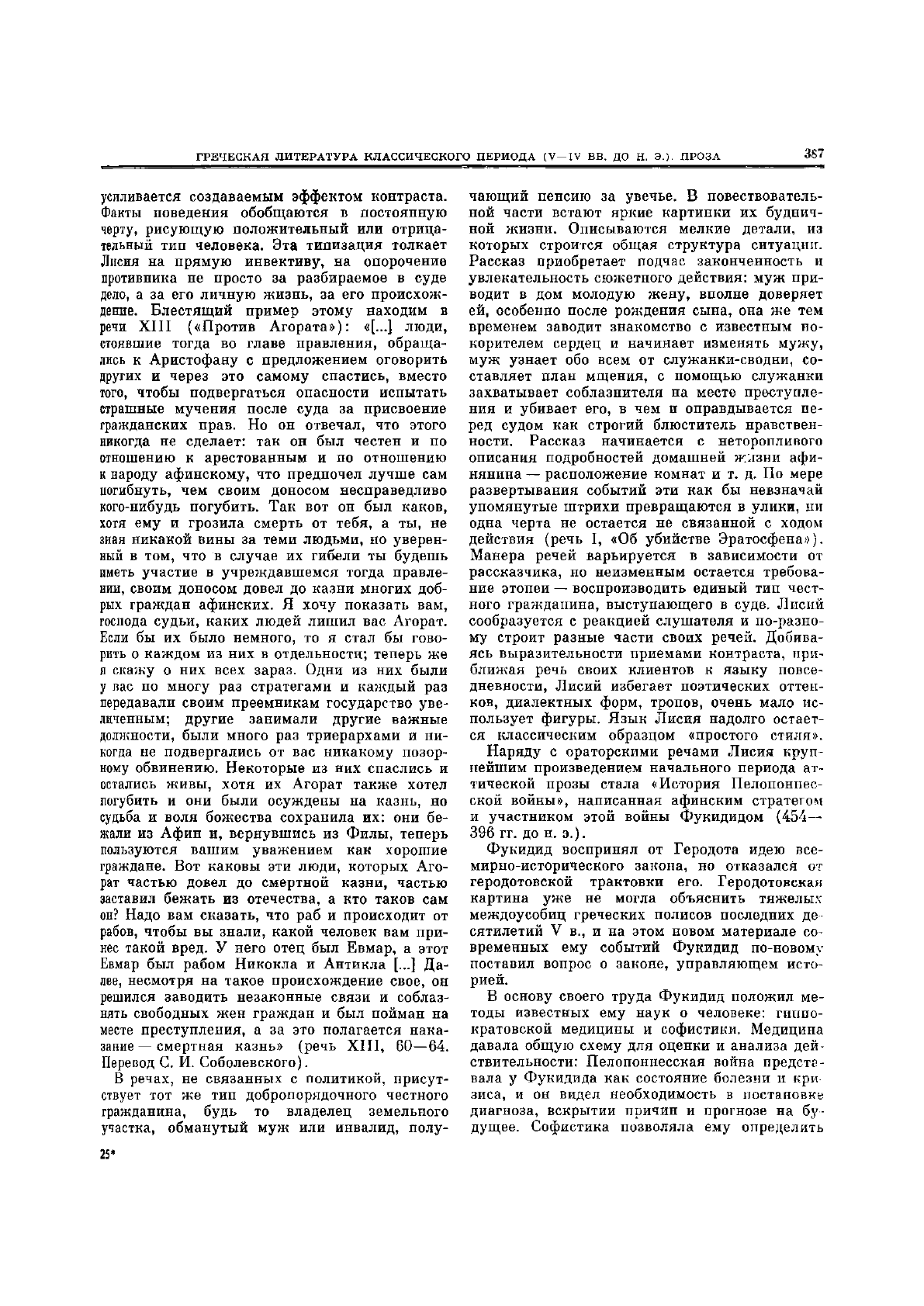
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э ). ПРОЗА
387
усиливается создаваемым эффектом контраста.
Факты поведения обобщаются в постоянную
черту, рисующую положительный или отрица-
тельный тип человека. Эта типизация толкает
Лисия на прямую инвективу, на опорочение
противника не просто за разбираемое в суде
дело, а за его личную жизнь, за его происхож-
дение. Блестящий пример этому находим в
речи XIII («Против Агората»): «[...] люди,
стоявшие тогда во главе правления, обраща-
лись к Аристофану с предложением оговорить
других и через это самому спастись, вместо
того, чтобы подвергаться опасности испытать
страшные мучения после суда за присвоение
гражданских прав. Но он отвечал, что этого
никогда не сделает: так он был честен и по
отношению к арестованным и по отношению
к народу афинскому, что предпочел лучше сам
погибнуть, чем своим доносом несправедливо
кого-нибудь погубить. Так вот он был каков,
хотя ему и грозила смерть от тебя, а ты, не
зная никакой вины за теми людьми, но уверен-
ный в том, что в случае их гибели ты будешь
иметь участие в учреждавшемся тогда правле-
нии, своим доносом довел до казни многих доб-
рых граждан афинских. Я хочу показать вам,
господа судьи, каких людей лишил вас Агорат.
Если бы их было немного, то я стал бы гово-
рить о каждом из них в отдельности; теперь же
я скажу о них всех зараз. Одни из них были
у вас по многу раз стратегами и каждый раз
передавали своим преемникам государство уве-
личенным; другие занимали другие важные
должности, были много раз триерархами и ни-
когда не подвергались от вас никакому позор-
ному обвинению. Некоторые из них спаслись и
остались живы, хотя их Агорат также хотел
погубить и они были осуждены на казнь, но
судьба и воля божества сохранила их: они бе-
жали из Афин и, вернувшись из Филы, теперь
пользуются вашим уважением как хорошие
граждане. Вот каковы эти люди, которых Аго-
рат частью довел до смертной казни, частью
заставил бежать из отечества, а кто таков сам
он? Надо вам сказать, что раб и происходит от
рабов, чтобы вы знали, какой человек вам при-
нес такой вред. У него отец был Евмар, а этот
Евмар был рабом Никокла и Антикла [...] Да-
лее, несмотря на такое происхождение свое, он
решился заводить незаконные связи и соблаз-
нять свободных жен граждан и был пойман на
месте преступления, а за это полагается нака-
зание—смертная казнь» (речь XIII, 60—64.
Перевод С. И. Соболевского).
В речах, не связанных с политикой, присут-
ствует тот же тип добропорядочного честного
гражданина, будь то владелец земельного
участка, обманутый муж или инвалид, полу-
чающий пенсию за увечье. В повествователь-
ной части встают яркие картинки их буднич-
ной жизни. Описываются мелкие детали, из
которых строится общая структура ситуации.
Рассказ приобретает подчас законченность и
увлекательность сюжетного действия: муж при-
водит в дом молодую жену, вполне доверяет
ей, особенно после рождения сына, она же тем
временем заводит знакомство с известным по-
корителем сердец и начинает изменять мужу,
муж узнает обо всем от служанки-сводни, со-
ставляет план мщения, с помощью служанки
захватывает соблазнителя на месте преступле-
ния и убивает его, в чем и оправдывается пе-
ред судом как строгий блюститель нравствен-
ности. Рассказ начинается с неторопливого
описания подробностей домашней жлзни афи-
нянина — расположение комнат и т. д. По мере
развертывания событий эти как бы невзначай
упомянутые штрихи превращаются в улики, ни
одна черта не остается не связанной с ходом
действия (речь I, «Об убийстве Эратосфена»).
Манера речей варьируется в зависимости от
рассказчика, но неизменным остается требова-
ние этопеи — воспроизводить единый тип чест-
ного гражданина, выступающего в суде. Лисий
сообразуется с реакцией слушателя и по-разно-
му строит разные части своих речей. Добива-
ясь выразительности приемами контраста, при-
ближая речь своих клиентов к языку повсе-
дневности, Лисий избегает поэтических оттен-
ков, диалектных форм, тропов, очень мало ис-
пользует фигуры. Язык Лисия надолго остает-
ся классическим образцом «простого стиля».
Наряду с ораторскими речами Лисия круп-
нейшим произведением начального периода ат-
тической прозы стала «История Пелопоннес-
ской войны», написанная афинским стратегом
и участником этой войны Фукидидом (454—
396 гг. до н. э.).
Фукидид воспринял от Геродота идею все-
мирно-исторического закона, но отказался от
геродотовской трактовки его. Геродотовская
картина уже не могла объяснить тяжелых
междоусобиц греческих полисов последних де-
сятилетий V в., и на этом новом материале со-
временных ему событий Фукидид по-новому
поставил вопрос о законе, управляющем исто-
рией.
В основу своего труда Фукидид положил ме-
тоды известных ему наук о человеке: гиппо-
кратовской медицины и софистики. Медицина
давала общую схему для оценки и анализа дей-
ствительности: Пелопоннесская война предста-
вала у Фукидида как состояние болезни и кри
зиса, и он видел необходимость в постановке
диагноза, вскрытии причин и прогнозе на бу-
дущее. Софистика позволяла ему определить
25*
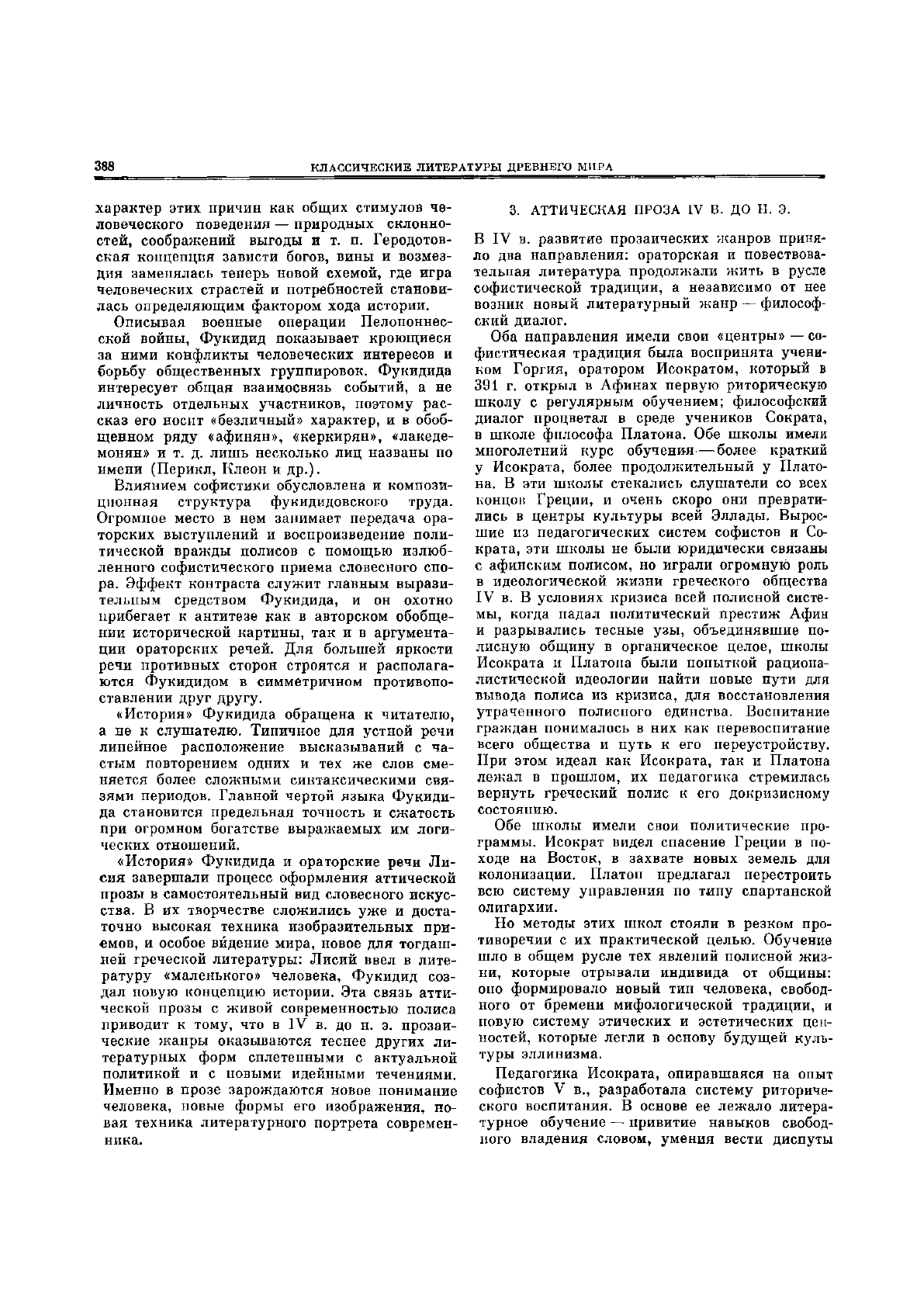
388
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
характер этих причин как общих стимулов че-
ловеческого поведения — природных склонно-
стей, соображений выгоды и т. п. Геродотов-
ская концепция зависти богов, вины и возмез-
дия заменялась теперь новой схемой, где игра
человеческих страстей и потребностей станови-
лась определяющим фактором хода истории.
Описывая военные операции Пелопоннес-
ской войны, Фукидид показывает кроющиеся
за ними конфликты человеческих интересов и
борьбу общественных группировок. Фукидида
интересует общая взаимосвязь событий, а не
личность отдельных участников, поэтому рас-
сказ его носит «безличный» характер, и в обоб-
щенном ряду «афинян», «керкирян», «лакеде-
монян» и т. д. лишь несколько лиц названы по
имени (Перикл, Клеон и др.).
Влиянием софистики обусловлена и компози-
ционная структура фукидидовского труда.
Огромное место в нем занимает передача ора-
торских выступлений и воспроизведение поли-
тической вражды полисов с помощью излюб-
ленного софистического приема словесного спо-
ра. Эффект контраста служит главным вырази-
тельным средством Фукидида, и он охотно
прибегает к антитезе как в авторском обобще-
нии исторической картины, так и в аргумента-
ции ораторских речей. Для большей яркости
речи противных сторон строятся и располага-
ются Фукидидом в симметричном противопо-
ставлении друг другу.
«История» Фукидида обращена к читателю,
а не к слушателю. Типичное для устной речи
линейное расположение высказываний с ча-
стым повторением одних и тех же слов сме-
няется более сложными синтаксическими свя-
зями периодов. Главной чертой языка Фукиди-
да становится предельная точность и сжатость
при огромном богатстве выражаемых им логи-
ческих отношений.
«История» Фукидида и ораторские речи Ли-
сия завершали процесс оформления аттической
прозы в самостоятельный вид словесного искус-
ства. В их творчестве сложились уже и доста-
точно высокая техника изобразительных при-
емов, и особое вйдение мира, новое для тогдаш-
ней греческой литературы: Лисий ввел в лите-
ратуру «маленького» человека, Фукидид соз-
дал новую концепцию истории. Эта связь атти-
ческой прозы с живой современностью полиса
приводит к тому, что в IV в. до н. э. прозаи-
ческие жанры оказываются теснее других ли-
тературных форм сплетенными с актуальной
политикой и с новыми идейными течениями.
Именно в прозе зарождаются новое понимание
человека, новые формы его изображения, но-
вая техника литературного портрета современ-
ника.
3. АТТИЧЕСКАЯ ПРОЗА IV В. ДО Н. Э.
В IV в. развитие прозаических жанров приня-
ло два направления: ораторская и повествова-
тельная литература продолжали жить в русле
софистической традиции, а независимо от нее
возник новый литературный жанр — философ-
ский диалог.
Оба направления имели свои «центры» — со-
фистическая традиция была воспринята учени-
ком Горгия, оратором Исократом, который в
391 г. открыл в Афинах первую риторическую
школу с регулярным обучением; философский
диалог процветал в среде учеников Сократа,
в школе философа Платона. Обе школы имели
многолетний курс обучения—более краткий
у Исократа, более продолжительный у Плато-
на. В эти школы стекались слушатели со всех
концов Греции, и очень скоро они преврати-
лись в центры культуры всей Эллады. Вырос-
шие из педагогических систем софистов и Со-
крата, эти школы не были юридически связаны
с афинским полисом, но играли огромную роль
в идеологической жизни греческого общества
IV в. В условиях кризиса всей полисной систе-
мы, когда падал политический престиж Афин
и разрывались тесные узы, объединявшие по-
лисную общину в органическое целое, школы
Исократа и Платона были попыткой рациона-
листической идеологии найти новые пути для
вывода полиса из кризиса, для восстановления
утраченного полисного единства. Воспитание
граждан понималось в них как перевоспитание
всего общества и путь к его переустройству.
При этом идеал как Исократа, так и Платона
лежал в прошлом, их педагогика стремилась
вернуть греческий полис к его докризисному
состоянию.
Обе школы имели свои политические про-
граммы. Исократ видел спасение Греции в по-
ходе на Восток, в захвате новых земель для
колонизации. Платон предлагал перестроить
всю систему управления по типу спартанской
олигархии.
Но методы этих школ стояли в резком про-
тиворечии с их практической целью. Обучение
шло в общем русле тех явлений полисной жиз-
ни, которые отрывали индивида от общины:
оно формировало новый тип человека, свобод-
ного от бремени мифологической традиции, и
новую систему этических и эстетических цен-
ностей, которые легли в основу будущей куль-
туры эллинизма.
Педагогика Исократа, опиравшаяся на опыт
софистов V в., разработала систему риториче-
ского воспитания. В основе ее лежало литера-
турное обучение — привитие навыков свобод-
ного владения словом, умения вести диспуты
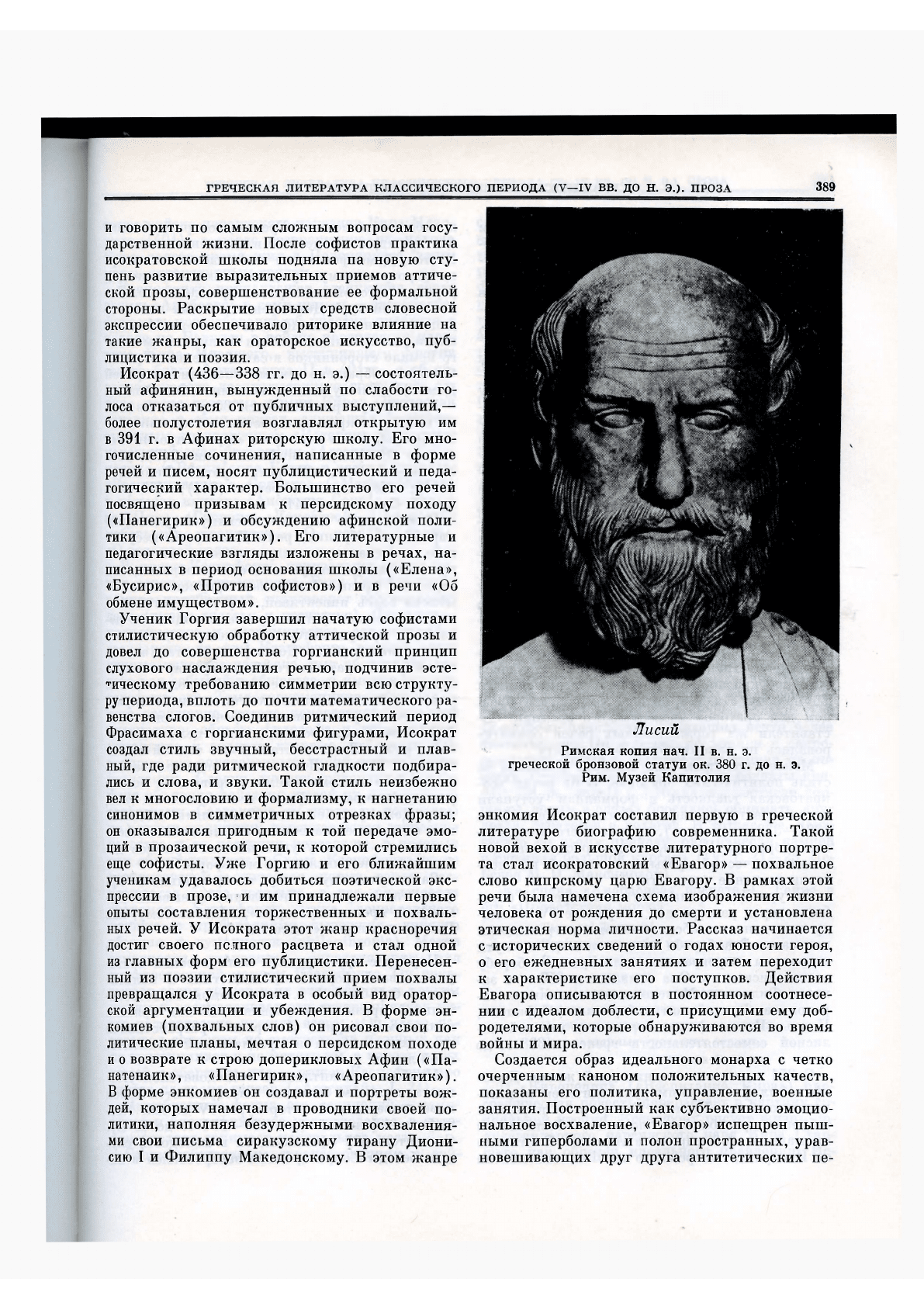
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.).
ПОЭЗИЯ
389
и говорить по самым сложным вопросам госу-
дарственной жизни. После софистов практика
исократовской школы подняла па новую сту-
пень развитие выразительных приемов аттиче-
ской прозы, совершенствование ее формальной
стороны. Раскрытие новых средств словесной
экспрессии обеспечивало риторике влияние на
такие жанры, как ораторское искусство, пуб-
лицистика и поэзия.
Исократ (436—338 гг. до н. э.) — состоятель-
ный афинянин, вынужденный по слабости го-
лоса отказаться от публичных выступлений,—
более полустолетия возглавлял открытую им
в 391 г. в Афинах риторскую школу. Его мно-
гочисленные сочинения, написанные в форме
речей и писем, носят публицистический и педа-
гогический характер. Большинство его речей
посвящено призывам к персидскому походу
(«Панегирик») и обсуждению афинской поли-
тики («Ареопагитик»). Его литературные и
педагогические взгляды изложены в речах, на-
писанных в период основания школы («Елена»,
«Бусирис», «Против софистов») и в речи «Об
обмене имуществом».
Ученик Горгия завершил начатую софистами
стилистическую обработку аттической прозы и
довел до совершенства горгианский принцип
слухового наслаждения речью, подчинив эсте-
тическому требованию симметрии всю структу-
ру периода, вплоть до почти математического ра-
венства слогов. Соединив ритмический период
Фрасимаха с горгианскими фигурами, Исократ
создал стиль звучный, бесстрастный и плав-
ный, где ради ритмической гладкости подбира-
лись и слова, и звуки. Такой стиль неизбежно
вел к многословию и формализму, к нагнетанию
синонимов в симметричных отрезках фразы;
он оказывался пригодным к той передаче эмо-
ций в прозаической речи, к которой стремились
еще софисты. Уже Горгию и его ближайшим
ученикам удавалось добиться поэтической экс-
прессии в прозе, и им принадлежали первые
опыты составления торжественных и похваль-
ных речей. У Исократа этот жанр красноречия
достиг своего полного расцвета и стал одной
из главных форм его публицистики. Перенесен-
ный из поэзии стилистический прием похвалы
превращался у Исократа в особый вид оратор-
ской аргументации и убеждения. В форме эн-
комиев (похвальных слов) он рисовал свои по-
литические планы, мечтая о персидском походе
и о возврате к строю доперикловых Афин («Па-
натенаик», «Панегирик», «Ареопагитик»).
В форме энкомиев он создавал и портреты вож-
дей, которых намечал в проводники своей по-
литики, наполняя безудержными восхваления-
ми свои письма сиракузскому тирану Диони-
сию I и Филиппу Македонскому. В этом жанре
Лисий
Римская копия нач. II в. н. э.
греческой бронзовой статуи ок. 380 г. до н. э.
Рим. Музей Капитолия
энкомия Исократ составил первую в греческой
литературе биографию современника. Такой
новой вехой в искусстве литературного портре-
та стал исократовский «Евагор» — похвальное
слово кипрскому царю Евагору. В рамках этой
речи была намечена схема изображения жизни
человека от рождения до смерти и установлена
этическая норма личности. Рассказ начинается
с исторических сведений о годах юности героя,
о его ежедневных занятиях и затем переходит
к характеристике его поступков. Действия
Евагора описываются в постоянном соотнесе-
нии с идеалом доблести, с присущими ему доб-
родетелями, которые обнаруживаются во время
войны и мира.
Создается образ идеального монарха с четко
очерченным каноном положительных качеств,
показаны его политика, управление, военные
занятия. Построенный как субъективно эмоцио-
нальное восхваление, «Евагор» испещрен пыш-
ными гиперболами и полон пространных, урав-
новешивающих друг друга антитетических пе-
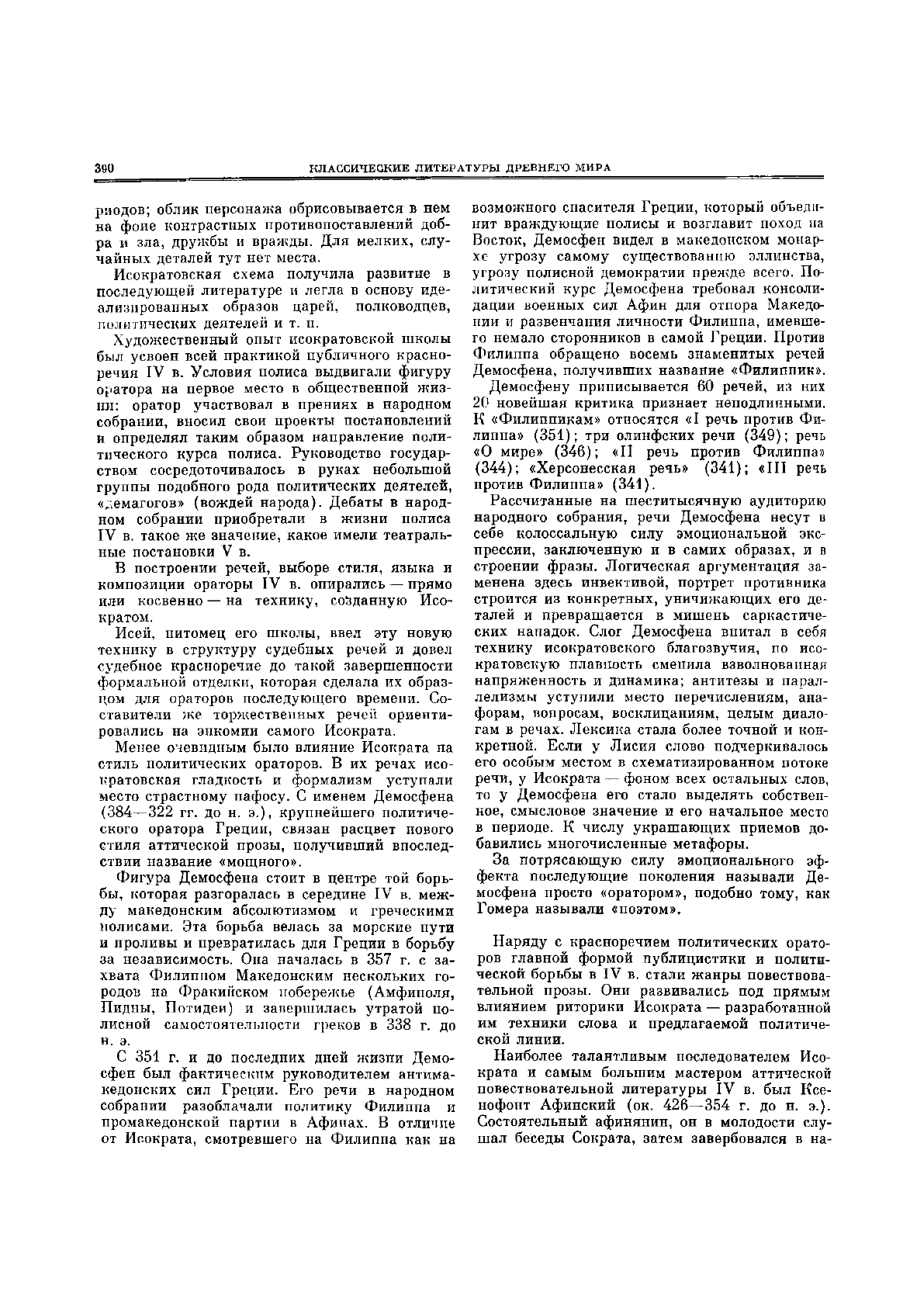
390
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
риодов; облик персонажа обрисовывается в нем
на фоне контрастных противопоставлений доб-
ра и зла, дружбы и вражды. Для мелких, слу-
чайных деталей тут нет места.
Исократовская схема получила развитие в
последующей литературе и легла в основу иде-
ализированных образов царей, полководцев,
политических деятелей и т. п.
Художественный опыт исократовской школы
был усвоен всей практикой публичного красно-
речия IV в. Условия полиса выдвигали фигуру
оратора на первое место в общественной жиз-
ни: оратор участвовал в прениях в народном
собрании, вносил свои проекты постановлений
и определял таким образом направление поли-
тического курса полиса. Руководство государ-
ством сосредоточивалось в руках небольшой
группы подобного рода политических деятелей,
«демагогов» (вождей народа). Дебаты в народ-
ном собрании приобретали в жизни полиса
IV в. такое же значение, какое имели театраль-
ные постановки V в.
В построении речей, выборе стиля, языка и
композиции ораторы IV в. опирались — прямо
или косвенно — на технику, созданную Исо-
кратом.
Исей, питомец его школы, ввел эту новую
технику в структуру судебных речей и довел
судебное красноречие до такой завершенности
формальной отделки, которая сделала их образ-
цом для ораторов последующего времени. Со-
ставители же торжественных речей ориенти-
ровались на энкомии самого Исократа.
Менее очевидным было влияние Исократа на
стиль политических ораторов. В их речах исо-
кратовская гладкость и формализм уступали
место страстному пафосу. С именем Демосфена
(384—322 гг. до н. э.), крупнейшего политиче-
ского оратора Греции, связан расцвет нового
стиля аттической прозы, получивший впослед-
ствии название «мощного».
Фигура Демосфена стоит в центре той борь-
бы, которая разгоралась в середине IV в. меж-
ду македонским абсолютизмом и греческими
полисами. Эта борьба велась за морские пути
и проливы и превратилась для Греции в борьбу
за независимость. Она началась в 357 г. с за-
хвата Филиппом Македонским нескольких го-
родов на Фракийском побережье (Амфиполя,
Пидны, Потидеи) и завершилась утратой по-
лисной самостоятельности греков в 338 г. до
н. э.
С 351 г. и до последних дней жизни Демо-
сфен был фактическим руководителем антима-
кедонских сил Греции. Его речи в народном
собрании разоблачали политику Филиппа и
промакедонской партии в Афинах. В отличие
от Исократа, смотревшего на Филиппа как на
возможного спасителя Греции, который объеди-
нит враждующие полисы и возглавит поход на
Восток, Демосфен видел в македонском монар-
хе угрозу самому существованию эллинства,
угрозу полисной демократии прежде всего. По-
литический курс Демосфена требовал консоли-
дации военных сил Афин для отпора Македо-
нии и развенчания личности Филиппа, имевше-
го немало сторонников в самой Греции. Против
Филиппа обращено восемь знаменитых речей
Демосфена, получивших название «Филиппик».
Демосфену приписывается 60 речей, из них
20 новейшая критика признает неподлинными.
К «Филиппинам» отпосятся «I речь против Фи-
липпа» (351); три олинфских речи (349); речь
«О мире» (346); «II речь против Филиппа»
(344); «Херсонесская речь» (341); «III речь
против Филиппа» (341).
Рассчитанные на шеститысячную аудиторию
народного собрания, речи Демосфена несут в
себе колоссальную силу эмоциональной экс-
прессии, заключенную и в самих образах, и в
строении фразы. Логическая аргументация за-
менена здесь инвективой, портрет противника
строится из конкретных, уничижающих его де-
талей и превращается в мишень саркастиче-
ских нападок. Слог Демосфена впитал в себя
технику исократовского благозвучия, но исо-
кратовскую плавность сменила взволнованная
напряженность и динамика; антитезы и парал-
лелизмы уступили место перечислениям, ана-
форам, вопросам, восклицаниям, целым диало-
гам в речах. Лексика стала более точной и кон-
кретной. Если у Лисия слово подчеркивалось
его особым местом в схематизированном потоке
речи, у Исократа — фоном всех остальных слов,
то у Демосфена его стало выделять собствен-
ное, смысловое значение и его начальное место
в периоде. К числу украшающих приемов до-
бавились многочисленные метафоры.
За потрясающую силу эмоционального эф-
фекта последующие поколения называли Де-
мосфена просто «оратором», подобно тому, как
Гомера называли «поэтом».
Наряду с красноречием политических орато-
ров главной формой публицистики и полити-
ческой борьбы в IV в. стали жанры повествова-
тельной прозы. Они развивались под прямым
влиянием риторики Исократа — разработанной
им техники слова и предлагаемой политиче-
ской линии.
Наиболее талантливым последователем Исо-
крата и самым большим мастером аттической
повествовательной литературы IV в. был Ксе-
нофонт Афинский (ок. 426—354 г. до н. э.).
Состоятельный афинянин, он в молодости слу-
шал беседы Сократа, затем завербовался в на-
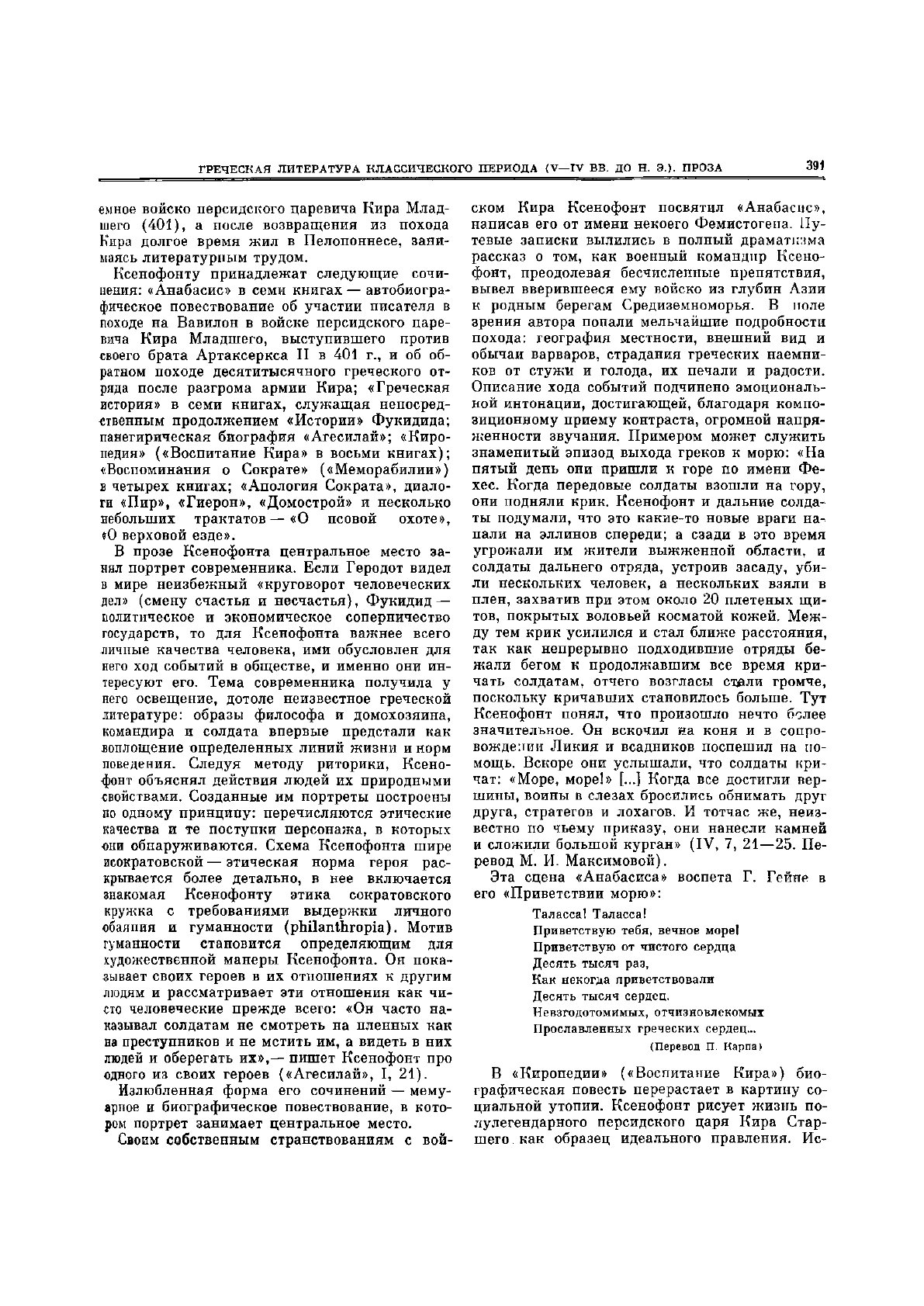
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА
391
емное войско персидского царевича Кира Млад-
шего (401), а после возвращения из похода
Кира долгое время жил в Пелопоннесе, зани-
маясь литературным трудом.
Ксенофонту принадлежат следующие сочи-
нения: «Анабасис» в семи книгах — автобиогра-
фическое повествование об участии писателя в
походе на Вавилон в войске персидского царе-
вича Кира Младшего, выступившего против
своего брата Артаксеркса II в 401 г., и об об-
ратном походе десятитысячного греческого от-
ряда после разгрома армии Кира; «Греческая
история» в семи книгах, служащая непосред-
ственным продолжением «Истории» Фукидида;
панегирическая биография «Агесилай»; «Киро-
педия» («Воспитание Кира» в восьми книгах);
«Воспоминания о Сократе» («Меморабилии»)
в четырех книгах; «Апология Сократа», диало-
ги «Пир», «Гиерон», «Домострой» и несколько
небольших трактатов—«О псовой охоте»,
«О верховой езде».
В прозе Ксенофонта центральное место за-
нял портрет современника. Если Геродот видел
в мире неизбежный «круговорот человеческих
дел» (смену счастья и несчастья), Фукидид —
политическое и экономическое соперничество
государств, то для Ксенофонта важнее всего
личные качества человека, ими обусловлен для
него ход событий в обществе, и именно они ин-
тересуют его. Тема современника получила у
него освещение, дотоле неизвестное греческой
литературе: образы философа и домохозяина,
командира и солдата впервые предстали как
воплощение определенных линий жизни и норм
поведения. Следуя методу риторики, Ксено-
фонт объяснял действия людей их природными
свойствами. Созданные им портреты построены
по одному принципу: перечисляются этические
качества и те поступки персонажа, в которых
они обнаруживаются. Схема Ксенофонта шире
исократовской — этическая норма героя рас-
крывается более детально, в нее включается
знакомая Ксенофонту этика сократовского
кружка с требованиями выдержки личного
обаяния и гуманности (philanthropia). Мотив
гуманности становится определяющим для
художественной манеры Ксенофонта. Он пока-
зывает своих героев в их отношениях к другим
людям и рассматривает эти отношения как чи-
сто человеческие прежде всего: «Он часто на-
казывал солдатам не смотреть на пленных как
на преступников и не мстить им, а видеть в них
людей и оберегать их»,— пишет Ксенофонт про
одного из своих героев («Агесилай», I, 21).
Излюбленная форма его сочинений — мему-
арное и биографическое повествование, в кото-
ром портрет занимает центральное место.
Своим собственным странствованиям с вой-
ском Кира Ксенофонт посвятил «Анабасис»,
написав его от имени некоего Фемистогена. Пу-
тевые записки вылились в полный драматизма
рассказ о том, как военный командир Ксено-
фонт, преодолевая бесчисленные препятствия,
вывел вверившееся ему войско из глубин Азии
к родным берегам Средиземноморья. В поле
зрения автора попали мельчайшие подробности
похода: география местности, внешний вид и
обычаи варваров, страдания греческих наемни-
ков от стужи и голода, их печали и радости.
Описание хода событий подчинено эмоциональ-
ной интонации, достигающей, благодаря компо-
зиционному приему контраста, огромной напря-
женности звучания. Примером может служить
знаменитый эпизод выхода греков к морю: «На
пятый день они пришли к горе по имени Фе-
хес. Когда передовые солдаты взошли на гору,
они подняли крик. Ксенофонт и дальние солда-
ты подумали, что это какие-то новые враги на-
пали на эллинов спереди; а сзади в это время
угрожали им жители выжженной области, и
солдаты дальнего отряда, устроив засаду, уби-
ли нескольких человек, а нескольких взяли в
плен, захватив при этом около 20 плетеных щи-
тов, покрытых воловьей косматой кожей. Меж-
ду тем крик усилился и стал ближе расстояния,
так как непрерывно подходившие отряды бе-
жали бегом к продолжавшим все время кри-
чать солдатам, отчего возгласы сщли громче,
поскольку кричавших становилось больше. Тут
Ксенофонт понял, что произошло нечто более
значительное. Он вскочил на коня и в сопро-
вождении Ликия и всадников поспешил на по-
мощь. Вскоре они услышали, что солдаты кри-
чат: «Море, море!» [...] Когда все достигли вер-
шины, воины в слезах бросились обнимать друг
друга, стратегов и лохагов. И тотчас же, неиз-
вестно по чьему приказу, они нанесли камней
и сложили большой курган» (IV, 7, 21—25. Пе-
ревод М. И. Максимовой).
Эта сцена «Анабасиса» воспета Г. Гейне в
его «Приветствии морю»:
Таласса! Таласса!
Приветствую тебя, вечное море!
Приветствую от чистого сердца
Десять тысяч раз,
Как некогда приветствовали
Десять тысяч сердец,
Невзгодотомимых, отчизновлекомых
Прославленных греческих сердец...
(Перевод П. Карпа)
В «Киропедии» («Воспитание Кира») био-
графическая повесть перерастает в картину со-
циальной утопии. Ксенофонт рисует жизнь по-
лулегендарного персидского царя Кира Стар-
шего как образец идеального правления. Ис-
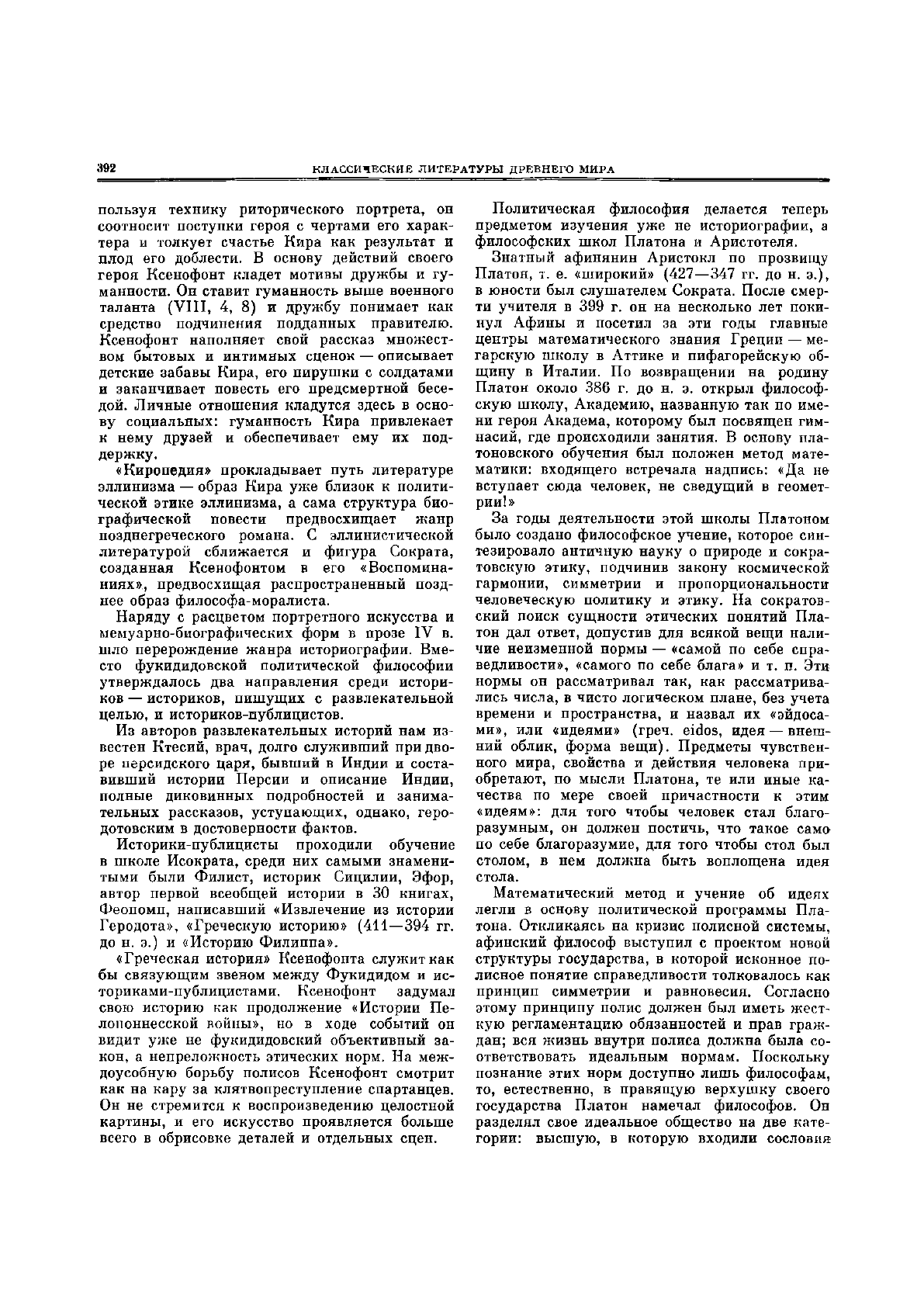
392
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
пользуя технику риторического портрета, он
соотносит поступки героя с чертами его харак-
тера и толкует счастье Кира как результат и
плод его доблести. В основу действий своего
героя Ксенофонт кладет мотивы дружбы и гу-
манности. Он ставит гуманность выше военного
таланта (VIII, 4, 8) и дружбу понимает как
средство подчинения подданных правителю.
Ксенофонт наполняет свой рассказ множест-
вом бытовых и интимных сценок — описывает
детские забавы Кира, его пирушки с солдатами
и заканчивает повесть его предсмертной бесе-
дой. Личные отношения кладутся здесь в осно-
ву социальных: гуманность Кира привлекает
к нему друзей и обеспечивает ему их под-
держку.
«Киропедия» прокладывает путь литературе
эллинизма — образ Кира уже близок к полити-
ческой этике эллинизма, а сама структура био-
графической повести предвосхищает жанр
позднегреческого романа. С эллинистической
литературой сближается и фигура Сократа,
созданная Ксенофонтом в его «Воспомина-
ниях»., предвосхищая распространенный позд-
нее образ философа-моралиста.
Наряду с расцветом портретного искусства и
мемуарно-биографических форм в прозе IV в.
шло перерождение жанра историографии. Вме-
сто фукидидовской политической философии
утверждалось два направления среди истори-
ков — историков, пишущих с развлекательной
целью, и историков-публицистов.
Из авторов развлекательных историй нам из-
вестен Ктесий, врач, долго служивший при дво-
ре персидского царя, бывший в Индии и соста-
вивший истории Персии и описание Индии,
полные диковинных подробностей и занима-
тельных рассказов, уступающих, однако, геро-
дотовским в достоверности фактов.
Историки-публицисты проходили обучение
в школе Исократа, среди них самыми знамени-
тыми были Филист, историк Сицилии, Эфор,
автор первой всеобщей истории в 30 книгах,
Феопомп, написавший «Извлечение из истории
Геродота», «Греческую историю» (411—394 гг.
до н. э.) и «Историю Филиппа».
«Греческая история» Ксенофонта служит как
бы связующим звеном между Фукидидом и ис-
ториками-публицистами. Ксенофонт задумал
свою историю как продолжение «Истории Пе-
лопоннесской войны», но в ходе событий он
видит уже не фукидидовский объективный за-
кон, а непреложность этических норм. На меж-
доусобную борьбу полисов Ксенофонт смотрит
как на кару за клятвопреступление спартанцев.
Он не стремится к воспроизведению целостной
картины, и его искусство проявляется больше
всего в обрисовке деталей и отдельных сцен.
Политическая философия делается теперь
предметом изучения уже не историографии, а
философских школ Платона и Аристотеля.
Знатный афинянин Аристокл по прозвищу
Платон, т. е. «широкий» (427—347 гг. до н. э.),
в юности был слушателем Сократа. После смер-
ти учителя в 399 г. он на несколько лет поки-
нул Афины и посетил за эти годы главные
центры математического знания Греции — ме-
гарскую школу в Аттике и пифагорейскую об-
щину в Италии. По возвращении на родину
Платон около 386 г. до н. э. открыл философ-
скую школу, Академию, названную так по име-
ни героя Академа, которому был посвящен гим-
насий, где происходили занятия. В основу пла-
тоновского обучения был положен метод мате-
матики: входящего встречала надпись: «Да не
вступает сюда человек, не сведущий в геомет-
рии!»
За годы деятельности этой школы Платоном
было создано философское учение, которое син-
тезировало античную науку о природе и сокра-
товскую этику, подчинив закону космической
гармонии, симметрии и пропорциональности
человеческую политику и этику. На сократов-
ский поиск сущности этических понятий Пла-
тон дал ответ, допустив для всякой вещи нали-
чие неизменной нормы — «самой по себе спра-
ведливости», «самого по себе блага» и т. п. Эти
нормы он рассматривал так, как рассматрива-
лись числа, в чисто логическом плане, без учета
времени и пространства, и назвал их «эйдоса-
ми», или «идеями» (греч. eidos, идея — внеш-
ний облик, форма вещи). Предметы чувствен-
ного мира, свойства и действия человека при-
обретают, по мысли Платона, те или иные ка-
чества по мере своей причастности к этим
«идеям»: для того чтобы человек стал благо-
разумным, он должен постичь, что такое само
по себе благоразумие, для того чтобы стол был
столом, в нем должна быть воплощена идея
стола.
Математический метод и учение об идеях
легли в основу политической программы Пла-
тона. Откликаясь на кризис полисной системы,
афинский философ выступил с проектом новой
структуры государства, в которой исконное по-
лисное понятие справедливости толковалось как
принцип симметрии и равновесия. Согласно
этому принципу полис должен был иметь жест-
кую регламентацию обязанностей и прав граж-
дан; вся жизнь внутри полиса должна была со-
ответствовать идеальным нормам. Поскольку
познание этих норм доступно лишь философам,
то, естественно, в правящую верхушку своего
государства Платон намечал философов. Он
разделял свое идеальное общество на две кате-
гории: высшую, в которую входили сословия
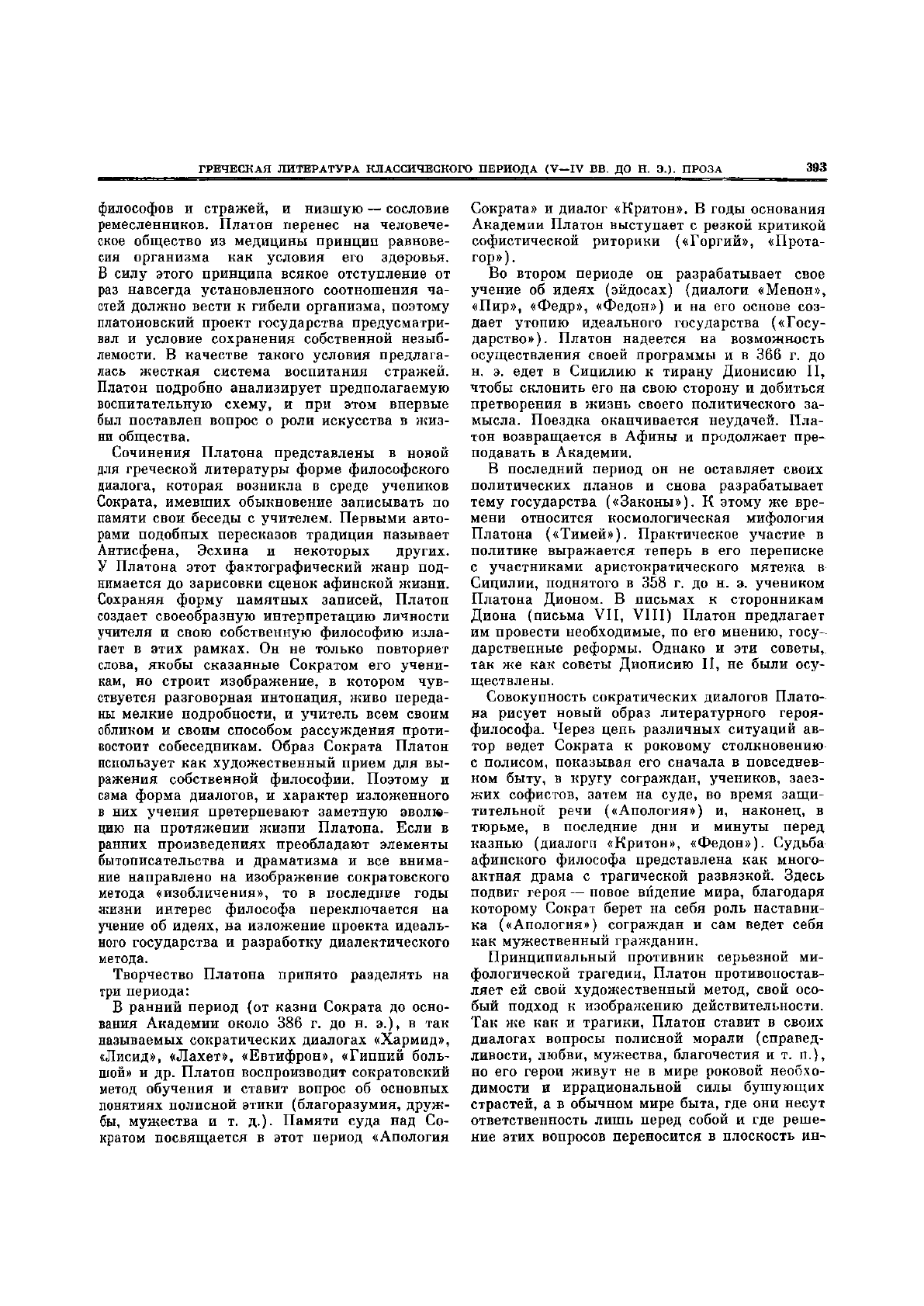
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА
393
философов и стражей, и низшую — сословие
ремесленников. Платон перенес на человече-
ское общество из медицины принцип равнове-
сия организма как условия его здоровья.
В силу этого принципа всякое отступление от
раз навсегда установленного соотношения ча-
стей должно вести к гибели организма, поэтому
платоновский проект государства предусматри-
вал и условие сохранения собственной незыб-
лемости. В качестве такого условия предлага-
лась жесткая система воспитания стражей.
Платон подробно анализирует предполагаемую
воспитательную схему, и при этом впервые
был поставлен вопрос о роли искусства в жиз-
ни общества.
Сочинения Платона представлены в новой
для греческой литературы форме философского
диалога, которая возникла в среде учеников
Сократа, имевших обыкновение записывать по
памяти свои беседы с учителем. Первыми авто-
рами подобных пересказов традиция называет
Антисфена, Эсхина и некоторых других.
У Платона этот фактографический жанр под-
нимается до зарисовки сценок афинской жизни.
Сохраняя форму памятных записей, Платон
создает своеобразную интерпретацию личности
учителя и свою собственную философию изла-
гает в этих рамках. Он не только повторяет
слова, якобы сказанные Сократом его учени-
кам, но строит изображение, в котором чув-
ствуется разговорная интонация, живо переда-
ны мелкие подробности, и учитель всем своим
обликом и своим способом рассуждения проти-
востоит собеседникам. Образ Сократа Платон
использует как художественный прием для вы-
ражения собственной философии. Поэтому и
сама форма диалогов, и характер изложенного
в них учения претерпевают заметную эволю-
цию на протяжении жизни Платона. Если в
ранних произведениях преобладают элементы
бытописательства и драматизма и все внима-
ние направлено на изображение сократовского
метода «изобличения», то в последние годы
жизни интерес философа переключается на
учение об идеях, на изложение проекта идеаль-
ного государства и разработку диалектического
метода.
Творчество Платона принято разделять на
три периода:
В ранний период (от казни Сократа до осно-
вания Академии около 386 г. до н. э.), в так
называемых сократических диалогах «Хармид»,
«Лисид», «Лахет», «Евтифрон», «Гиппий боль-
шой» и др. Платон воспроизводит сократовский
метод обучения и ставит вопрос об основных
понятиях полисной этики (благоразумия, друж-
бы, мужества и т. д.). Памяти суда над Со-
кратом посвящается в этот период «Апология
Сократа» и диалог «Критон». В годы основания
Академии Платон выступает с резкой критикой
софистической риторики («Горгий», «Прота-
гор»).
Во втором периоде он разрабатывает свое
учение об идеях (эйдосах) (диалоги «Менон»,
«Пир», «Федр», «Федон») и на его основе соз-
дает утопию идеального государства («Госу-
дарство»). Платон надеется на возможность
осуществления своей программы и в 366 г. до
н. э. едет в Сицилию к тирану Дионисию II,
чтобы склонить его на свою сторону и добиться
претворения в жизнь своего политического за-
мысла. Поездка оканчивается неудачей. Пла-
тон возвращается в Афины и продолжает пре-
подавать в Академии.
В последний период он не оставляет своих
политических планов и снова разрабатывает
тему государства («Законы»). К этому же вре-
мени относится космологическая мифология
Платона («Тимей»). Практическое участие в
политике выражается теперь в его переписке
с участниками аристократического мятежа в
Сицилии, поднятого в 358 г. до н. э. учеником
Платона Дионом. В письмах к сторонникам
Диона (письма VII, VIII) Платон предлагает
им провести необходимые, по его мнению, госу-
дарственные реформы. Однако и эти советы,
так же как советы Дионисию II, не были осу-
ществлены.
Совокупность сократических диалогов Плато-
на рисует новый образ литературного героя-
философа. Через цепь различных ситуаций ав-
тор ведет Сократа к роковому столкновению
с полисом, показывая его сначала в повседнев-
ном быту, в кругу сограждан, учеников, заез-
жих софистов, затем на суде, во время защи-
тительной речи («Апология») и, наконец, в
тюрьме, в последние дни и минуты перед
казнью (диалоги «Критон», «Федон»). Судьба
афинского философа представлена как много-
актная драма с трагической развязкой. Здесь
подвиг героя — новое видение мира, благодаря
которому Сократ берет на себя роль наставни-
ка («Апология») сограждан и сам ведет себя
как мужественный гражданин.
Принципиальный противник серьезной ми-
фологической трагедии, Платон противопостав-
ляет ей свой художественный метод, свой осо-
бый подход к изображению действительности.
Так же как и трагики, Платон ставит в своих
диалогах вопросы полисной морали (справед-
ливости, любви, мужества, благочестия и т. п.)
г
но его герои живут не в мире роковой необхо-
димости и иррациональной силы бушующих
страстей, а в обычном мире быта, где они несут
ответственность лишь перед собой и где реше-
ние этих вопросов переносится в плоскость ин-
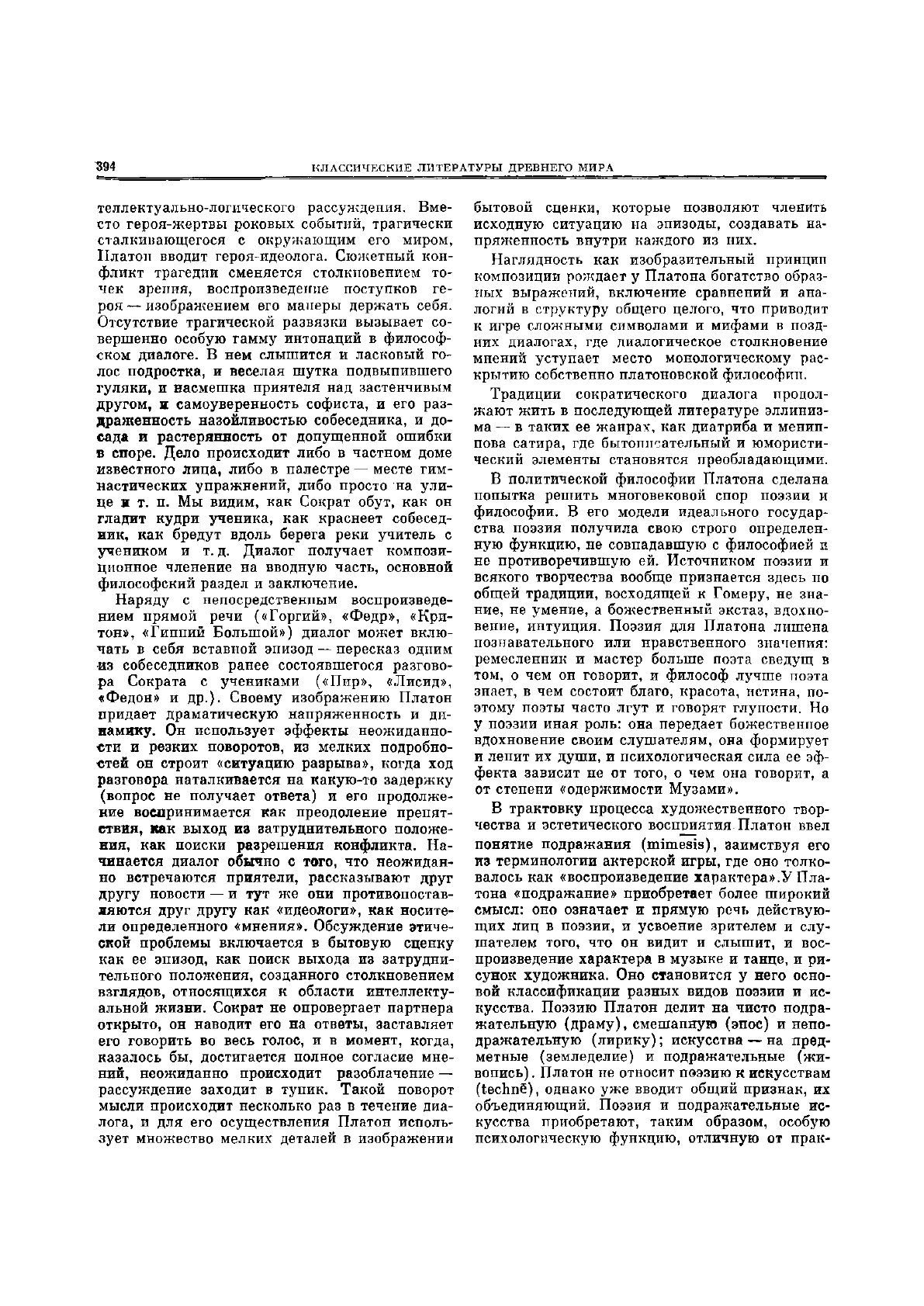
4
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
теллектуально-логического рассуждения. Вме-
сто героя-жертвы роковых событий, трагически
сталкивающегося с окружающим его миром,
Платон вводит героя-идеолога. Сюжетный кон-
фликт трагедии сменяется столкновением то-
чек зрения, воспроизведение поступков ге-
роя — изобрая^ением его манеры держать себя.
Отсутствие трагической развязки вызывает со-
вершенно особую гамму интонаций в философ-
ском диалоге. В нем слышится и ласковый го-
лос подростка, и веселая шутка подвыпившего
гуляки, и насмешка приятеля над застенчивым
другом, и самоуверенность софиста, и его раз-
драженность назойливостью собеседника, и до-
сада и растерянность от допущенной ошибки
в споре. Дело происходит либо в частном доме
известного лица, либо в палестре — месте гим-
настических упражнений, либо просто на ули-
це и т. п. Мы видим, как Сократ обут, как он
гладит кудри ученика, как краснеет собесед-
ник, как бредут вдоль берега реки учитель с
учеником и т. д. Диалог получает компози-
ционное членение на вводную часть, основной
философский раздел и заключение.
Наряду с непосредственным воспроизведе-
нием прямой речи («Горгий», «Федр», «Кри-
тон», «Гиппий Большой») диалог может вклю-
чать в себя вставной эпизод — пересказ одним
из собеседников ранее состоявшегося разгово-
ра Сократа с учениками («Пир», «Лисид»,
«Федон» и др.). Своему изображению Платон
придает драматическую напряженность и ди-
намику. Он использует эффекты неожиданно-
сти и резких поворотов, из мелких подробно-
стей он строит «ситуацию разрыва», когда ход
разговора наталкивается на какую-то задержку
(вопрос не получает ответа) и его продолже-
ние воспринимается как преодоление препят-
ствия, как выход из затруднительного положе-
ния, как поиски разрешения конфликта. На-
чинается диалог обычно с того, что неожидан-
но встречаются приятели, рассказывают друг
другу новости — и тут же они противопостав-
ляются друг другу как «идеологи», как носите-
ли определенного «мнения». Обсуждение этиче-
ской проблемы включается в бытовую сценку
как ее эпизод, как поиск выхода из затрудни-
тельного положения, созданного столкновением
взглядов, относящихся к области интеллекту-
альной жизни. Сократ не опровергает партнера
открыто, он наводит его на ответы, заставляет
его говорить во весь голос, и в момент, когда,
казалось бы, достигается полное согласие мне-
ний, неожиданно происходит разоблачение —
рассуждение заходит в тупик. Такой поворот
мысли происходит несколько раз в течение диа-
лога, и для его осуществления Платон исполь-
зует множество мелких деталей в изображении
бытовой сценки, которые позволяют членить
исходную ситуацию на эпизоды, создавать на-
пряженность внутри каждого из них.
Наглядность как изобразительный принцип
композиции рождает у Платона богатство образ-
ных выражений, включение сравнений и ана-
логий в структуру общего целого, что приводит
к игре сложными символами и мифами в позд-
них диалогах, где диалогическое столкновение
мнений уступает место монологическому рас-
крытию собственно платоновской философии.
Традиции сократического диалога продол-
жают жить в последующей литературе эллиниз-
ма—в таких ее жанрах, как диатриба и менип-
пова сатира, где бытописательный и юмористи-
ческий элементы становятся преобладающими.
В политической философии Платона сделана
попытка решить многовековой спор поэзии и
философии. В его модели идеального государ-
ства поэзия получила свою строго определен-
ную функцию, не совпадавшую с философией и
не противоречившую ей. Источником поэзии и
всякого творчества вообще признается здесь по
общей традиции, восходящей к Гомеру, не зна-
ние, не умение, а божественный экстаз, вдохно-
вение, интуиция. Поэзия для Платона лишена
познавательного или нравственного значения:
ремесленник и мастер больше поэта сведущ в
том, о чем он говорит, и философ лучше поэта
знает, в чем состоит благо, красота, истина, по-
этому поэты часто лгут и говорят глупости. Но
у поэзии иная роль: она передает божественное
вдохновение своим слушателям, она формирует
и лепит их души, и психологическая сила ее эф-
фекта зависит не от того, о чем она говорит, а
от степени «одержимости Музами».
В трактовку процесса художественного твор-
чества и эстетического восприятия Платон ввел
понятие подражания (mimesis), заимствуя его
из терминологии актерской игры, где оно толко-
валось как «воспроизведение характера».У Пла-
тона «подражание» приобретает более широкий
смысл: оно означает и прямую речь действую-
щих лиц в поэзии, и усвоение зрителем и слу-
шателем того, что он видит и слышит, и вос-
произведение характера в музыке и танце, и ри-
сунок художника. Оно становится у него осно-
вой классификации разных видов поэзии и ис-
кусства. Поэзию Платон делит на чисто подра-
жательную (драму), смешанную (эпос) и непо-
дражательную (лирику); искусства — на пред-
метные (земледелие) и подражательные (жи-
вопись)
.
Платон не относит поэзию к искусствам
(techne), однако уже вводит общий признак, их
объединяющий. Поэзия и подражательные ис-
кусства приобретают, таким образом, особую
психологическую функцию, отличную от прак-
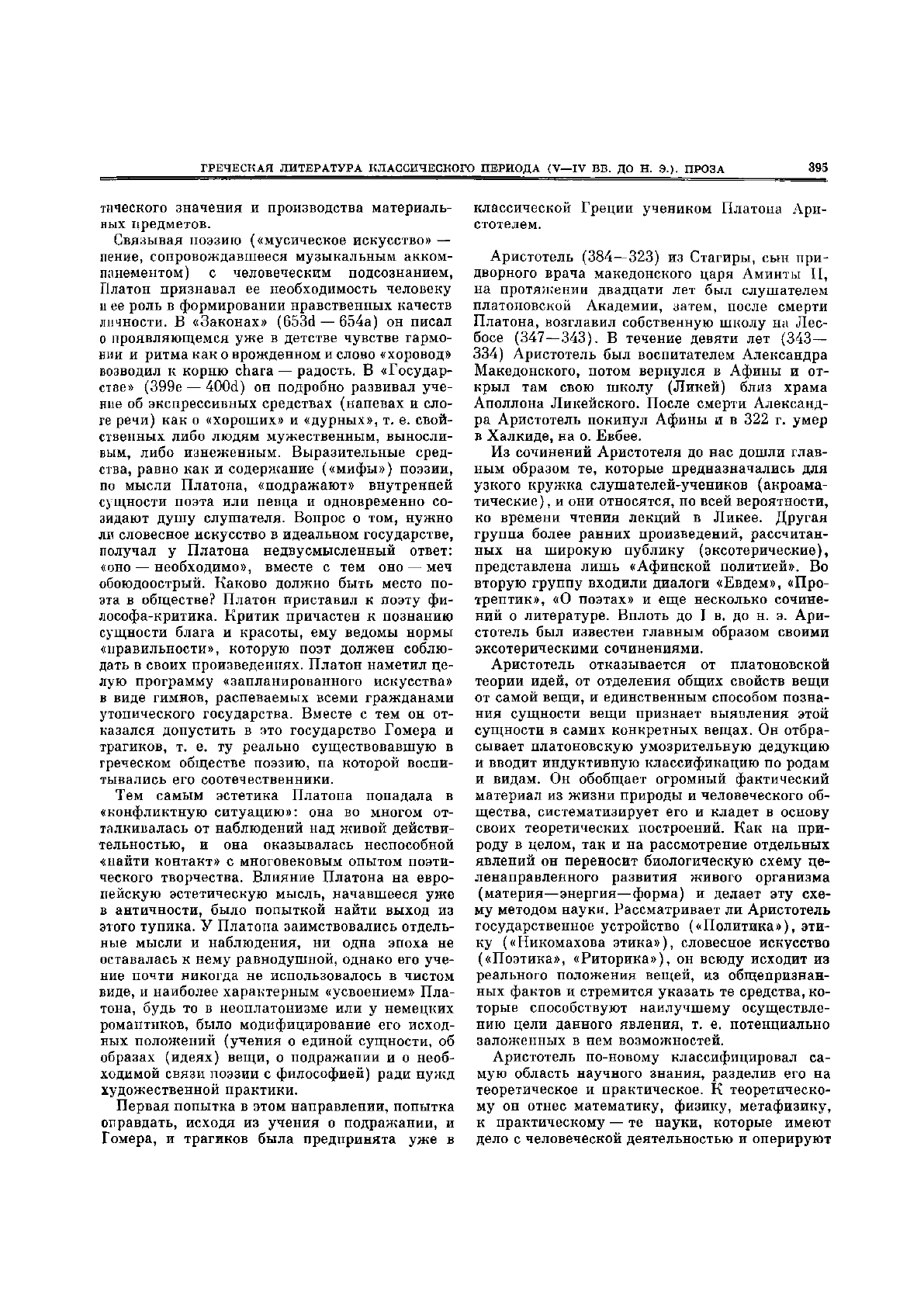
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО Н. Э.). ПРОЗА
395
тического значения и производства материаль-
ных предметов.
Связывая поэзию («мусическое искусство» —
пение, сопровождавшееся музыкальным акком-
панементом) с человеческим подсознанием,
Платон признавал ее необходимость человеку
и ее роль в формировании нравственных качеств
личности. В «Законах» (653d — 654а) он писал
о проявляющемся уже в детстве чувстве гармо-
нии и ритма как о врожденном и слово «хоровод»
возводил к корню chara — радость. В «Государ-
стве» (399е — 400d) он подробно развивал уче-
ние об экспрессивных средствах (напевах и сло-
ге речи) как о «хороших» и «дурных», т. е. свой-
ственных либо людям мужественным, выносли-
вым, либо изнеженным. Выразительные сред-
ства, равно как и содержание («мифы») поэзии,
по мысли Платона, «подражают» внутренней
сущности поэта или певца и одновременно со-
зидают душу слушателя. Вопрос о том, нужно
ли словесное искусство в идеальном государстве,
получал у Платона недвусмысленный ответ:
«оно — необходимо», вместе с тем оно—меч
обоюдоострый. Каково должно быть место по-
эта в обществе? Платон приставил к поэту фи-
лософа-критика. Критик причастен к познанию
сущности блага и красоты, ему ведомы нормы
«правильности», которую поэт должен соблю-
дать в своих произведениях. Платон наметил це-
лую программу «запланированного искусства»
в виде гимнов, распеваемых всеми гражданами
утопического государства. Вместе с тем он от-
казался допустить в это государство Гомера и
трагиков, т. е. ту реально существовавшую в
греческом обществе поэзию, на которой воспи-
тывались его соотечественники.
Тем самым эстетика Платона попадала в
«конфликтную ситуацию»: она во многом от-
талкивалась от наблюдений над живой действи-
тельностью, и она оказывалась неспособной
«найти контакт» с многовековым опытом поэти-
ческого творчества. Влияние Платона на евро-
пейскую эстетическую мысль, начавшееся уже
в античности, было попыткой найти выход из
этого тупика. У Платона заимствовались отдель-
ные мысли и наблюдения, ни одна эпоха не
оставалась к нему равнодушной, однако его уче-
ние почти никогда не использовалось в чистом
виде, и наиболее характерным «усвоением» Пла-
тона, будь то в неоплатонизме или у немецких
романтиков, было модифицирование его исход-
ных положений (учения о единой сущности, об
образах (идеях) вещи, о подражании и о необ-
ходимой связи поэзии с философией) ради нужд
художественной практики.
Первая попытка в этом направлении, попытка
оправдать, исходя из учения о подражании, и
Гомера, и трагиков была предпринята уже в
классической Греции учеником Платона Ари-
стотелем.
Аристотель (384—323) из Стагиры, сын при-
дворного врача македонского царя Аминты II,
на протяжении двадцати лет был слушателем
платоновской Академии, затем, после смерти
Платона, возглавил собственную школу на Лес-
босе (347—343). В течение девяти лет (343—
334) Аристотель был воспитателем Александра
Македонского, потом вернулся в Афины и от-
крыл там свою школу (Ликей) близ храма
Аполлона Ликейского. После смерти Александ-
ра Аристотель покинул Афины и в 322 г. умер
в Халкиде, на о. Евбее.
Из сочинений Аристотеля до нас дошли глав-
ным образом те, которые предназначались для
узкого кружка слушателей-учеников (акроама-
тические), и они относятся, по всей вероятности,
ко времени чтения лекций в Ликее. Другая
группа более ранних произведений, рассчитан-
ных на широкую публику (эксотерические),
представлена лишь «Афинской политией». Во
вторую группу входили диалоги «Евдем», «Про-
трептик», «О поэтах» и еще несколько сочине-
ний о литературе. Вплоть до I в. до н. э. Ари-
стотель был известен главным образом своими
эксотерическими сочинениями.
Аристотель отказывается от платоновской
теории идей, от отделения общих свойств вещи
от самой вещи, и единственным способом позна-
ния сущности вещи признает выявления этой
сущности в самих конкретных вещах. Он отбра-
сывает платоновскую умозрительную дедукцию
и вводит индуктивную классификацию по родам
и видам. Он обобщает огромный фактический
материал из жизни природы и человеческого об-
щества, систематизирует его и кладет в основу
своих теоретических построений. Как на при-
роду в целом, так и на рассмотрение отдельных
явлений он переносит биологическую схему це-
ленаправленного развития живого организма
(материя—энергия—форма) и делает эту схе-
му методом науки. Рассматривает ли Аристотель
государственное устройство («Политика»), эти-
ку («Никомахова этика»), словесное искусство
(«Поэтика», «Риторика»), он всюду исходит из
реального положения вещей, из общепризнан-
ных фактов и стремится указать те средства, ко-
торые способствуют наилучшему осуществле-
нию цели данного явления, т. е. потенциально
заложенных в нем возможностей.
Аристотель по-новому классифицировал са-
мую область научного знания, разделив его на
теоретическое и практическое. К теоретическо-
му он отнес математику, физику, метафизику,
к практическому — те науки, которые имеют
дело с человеческой деятельностью и оперируют
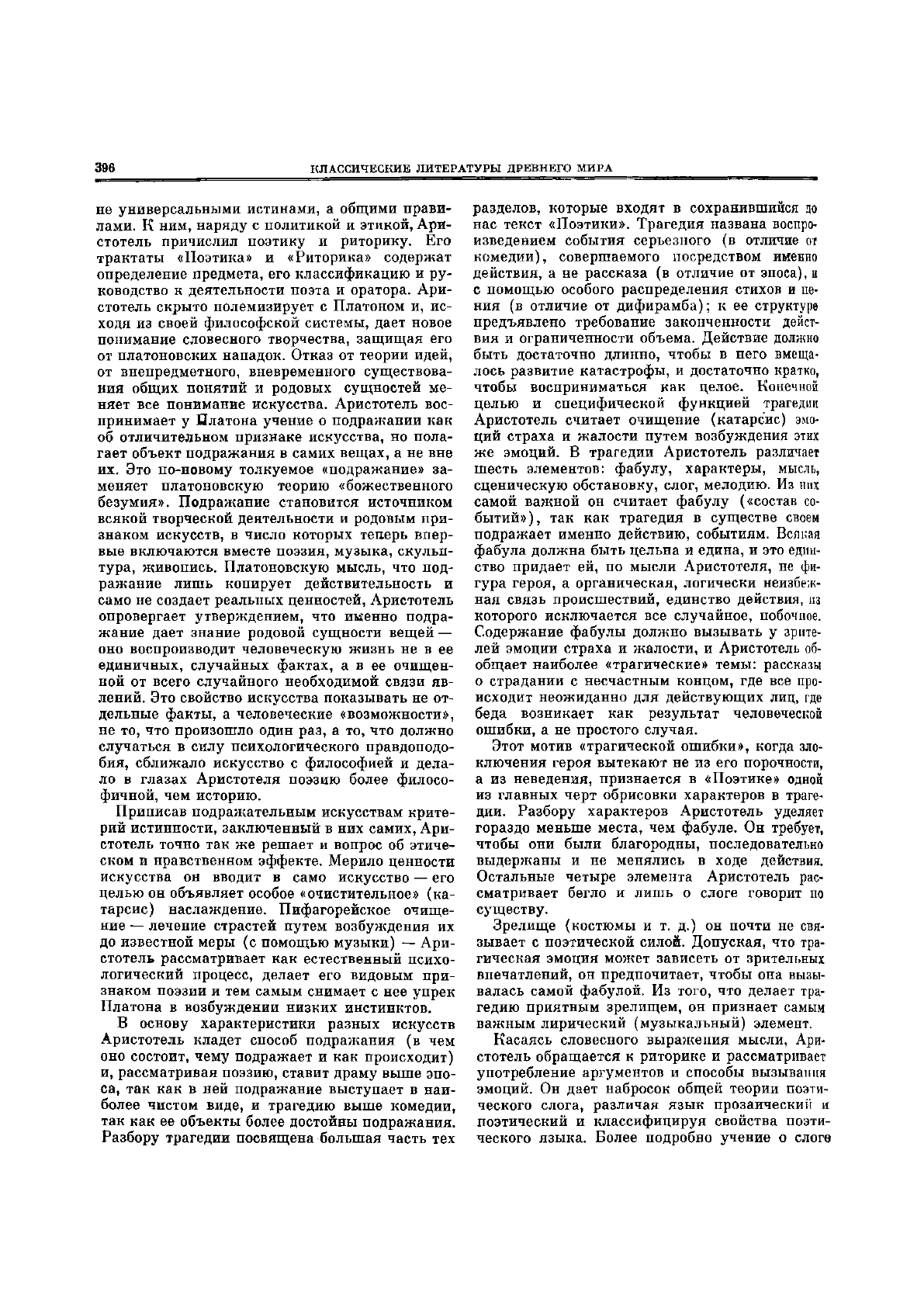
396
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
не универсальными истинами, а общими прави-
лами. К ним, наряду с политикой и этикой, Ари-
стотель причислил поэтику и риторику. Его
трактаты «Поэтика» и «Риторика» содержат
определение предмета, его классификацию и ру-
ководство к деятельности поэта и оратора. Ари-
стотель скрыто полемизирует с Платоном и, ис-
ходя из своей философской системы, дает новое
понимание словесного творчества, защищая его
от платоновских нападок. Отказ от теории идей,
от внепредметного, вневременного существова-
ния общих понятий и родовых сущностей ме-
няет все понимание искусства. Аристотель вос-
принимает у Платона учение о подражании как
об отличительном признаке искусства, но пола-
гает объект подражания в самих вещах, а не вне
их. Это по-новому толкуемое «подражание» за-
меняет платоновскую теорию «божественного
безумия». Подражание становится источником
всякой творческой деятельности и родовым при-
знаком искусств, в число которых теперь впер-
вые включаются вместе поэзия, музыка, скульп-
тура, живопись. Платоновскую мысль, что под-
ражание лишь копирует действительность и
само не создает реальных ценностей, Аристотель
опровергает утверждением, что именно подра-
жание дает знание родовой сущности вещей —
оно воспроизводит человеческую жизнь не в ее
единичных, случайных фактах, а в ее очищен-
ной от всего случайного необходимой связи яв-
лений. Это свойство искусства показывать не от-
дельные факты, а человеческие «возможности»,
не то, что произошло один раз, а то, что должно
случаться в силу психологического правдоподо-
бия, сближало искусство с философией и дела-
ло в глазах Аристотеля поэзию более филосо-
фичной, чем историю.
Приписав подражательным искусствам крите-
рий истинности, заключенный в них самих, Ари-
стотель точно так же решает и вопрос об этиче-
ском и нравственном эффекте. Мерило ценности
искусства он вводит в само искусство — его
целью он объявляет особое «очистительное» (ка-
тарсис) наслаждение. Пифагорейское очище-
ние — лечение страстей путем возбуждения их
до известной меры (с помощью музыки) — Ари-
стотель рассматривает как естественный психо-
логический процесс, делает его видовым при-
знаком поэзии и тем самым снимает с нее упрек
Платона в возбуждении низких инстинктов.
В основу характеристики разных искусств
Аристотель кладет способ подражания (в чем
оно состоит, чему подражает и как происходит)
и, рассматривая поэзию, ставит драму выше эпо-
са, так как в ней подражание выступает в наи-
более чистом виде, и трагедию выше комедии,
так как ее объекты более достойны подражания.
Разбору трагедии посвящена большая часть тех
разделов, которые входят в сохранившийся до
нас текст «Поэтики». Трагедия названа воспро-
изведением события серьезного (в отличие от
комедии), совершаемого посредством именно
действия, а не рассказа (в отличие от эпоса), и
с помощью особого распределения стихов и пе-
ния (в отличие от дифирамба); к ее структуре
предъявлено требование законченности дейст-
вия и ограниченности объема. Действие должно
быть достаточно длинно, чтобы в него вмеща-
лось развитие катастрофы, и достаточно кратко,
чтобы восприниматься как целое. Конечной
целью и специфической функцией трагедии
Аристотель считает очищение (катарсис) эмо-
ций страха и жалости путем возбуждения этих
же эмоций. В трагедии Аристотель различает
шесть элементов: фабулу, характеры, мысль,
сценическую обстановку, слог, мелодию. Из них
самой важной он считает фабулу («состав со-
бытий»), так как трагедия в существе своем
подражает именно действию, событиям. Всякая
фабула должна быть цельна и едина, и это един-
ство придает ей, по мысли Аристотеля, не фи-
гура героя, а органическая, логически неизбеж-
ная связь происшествий, единство действия, из
которого исключается все случайное, побочное.
Содержание фабулы должно вызывать у зрите-
лей эмоции страха и жалости, и Аристотель об-
общает наиболее «трагические» темы: рассказы
о страдании с несчастным концом, где все про-
исходит неожиданно для действующих лиц, где
беда возникает как результат человеческой
ошибки, а не простого случая.
Этот мотив «трагической ошибки», когда зло-
ключения героя вытекают не из его порочности,
а из неведения, признается в «Поэтике» одной
из главных черт обрисовки характеров в траге-
дии. Разбору характеров Аристотель уделяет
гораздо меньше места, чем фабуле. Он требует,
чтобы они были благородны, последовательно
выдержаны и не менялись в ходе действия.
Остальные четыре элемента Аристотель рас-
сматривает бегло и лишь о слоге говорит по
существу.
Зрелище (костюмы и т. д.) он почти не свя-
зывает с поэтической силой. Допуская, что тра-
гическая эмоция может зависеть от зрительных
впечатлений, он предпочитает, чтобы она вызы-
валась самой фабулой. Из того, что делает тра-
гедию приятным зрелищем, он признает самым
важным лирический (музыкальный) элемент.
Касаясь словесного выражения мысли, Ари-
стотель обращается к риторике и рассматривает
употребление аргументов и способы вызывания
эмоций. Он дает набросок общей теории поэти-
ческого слога, различая язык прозаический и
поэтический и классифицируя свойства поэти-
ческого языка. Более подробно учение о слоге
