Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1
Подождите немного. Документ загружается.

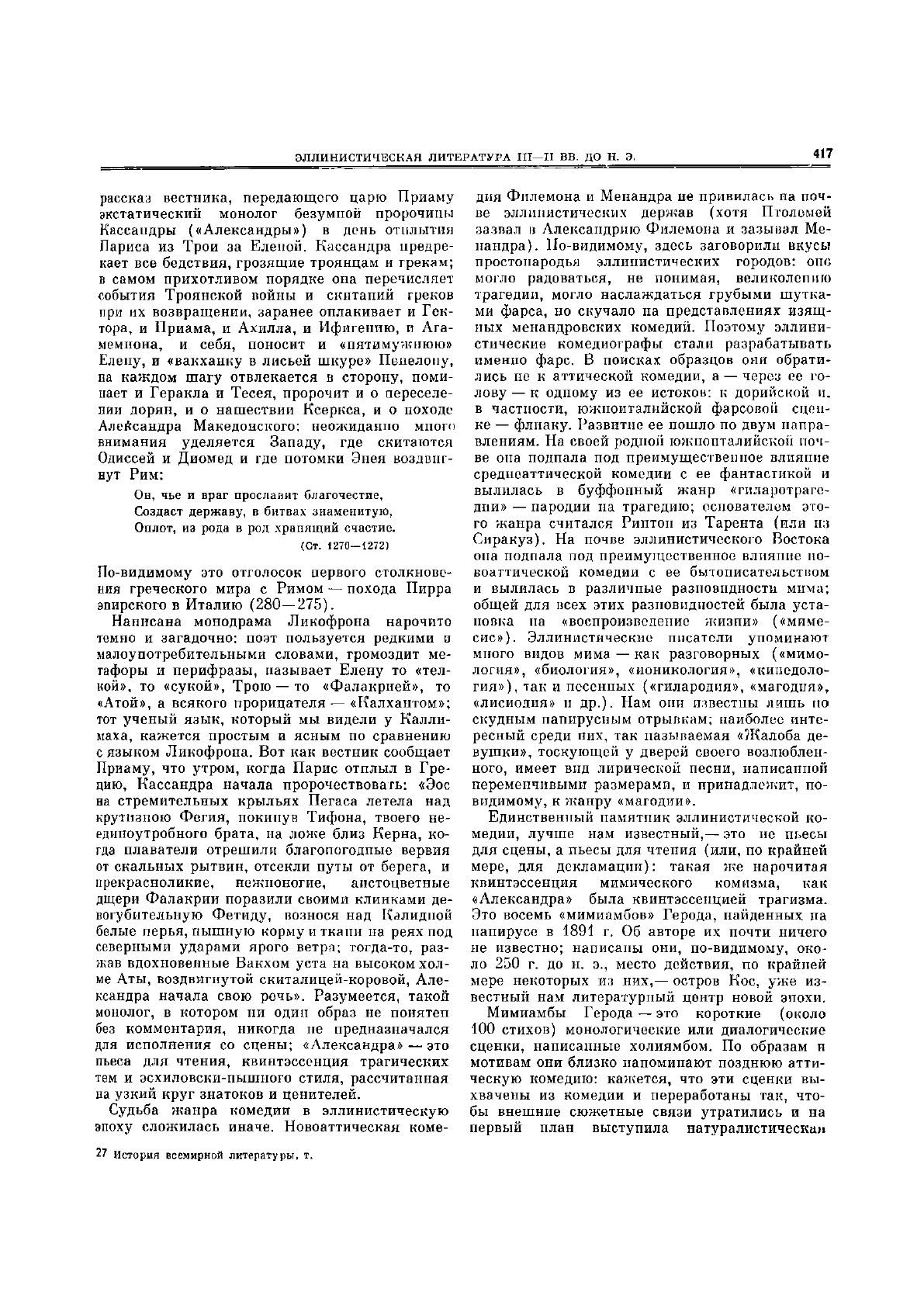
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
417
рассказ вестника, передающего царю Приаму
экстатический монолог безумной пророчицы
Кассандры («Александры») в день отплытия
Париса из Трои за Еленой. Кассандра предре-
кает все бедствия, грозящие троянцам и грекам;
в самом прихотливом порядке она перечисляет
события Троянской войны и скитаний греков
при их возвращении, заранее оплакивает и Гек-
тора, и Приама, и Ахилла, и Ифигению, и Ага-
мемнона, и себя, поносит и «пятимужнюю»
Елену, и «вакханку в лисьей шкуре» Пенелопу,
па каждом шагу отвлекается в сторону, поми-
нает и Геракла и Тесея, пророчит и о переселе-
нии дорян, и о нашествии Ксеркса, и о походе
Александра Македонского; неожиданно много
внимания уделяется Западу, где скитаются
Одиссей и Диомед и где потомки Энея воздвиг-
нут Рим:
Он, чье и враг прославит благочестие,
Создаст державу, в битвах знаменитую,
Оплот, из рода в род храпящий счастие.
(Ст. 1270—1272)
По-видимому это отголосок первого столкнове-
ния греческого мира с Римом — похода Пирра
эпирского в Италию (280—275).
Написана монодрама Ликофрона нарочито
темно и загадочно: поэт пользуется редкими и
малоупотребительными словами, громоздит ме-
тафоры и перифразы, называет Елену то «тел-
кой», то «сукой», Трою — то «Фалакрией», то
«Атой», а всякого прорицателя— «Калхантом»;
тот ученый язык, который мы видели у Калли-
маха, кажется простым и ясным по сравнению
с языком Ликофрона. Вот как вестник сообщает
Приаму, что утром, когда Парис отплыл в Гре-
цию, Кассандра начала пророчествовать: «Эос
на стремительных крыльях Пегаса летела над
крутизною Фегия, покинув Тифона, твоего не-
единоутробного брата, иа ложе близ Керна, ко-
гда плаватели отрешили благопогодиые вервия
от скальных рытвин, отсекли путы от берега, и
прекрасноликие, нежноногие, аистоцветные
дщери Фалакрии поразили своими клинками де-
вогубительную Фетиду, вознося над Калидной
белые перья, пышную корму и ткани на реях под
северными ударами ярого ветра; тогда-то, раз-
жав вдохновенные Вакхом уста на высоком хол-
ме Аты, воздвигнутой скиталицей-коровой, Але-
ксандра начала свою речь». Разумеется, такой
монолог, в котором ни один образ не понятен
без комментария, никогда не предназначался
для исполнения со сцены; «Александра» — это
пьеса для чтения, квинтэссенция трагических
тем и эсхиловски-пышного стиля, рассчитанная
на узкий круг знатоков и ценителей.
Судьба жанра комедии в эллинистическую
эпоху сложилась иначе. Новоаттическая коме-
27 История всемирной литературы, т.
дия Филемона и Менандра не привилась па поч-
ве эллинистических держав (хотя Птолемей
зазвал в Александрию Филемона и зазывал Ме-
нандра). По-видимому, здесь заговорили вкусы
простонародья эллинистических городов: оно
могло радоваться, не понимая, великолепию
трагедии, могло наслаждаться грубыми шутка-
ми фарса, но скучало на представлениях изящ-
ных менандровских комедий. Поэтому эллини-
стические комедиографы стали разрабатывать
именно фарс. В поисках образцов они обрати-
лись не к аттической комедии, а — через ее го-
лову— к одному из ее истоков: к дорийской и,
в частности, южноиталийской фарсовой сцеп-
ке — флиаку. Развитие ее пошло по двум напра-
влениям. На своей родной южноиталийской поч-
ве она подпала под преимущественное влияние
средиеаттической комедии с ее фантастикой и
вылилась в буффонный жанр «гиларотраге-
дии» — пародии на трагедию; основателем это-
го жанра считался Риитон из Тарента (или из
Сиракуз). На почве эллинистического Востока
она подпала под преимущественное влияние по-
воаттической комедии с ее бытописательством
и вылилась в различные разновидности мима;
общей для всех этих разновидностей была уста-
новка на «воспроизведение жизни» («миме-
сис»). Эллинистические писатели упоминают
много видов мима — как разговорных («мимо-
логия», «биология», «ионикология», «кииедоло-
гия»), так и песенных («гилародия», «магодия»,
«лисиодия» и др.). Нам они известны лишь по
скудным папирусным отрывкам; наиболее инте-
ресный среди них, так называемая «Жалоба де-
вушки», тоскующей у дверей своего возлюблен-
ного, имеет вид лирической песни, написанной
переменчивыми размерами, и принадлежит, по-
видимому, к жанру «магодии».
Единственный памятник эллинистической ко-
медии, лучше нам известный,— это не пьесы
для сцены, а пьесы для чтения (или, по крайней
мере, для декламации): такая же нарочитая
квинтэссенция мимического комизма, как
«Александра» была квинтэссенцией трагизма.
Это восемь «мимиамбов» Герода, найденных па
папирусе в 1891 г. Об авторе их почти ничего
не известно; написаны они, по-видимому, око-
ло 250 г. до н. э., место действия, по крайней
мере некоторых из них,— остров Кос, уже из-
вестный нам литературный центр новой эпохи.
Мимиамбы Герода — это короткие (около
100 стихов) монологические или диалогические
сценки, написанные холиямбом. По образам и
мотивам они близко напоминают позднюю атти-
ческую комедию: кажется, что эти сценки вы-
хвачены из комедии и переработаны так, что-
бы внешние сюжетные связи утратились и на
первый план выступила натуралистическая
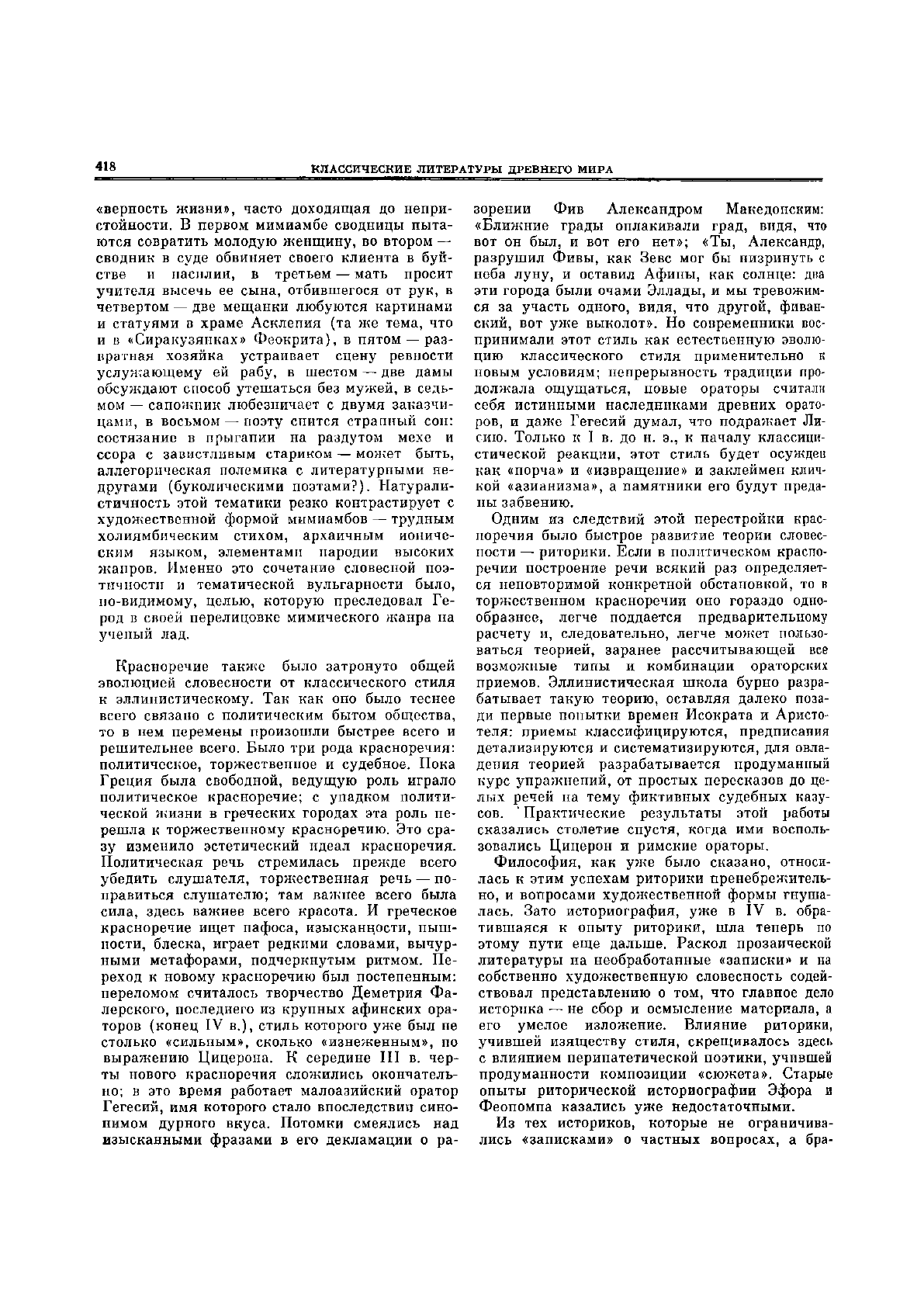
418 КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
«верность жизни», часто доходящая до непри-
стойности. В первом мимиамбе сводницы пыта-
ются совратить молодую женщину, во втором —
сводник в суде обвиняет своего клиента в буй-
стве и насилии, в третьем — мать просит
учителя высечь ее сына, отбившегося от рук, в
четвертом — две мещанки любуются картинами
и статуями в храме Асклепия (та же тема, что
и в «Сиракузянках» Феокрита), в пятом — раз-
вратная хозяйка устраивает сцену ревности
услужающему ей рабу, в шестом — две дамы
обсуждают способ утешаться без мужей, в седь-
мом — сапожник любезничает с двумя заказчи-
цами, в восьмом — поэту спится странный сон:
состязание в прыгапии на раздутом мехе и
ссора с завистливым стариком — может быть,
аллегорическая полемика с литературными не-
другами (буколическими поэтами?). Натурали-
стичность этой тематики резко контрастирует с
художественной формой мимиамбов — трудным
холиямбическим стихом, архаичным иониче-
ским языком, элементами пародии высоких
жанров. Именно это сочетание словесной поэ-
тичности и тематической вульгарности было,
по-видимому, целью, которую преследовал Ге-
род в своей перелицовке мимического жанра на
ученый лад.
Красноречие также было затронуто общей
эволюцией словесности от классического стиля
к эллинистическому. Так как оно было теснее
всего связано с политическим бытом общества,
то в нем перемены произошли быстрее всего и
решительнее всего. Было три рода красноречия:
политическое, торжественное и судебное. Пока
Греция была свободной, ведущую роль играло
политическое красноречие; с упадком полити-
ческой жизни в греческих городах эта роль пе-
решла к торжественному красноречию. Это сра-
зу изменило эстетический идеал красноречия.
Политическая речь стремилась прежде всего
убедить слушателя, торжественная речь — по-
правиться слушателю; там важнее всего была
сила, здесь важнее всего красота. И греческое
красноречие ищет пафоса, изысканцости, пыш-
ности, блеска, играет редкими словами, вычур-
ными метафорами, подчеркнутым ритмом. Пе-
реход к новому красноречию был постепенным:
переломом считалось творчество Деметрия Фа-
лерского, последнего из крупных афинских ора-
торов (конец IV в.), стиль которого уже был не
столько «сильным», сколько «изнеженным», по
выражению Цицерона. К середине III в. чер-
ты нового красноречия сложились окончатель-
но; в это время работает малоазийский оратор
Гегесий, имя которого стало впоследствии сино-
пимом дурного вкуса. Потомки смеялись над
изысканными фразами в его декламации о ра-
зорении Фив Александром Македонским:
«Ближние грады оплакивали град, видя, что
вот он был, и вот его нет»; «Ты, Александр,
разрушил Фивы, как Зевс мог бы низринуть с
неба луну, и оставил Афины, как солнце: два
эти города были очами Эллады, и мы тревожим-
ся за участь одного, видя, что другой, фиван-
ский, вот уже выколот». Но современники вос-
принимали этот стиль как естественную эволю-
цию классического стиля применительно к
новым условиям; непрерывность традиции про-
должала ощущаться, новые ораторы считали
себя истинными наследниками древних орато-
ров, и даже Гегесий думал, что подражает Ли-
сию. Только к I в. до н. э., к началу классици-
стической реакции, этот стиль будет осужден
как «порча» и «извращение» и заклеймен клич-
кой «азианизма», а памятники его будут преда-
ны забвению.
Одним из следствий этой перестройки крас-
норечия было быстрое развитие теории словес-
ности — риторики. Если в политическом краспо-
речии построение речи всякий раз определяет-
ся неповторимой конкретной обстановкой, то в
торжественном красноречии оно гораздо одно-
образнее, легче поддается предварительному
расчету и, следовательно, легче может пользо-
ваться теорией, заранее рассчитывающей все
возможные типы и комбинации ораторских
приемов. Эллинистическая школа бурно разра-
батывает такую теорию, оставляя далеко поза-
ди первые попытки времен Исократа и Аристо-
теля: приемы классифицируются, предписания
детализируются и систематизируются, для овла-
дения теорией разрабатывается продуманный
курс упражнений, от простых пересказов до це-
лых речей на тему фиктивных судебных казу-
сов. ' Практические результаты этой работы
сказались столетие спустя, когда ими восполь-
зовались Цицерон и римские ораторы.
Философия, как уже было сказано, относи-
лась к этим успехам риторики пренебреяштель-
но, и вопросами художественной формы гнуша-
лась. Зато историография, уже в IV в. обра-
тившаяся к опыту риторики, шла теперь по
этому пути еще дальше. Раскол прозаической
литературы на необработанные «записки» и на
собственно художественную словесность содей-
ствовал представлению о том, что главное дело
историка — не сбор и осмысление материала, а
его умелое изложение. Влияние риторики,
учившей изяществу стиля, скрещивалось здесь
с влиянием перипатетической поэтики, учившей
продуманности композиции «сюжета». Старые
опыты риторической историографии Эфора и
Феопомпа казались уже недостаточными.
Из тех историков, которые не ограничива-
лись «записками» о частных вопросах, а бра-
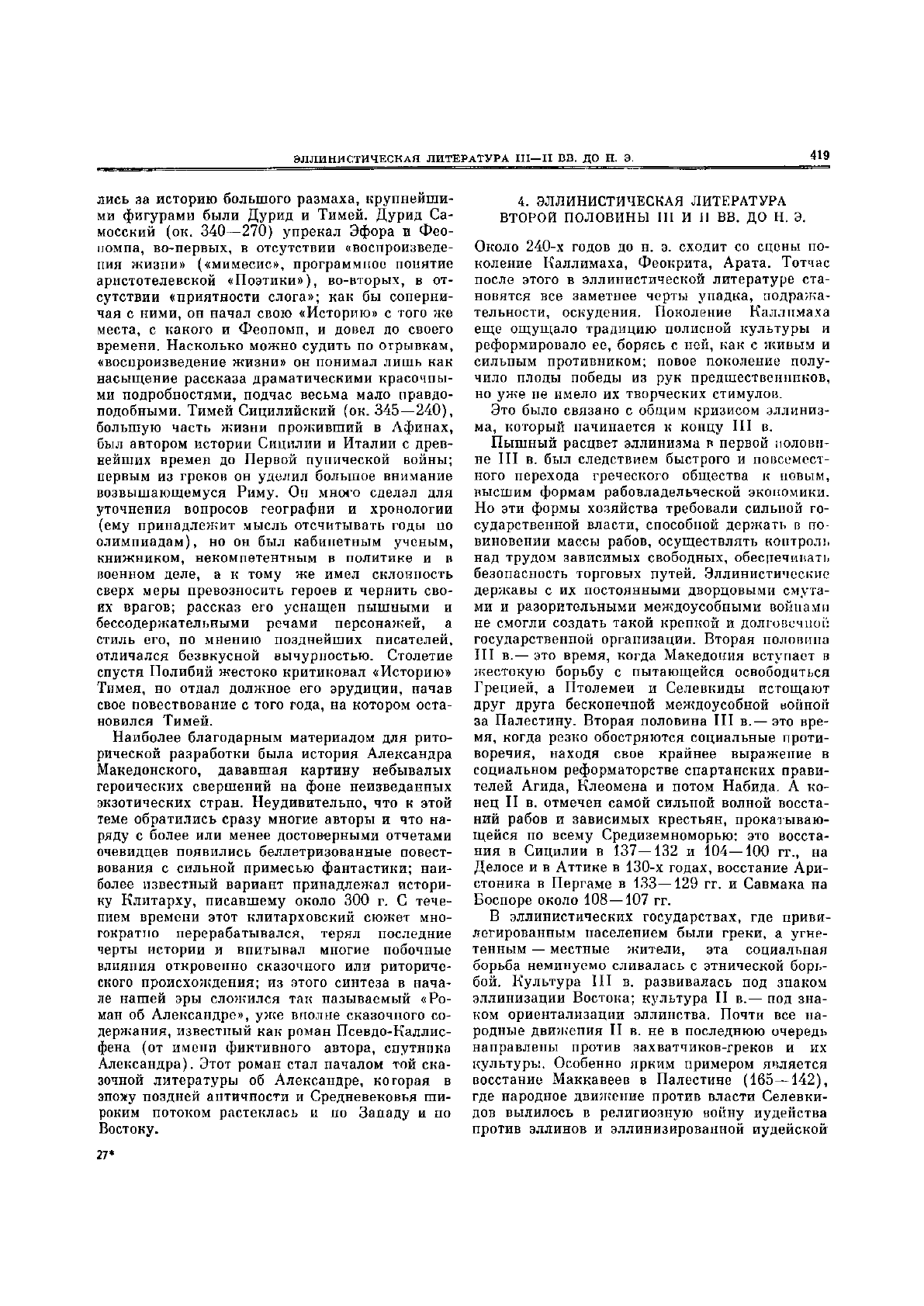
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
419
лись за историю большого размаха, крупнейши-
ми фигурами были Дурид и Тимей. Дурид Са-
мосский (ок. 340—270) упрекал Эфора и Фео-
помпа, во-первых, в отсутствии «воспроизведе-
ния жизни» («мимесис», программное понятие
аристотелевской «Поэтики»), во-вторых, в от-
сутствии «приятности слога»; как бы соперни-
чая с ними, он начал свою «Историю» с того же
места, с какого и Феопомп, и довел до своего
времени. Насколько можно судить по отрывкам,
«воспроизведение жизни» он понимал лишь как
насыщение рассказа драматическими красочны-
ми подробностями, подчас весьма мало правдо-
подобными. Тимей Сицилийский (ок. 345—240),
большую часть жизни проживший в Афинах,
был автором истории Сицилии и Италии с древ-
нейших времен до Первой пунической войны;
первым из греков он уделил большое внимание
возвышающемуся Риму. Он много сделал для
уточнения вопросов географии и хронологии
(ему принадлежит мысль отсчитывать годы но
олимпиадам), но он был кабинетным ученым,
книжником, некомпетентным в политике и в
военном деле, а к тому же имел склонность
сверх меры превозносить героев и чернить сво-
их врагов; рассказ его уснащен пышными и
бессодержательными речами персонажей, а
стиль его, по мнению позднейших писателей,
отличался безвкусной вычурностью. Столетие
спустя Полибий жестоко критиковал «Историю»
Тимея, но отдал должное его эрудиции, начав
свое повествование с того года, на котором оста-
новился Тимей.
Наиболее благодарным материалом для рито-
рической разработки была история Александра
Македонского, дававшая картину небывалых
героических свершений на фоне неизведанных
экзотических стран. Неудивительно, что к этой
теме обратились сразу многие авторы и что на-
ряду с более или менее достоверными отчетами
очевидцев появились беллетризованные повест-
вования с сильной примесью фантастики; наи-
более известный вариант принадлежал истори-
ку Клитарху, писавшему около 300 г. С тече-
нием времени этот клитарховский сюжет мно-
гократно перерабатывался, терял последние
черты истории и впитывал многие побочные
влияния откровенно сказочного или риториче-
ского происхождения; из этого синтеза в нача-
ле нашей эры сложился так называемый «Ро-
ман об Александре», уже вполне сказочного со-
держания, известный как роман Псевдо-Каллис-
фена (от имени фиктивного автора, спутника
Александра). Этот роман стал началом той ска-
зочной литературы об Александре, которая в
эпоху поздней античности и Средневековья ши-
роким потоком растеклась и по Западу и по
Востоку.
4. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ III И IJ ВВ. ДО Н. Э.
Около 240-х годов до н. э. сходит со сцены по-
коление Каллимаха, Феокрита, Арата. Тотчас
после этого в эллинистической литературе ста-
новятся все заметнее черты упадка, подража-
тельности, оскудения. Поколение Каллимаха
еще ощущало традицию полисной культуры и
реформировало ее, борясь с ней, как с живым и
сильным противником; новое поколение полу-
чило плоды победы из рук предшественников,
но уже не имело их творческих стимулов.
Это было связано с общим кризисом эллиниз-
ма, который начинается к концу III в.
Пышный расцвет эллинизма в первой полови-
не III в. был следствием быстрого и повсемест-
ного перехода греческого общества к новым,
высшим формам рабовладельческой экономики.
Но эти формы хозяйства требовали сильной го-
сударственной власти, способной держать в по-
виновении массы рабов, осуществлять контроль
над трудом зависимых свободных, обеспечивать
безопасность торговых путей. Эллинистические
державы с их постоянными дворцовыми смута-
ми и разорительными междоусобными войнами
не смогли создать такой крепкой и долговечной
государственной организации. Вторая половина
III в.— это время, когда Македония вступает в
жестокую борьбу с пытающейся освободиться
Грецией, а Птолемеи и Селевкиды истощают
друг друга бесконечной междоусобной войной
за Палестину. Вторая половина III в.— это вре-
мя, когда резко обостряются социальные проти-
воречия, находя свое крайнее выражение в
социальном реформаторстве спартанских прави-
телей Агида, Клеомена и потом Набида. А ко-
нец II в. отмечен самой сильной волной восста-
ний рабов и зависимых крестьян, прокатываю-
щейся по всему Средиземноморью: это восста-
ния в Сицилии в 137—132 и 104—100 гг., на
Делосе и в Аттике в 130-х годах, восстание Ари-
стоника в Пергаме в 133—129 гг. и Савмака на
Боспоре около 108—107 гг.
В эллинистических государствах, где приви-
легированным населением были греки, а угне-
тенным — местные жители, эта социальная
борьба неминуемо сливалась с этнической борь-
бой. Культура III в. развивалась под знаком
эллинизации Востока; культура II в.— под зна-
ком ориентализации эллинства. Почти все на-
родные движения II в. не в последнюю очередь
направлены против захватчиков-греков и их
культуры. Особенно ярким примером является
восстание Маккавеев в Палестине (165—142),
где народное движение против власти Селевки-
дов вылилось в религиозную войну иудейства
против эллинов и эллинизированной иудейской
27
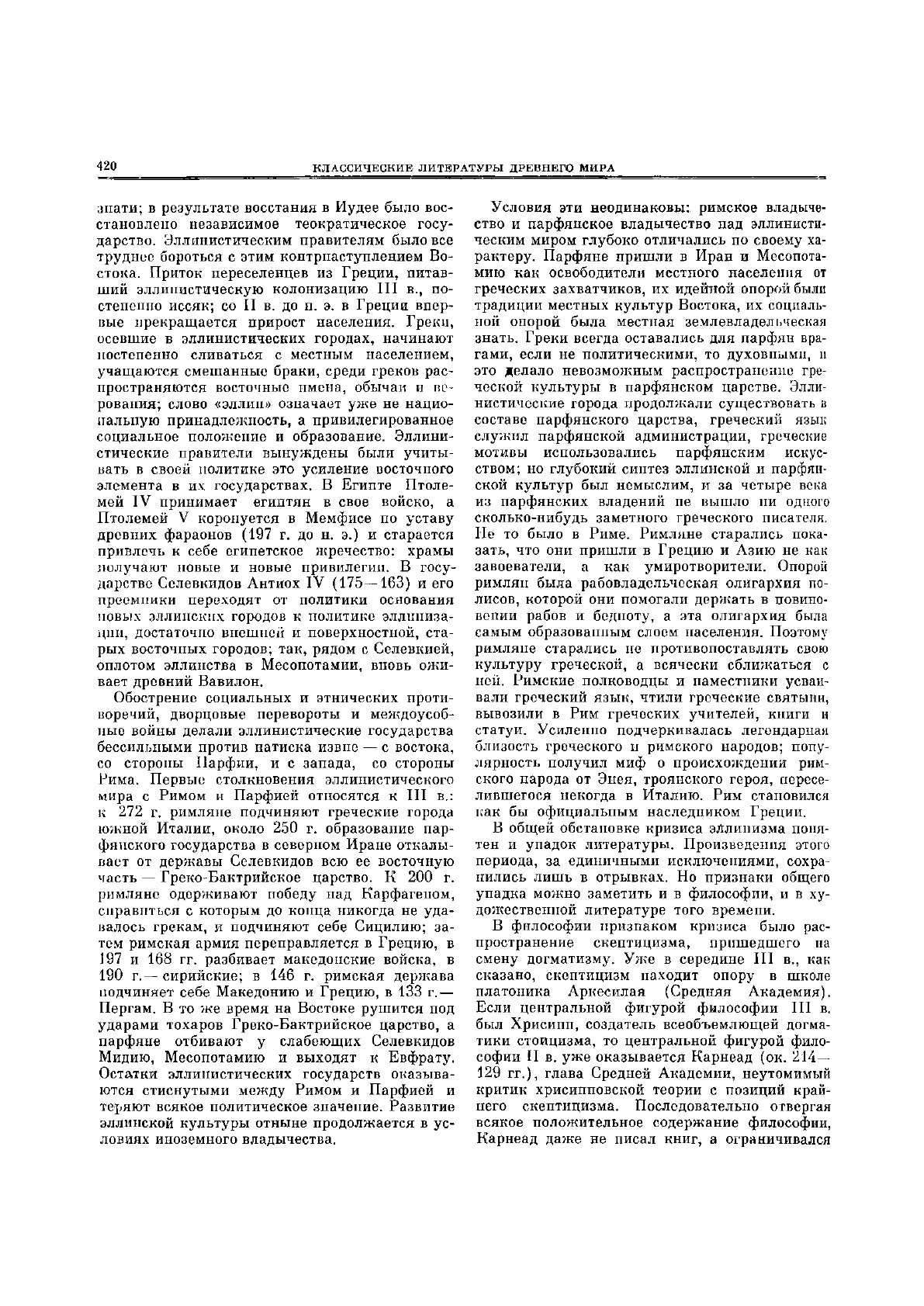
420
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
знати; в результате восстания в Иудее было вос-
становлено независимое теократическое госу-
дарство. Эллинистическим правителям было все
труднее бороться с этим контрнаступлением Во-
стока. Приток переселенцев из Греции, питав-
ший эллинистическую колонизацию III в., по-
степенно иссяк; со II в. до н. э. в Греции впер-
вые прекращается прирост населения. Греки,
осевшие в эллинистических городах, начинают
постепенно сливаться с местным населением,
учащаются смешанные браки, среди греков рас-
пространяются восточные имена, обычаи и ве-
рования; слово «эллии» означает уже не нацио-
нальную принадлежность, а привилегированное
социальное положение и образование. Эллини-
стические правители вынуждены были учиты-
вать в своей политике это усиление восточного
элемента в их государствах. В Египте Птоле-
мей IV принимает египтян в свое войско, а
Птолемей V коронуется в Мемфисе по уставу
древних фараонов (197 г. до н. э.) и старается
привлечь к себе египетское жречество: храмы
получают новые и новые привилегии. В госу-
дарстве Сслевкидов Антиох IV (175—163) и его
преемники переходят от политики основания
новых эллинских городов к политике эллиниза-
ции, достаточно внешней и поверхностной, ста-
рых восточных городов; так, рядом с Селевкией,
оплотом эллинства в Месопотамии, вновь ожи-
вает древний Вавилон.
Обострение социальных и этнических проти-
воречий, дворцовые перевороты и междоусоб-
ные войны делали эллинистические государства
бессильными против натиска извне — с востока,
со стороны Парфии, и с запада, со стороны
Рима. Первые столкновения эллинистического
мира с Римом и Парфией относятся к III в.:
к 272 г. римляне подчиняют греческие города
южной Италии, около 250 г. образование пар-
фянского государства в северном Иране откалы-
вает от державы Селевкидов всю ее восточную
часть — Греко-Бактрийское царство. К 200 г.
римляне одерживают победу над Карфагеном,
справиться с которым до конца никогда не уда-
валось грекам, и подчиняют себе Сицилию; за-
тем римская армия переправляется в Грецию, в
197 и 168 гг. разбивает македонские войска, в
190 г.— сирийские; в 146 г. римская держава
подчиняет себе Македонию и Грецию, в 133 г.—
Пергам. В то же время на Востоке рушится под
ударами тохаров Греко-Бактрийское царство, а
парфяне отбивают у слабеющих Селевкидов
Мидию, Месопотамию и выходят к Евфрату.
Оста/гки эллинистических государств оказыва-
ются стиснутыми между Римом и Парфией и
теряют всякое политическое значение. Развитие
эллинской культуры отныне продолжается в ус-
ловиях иноземного владычества.
Условия эти неодинаковы: римское владыче-
ство и парфянское владычество над эллинисти-
ческим миром глубоко отличались по своему ха-
рактеру. Парфяне пришли в Иран и Месопота-
мию как освободители местного населения от
греческих захватчиков, их идейной опорой были
традиции местных культур Востока, их социаль-
ной опорой была местная землевладельческая
знать. Греки всегда оставались для парфян вра-
гами, если не политическими, то духовными, и
это делало невозможным распространение гре-
ческой культуры в парфянском царстве. Элли-
нистические города продолжали существовать в
составе парфянского царства, греческий язык
служил парфянской администрации, греческие
мотивы использовались парфянским искус-
ством; но глубокий синтез эллинской и парфян-
ской культур был немыслим, и за четыре века
из парфянских владений пе вышло ни одного
сколько-нибудь заметного греческого писателя.
Ие то было в Риме. Римляне старались пока-
зать, что они пришли в Грецию и Азию не как
завоеватели, а как умиротворители. Опорой
римляи была рабовладельческая олигархия по-
лисов, которой они помогали держать в повино-
вении рабов и бедноту, а эта олигархия была
самым образованным слоем населения. Поэтому
римляне старались ие противопоставлять свою
культуру греческой, а всячески сближаться с
ней. Римские полководцы и наместники усваи-
вали греческий язык, чтили греческие святыни,
вывозили в Рим греческих учителей, книги и
статуи. Усиленно подчеркивалась легендарная
близость греческого и римского народов; попу-
лярность получил миф о происхождении рим-
ского народа от Энея, троянского героя, пересе-
лившегося некогда в Италию. Рим становился
как бы официальным наследником Греции.
В общей обстановке кризиса эллинизма поня-
тен и упадок литературы. Произведения этого
периода, за единичными исключениями, сохра-
нились лишь в отрывках. Но признаки общего
упадка можно заметить и в философии, и в ху-
дожественной литературе того времени.
В философии признаком кризиса было рас-
пространение скептицизма, пришедшего на
смену догматизму. Уя^е в середине III в., как
сказано, скептицизм находит опору в школе
платоника Аркесилая (Средняя Академия).
Если центральной фигурой философии III в.
был Хрисипп, создатель всеобъемлющей догма-
тики стоицизма, то центральной фигурой фило-
софии II в. уже оказывается Карнеад (ок. 214—
129 гг.), глава Средней Академии, неутомимый
критик хрисипповской теории с позиций край-
него скептицизма. Последовательно отвергая
всякое положительное содержание философии,
Карнеад даже не писал книг, а ограничивался
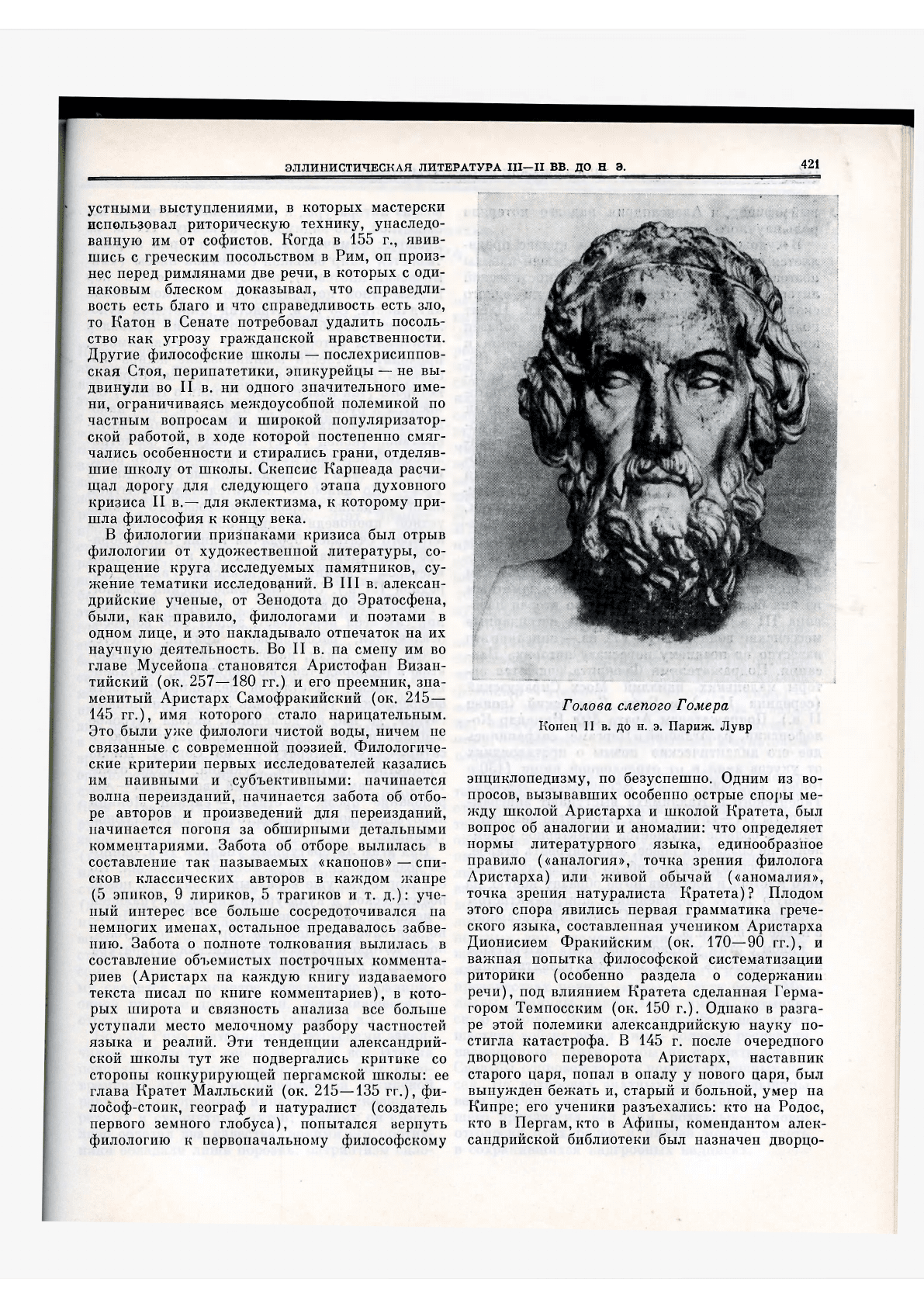
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
421
устными выступлениями, в которых мастерски
использовал риторическую технику, унаследо-
ванную им от софистов. Когда в 155 г., явив-
шись с греческим посольством в Рим, оп произ-
нес перед римлянами две речи, в которых с оди-
наковым блеском доказывал, что справедли-
вость есть благо и что справедливость есть зло,
то Катон в Сенате потребовал удалить посоль-
ство как угрозу гражданской нравственности.
Другие философские школы — послехрисиппов-
ская Стоя, перипатетики, эпикурейцы — не вы-
двинули во II в. ни одного значительного име-
ни, ограничиваясь междоусобной полемикой по
частным вопросам и широкой популяризатор-
ской работой, в ходе которой постепенно смяг-
чались особенности и стирались грани, отделяв-
шие школу от школы. Скепсис Карнеада расчи-
щал дорогу для следующего этапа духовного
кризиса II в.— для эклектизма, к которому при-
шла философия к концу века.
В филологии признаками кризиса был отрыв
филологии от художественной литературы, со-
кращение круга исследуемых памятников, су-
жение тематики исследований. В III в. алексан-
дрийские ученые, от Зенодота до Эратосфена,
были, как правило, филологами и поэтами в
одном лице, и это накладывало отпечаток на их
научную деятельность. Во II в. па смену им во
главе Мусейопа становятся Аристофан Визан-
тийский (ок. 257—180 гг.) и его преемник, зна-
менитый Аристарх Самофракийский (ок. 215—
145 гг.), имя которого стало нарицательным.
Это были уже филологи чистой воды, ничем не
связанные с современной поэзией. Филологиче-
ские критерии первых исследователей казались
им наивными и субъективными: начинается
волна переизданий, начинается забота об отбо-
ре авторов и произведений для переизданий,
начинается погоня за обширными детальными
комментариями. Забота об отборе вылилась в
составление так называемых «канонов» — спи-
сков классических авторов в каждом я^анре
(5 эпиков, 9 лириков, 5 трагиков и т. д.): уче-
ный интерес все больше сосредоточивался на
немногих именах, остальное предавалось забве-
нию. Забота о полноте толкования вылилась в
составление объемистых построчных коммента-
риев (Аристарх па каждую книгу издаваемого
текста писал по книге комментариев), в кото-
рых широта и связность анализа все больше
уступали место мелочному разбору частностей
языка и реалий. Эти тенденции александрий-
ской школы тут же подвергались критике со
стороны конкурирующей пергамской школы: ее
глава Кратет Малльский (ок. 215—135 гг.), фи-
лософ-стоик, географ и натуралист (создатель
первого земного глобуса), попытался вернуть
филологию к первоначальному философскому
Голова слепого Гомера
Конец II в. до н. э. Париж. Лувр
энциклопедизму, по безуспешно. Одним из во-
просов, вызывавших особенно острые споры ме-
жду школой Аристарха и школой Кратета, был
вопрос об аналогии и аномалии: что определяет
нормы литературного языка, единообразное
правило («аналогия», точка зрения филолога
Аристарха) или живой обычай («аномалия»,
точка зрения натуралиста Кратета)? Плодом
этого спора явились первая грамматика грече-
ского языка, составленная учеником Аристарха
Дионисием Фракийским (ок. 170—90 гг.), и
важная попытка философской систематизации
риторики (особенно раздела о содержании
речи), под влиянием Кратета сделанная Герма-
гором Темпосским (ок. 150 г.). Однако в разга-
ре этой полемики александрийскую науку по-
стигла катастрофа. В 145 г. после очередного
дворцового переворота Аристарх, наставник
старого царя, попал в опалу у нового царя, был
вынужден бежать и, старый и больной, умер на
Кипре; его ученики разъехались: кто на Родос,
кто в Пергам, кто в Афины, комендантом алек-
сандрийской библиотеки был назначен дворцо-
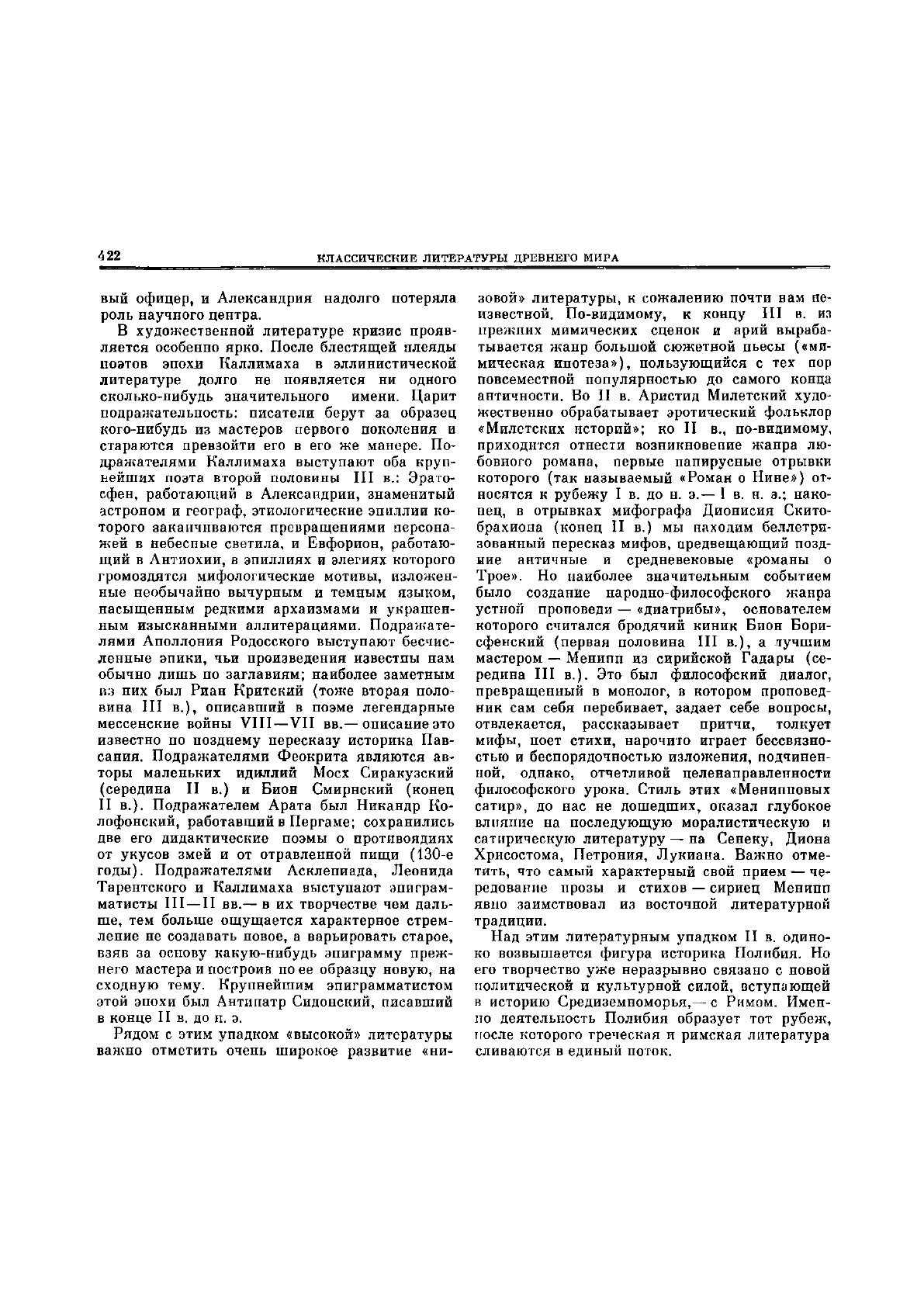
422
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО МИРА
вый офицер, и Александрия надолго потеряла
роль научного центра.
В художественной литературе кризис прояв-
ляется особенно ярко. После блестящей плеяды
поэтов эпохи Каллимаха в эллинистической
литературе долго не появляется ни одного
сколько-нибудь значительного имени. Царит
подражательность: писатели берут за образец
кого-нибудь из мастеров первого поколения и
стараются превзойти его в его же манере. По-
дран^ателями Каллимаха выступают оба круп-
нейших поэта второй половины III в.: Эрато-
сфен, работающий в Александрии, знаменитый
астроном и географ, этиологические эпиллии ко-
торого заканчиваются превращениями персона-
жей в небесные светила, и Евфорион, работаю-
щий в Антиохии, в эпиллиях и элегиях которого
громоздятся мифологические мотивы, изложен-
ные необычайно вычурным и темным языком,
насыщенным редкими архаизмами и украшен-
ным изысканными аллитерациями. Подражате-
лями Аполлония Родосского выступают бесчис-
ленные эпики, чьи произведения известны нам
обычно лишь по заглавиям; наиболее заметным
из них был Риан Критский (тоже вторая поло-
вина III в.), описавший в поэме легендарные
мессенские войны VIII—VII вв.— описание это
известно по позднему пересказу историка Пав-
сания. Подражателями Феокрита являются ав-
торы маленьких идиллий Мосх Сиракузский
(середина II в.) и Бион Смирнский (конец
II в.). Подражателем Арата был Никандр Ко-
лофонский, работавший в Пергаме; сохранились
две его дидактические поэмы о противоядиях
от укусов змей и от отравленной пищи (130-е
годы). Подражателями Асклепиада, Леонида
Тарентского и Каллимаха выступают эпиграм-
матисты III —II вв.— в их творчестве чем даль-
ше, тем больше ощущается характерное стрем-
ление не создавать новое, а варьировать старое,
взяв за основу какую-нибудь эпиграмму преж-
него мастера и построив по ее образцу новую, на
сходную тему. Крупнейшим эпиграмматистом
этой эпохи был Антипатр Сидонский, писавший
в конце II в. до н. э.
Рядом с этим упадком «высокой» литературы
важно отметить очень широкое развитие «ни-
зовой» литературы, к сожалению почти нам не-
известной. По-видимому, к концу III в. из
прежних мимических сценок и арий выраба-
тывается жанр большой сюжетной пьесы («ми-
мическая ипотеза»), пользующийся с тех пор
повсеместной популярностью до самого конца
античности. Во II в. Аристид Милетский худо-
жественно обрабатывает эротический фольклор
«Милетских историй»; ко II в., по-видимому,
приходится отнести возникновение жанра лю-
бовного романа, первые папирусные отрывки
которого (так называемый «Роман о Нине») от-
носятся к рубежу I в. до н. э.— I в. н. э.; нако-
нец, в отрывках мифографа Дионисия Скито-
брахиона (конец II в.) мы находим беллетри-
зованный пересказ мифов, предвещающий позд-
ние античные и средневековые «романы о
Трое». Но наиболее значительным событием
было создание народно-философского жанра
устной проповеди — «диатрибы», основателем
которого считался бродячий киник Бион Бори-
сфенский (первая половина III в.), а лучшим
мастером — Менипп из сирийской Гадары (се-
редина III в.). Это был философский диалог,
превращенный в монолог, в котором проповед-
ник сам себя перебивает, задает себе вопросы,
отвлекается, рассказывает притчи, толкует
мифы, поет стихи, нарочито играет бессвязно-
стью и беспорядочностью изложения, подчинен-
ной, однако, отчетливой целенаправленности
философского урока. Стиль этих «Менипповых
сатир», до нас не дошедших, оказал глубокое
влияние на последующую моралистическую и
сатирическую литературу — на Сенеку, Диона
Хрисостома, Петрония, Лукиана. Важно отме-
тить, что самый характерный свой прием — че-
редование прозы и стихов — сириец Менипп
явно заимствовал из восточной литературной
традиции.
Над этим литературным упадком II в. одино-
ко возвышается фигура историка Полибия. Но
его творчество уже неразрывно связано с новой
политической и культурной силой, вступающей
в историю Средиземноморья,— с Римом. Имен-
но деятельность Полибия образует тот рубеж,
после которого греческая и римская литература
сливаются в единый поток.
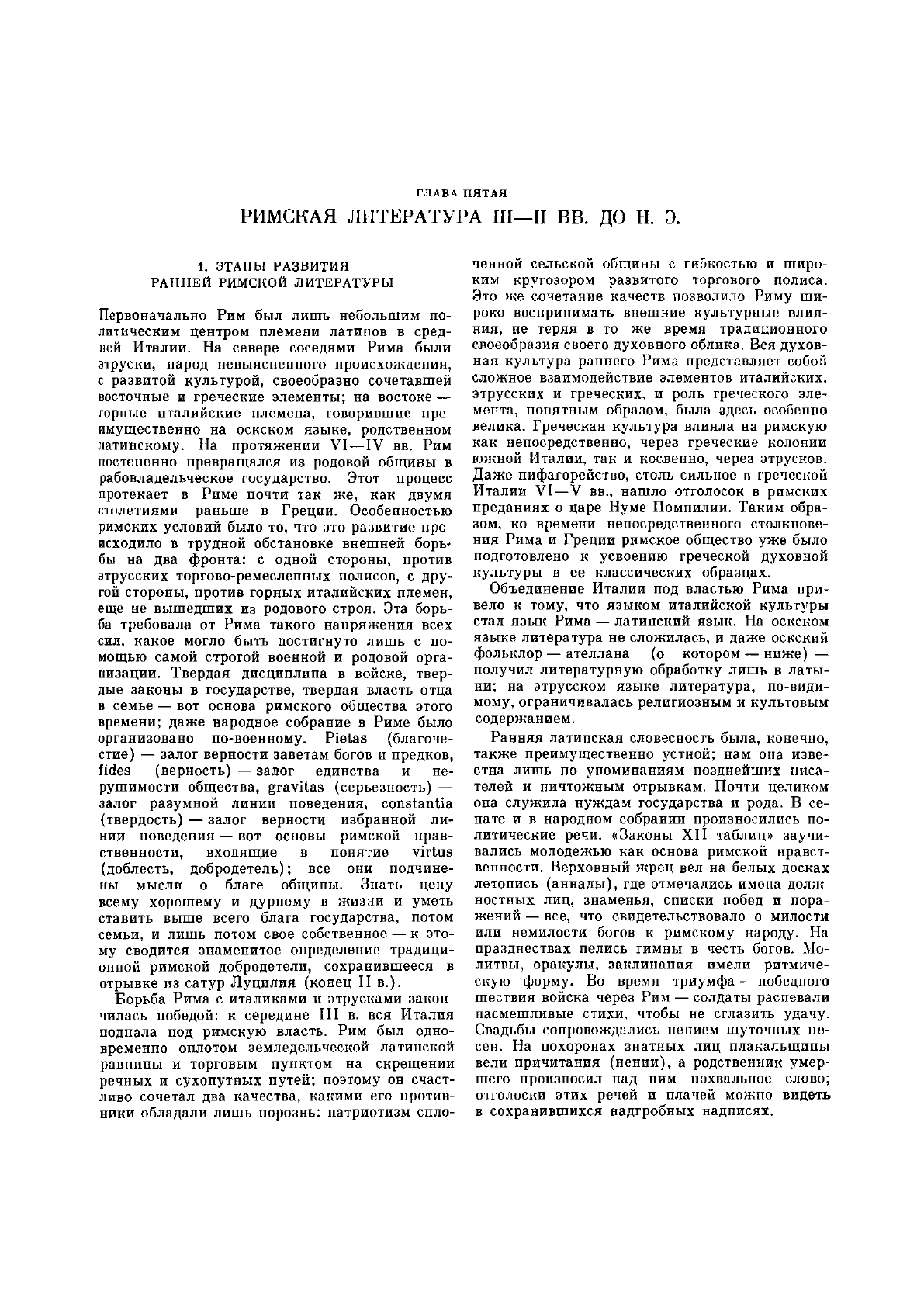
ГЛАВА ПЯТАЯ
РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
РАННЕЙ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Первоначально Рим был лишь небольшим по-
литическим центром племени латинов в сред-
ней Италии. На севере соседями Рима были
этруски, народ невыясненного происхождения,
с развитой культурой, своеобразно сочетавшей
восточные и греческие элементы; на востоке —
горные италийские племена, говорившие пре-
имущественно на оскском языке, родственном
латинскому. На протяжении VI
—
IV вв. Рим
постепенно превращался из родовой общины в
рабовладельческое государство. Этот процесс
протекает в Риме почти так же, как двумя
столетиями раньше в Греции. Особенностью
римских условий было то, что это развитие про-
исходило в трудной обстановке внешней борь-
бы на два фронта: с одной стороны, против
этрусских торгово-ремесленных полисов, с дру-
гой стороны, против горных италийских племен,
еще не вышедших из родового строя. Эта борь-
ба требовала от Рима такого напряжения всех
сил, какое могло быть достигнуто лишь с по-
мощью самой строгой военной и родовой орга-
низации. Твердая дисциплина в войске, твер-
дые законы в государстве, твердая власть отца
в семье — вот основа римского общества этого
времени; даже народное собрание в Риме было
организовано по-военному. Pietas (благоче-
стие) — залог верности заветам богов и предков,
fides (верность) — залог единства и не-
рушимости общества, gravitas (серьезность) —
залог разумной линии поведения, constantia
(твердость) — залог верности избранной ли-
нии поведения — вот основы римской нрав-
ственности, входящие в понятие virtus
(доблесть, добродетель); все они подчине-
ны мысли о благе общины. Знать цену
всему хорошему и дурному в жизни и уметь
ставить выше всего блага государства, потом
семьи, и лишь потом свое собственное — к это-
му сводится знаменитое определение традици-
онной римской добродетели, сохранившееся в
отрывке из сатур Луцилия (конец II в.).
Борьба Рима с италиками и этрусками закон-
чилась победой: к середине III в. вся Италия
подпала под римскую власть. Рим был одно-
временно оплотом земледельческой латинской
равнины и торговым пунктом на скрещении
речных и сухопутных путей; поэтому он счаст-
ливо сочетал два качества, какими его против-
ники обладали лишь порознь: патриотизм спло-
ченной сельской общины с гибкостью и широ-
ким кругозором развитого торгового полиса.
Это же сочетание качеств позволило Риму ши-
роко воспринимать внешние культурные влия-
ния, не теряя в то же время традиционного
своеобразия своего духовного облика. Вся духов-
ная культура раннего Рима представляет собой
сложное взаимодействие элементов италийских,
этрусских и греческих, и роль греческого эле-
мента, понятным образом, была здесь особенно
велика. Греческая культура влияла на римскую
как непосредственно, через греческие колонии
южной Италии, так и косвепно, через этрусков.
Даже пифагорейство, столь сильное в греческой
Италии VI—V вв., нашло отголосок в римских
преданиях о царе Нуме Помпилии. Таким обра-
зом, ко времени непосредственного столкнове-
ния Рима и Греции римское общество уже было
подготовлено к усвоению греческой духовной
культуры в ее классических образцах.
Объединение Италии под властью Рима при-
вело к тому, что языком италийской культуры
стал язык Рима — латинский язык. На оскском
языке литература не сложилась, и даже оскский
фольклор — ателлана (о котором — ниже) —
получил литературную обработку лишь в латы-
ни; на этрусском языке литература, по-види-
мому, ограничивалась религиозным и культовым
содержанием.
Ранняя латинская словесность была, конечно,
также преимущественно устной; нам она изве-
стна лишь по упоминаниям позднейших писа-
телей и ничтожным отрывкам. Почти целиком
она служила нуждам государства и рода. В се-
нате и в народном собрании произносились по-
литические речи. «Законы XII таблиц» заучи-
вались молодежью как основа римской нравст-
венности. Верховный жрец вел на белых досках
летопись (анналы), где отмечались имена долж-
ностных лиц, знаменья, списки побед и пора-
жений — все, что свидетельствовало о милости
или немилости богов к римскому народу. На
празднествах пелись гимны в честь богов. Мо-
литвы, оракулы, заклинания имели ритмиче-
скую форму. Во время триумфа — победного
шествия войска через Рим — солдаты распевали
насмешливые стихи, чтобы не сглазить удачу.
Свадьбы сопровождались пением шуточных пе-
сен. На похоронах знатных лиц плакальщицы
вели причитания (нении), а родственник умер-
шего произносил над ним похвальное слово;
отголоски этих речей и плачей можно видеть
в сохранившихся надгробных надписях.
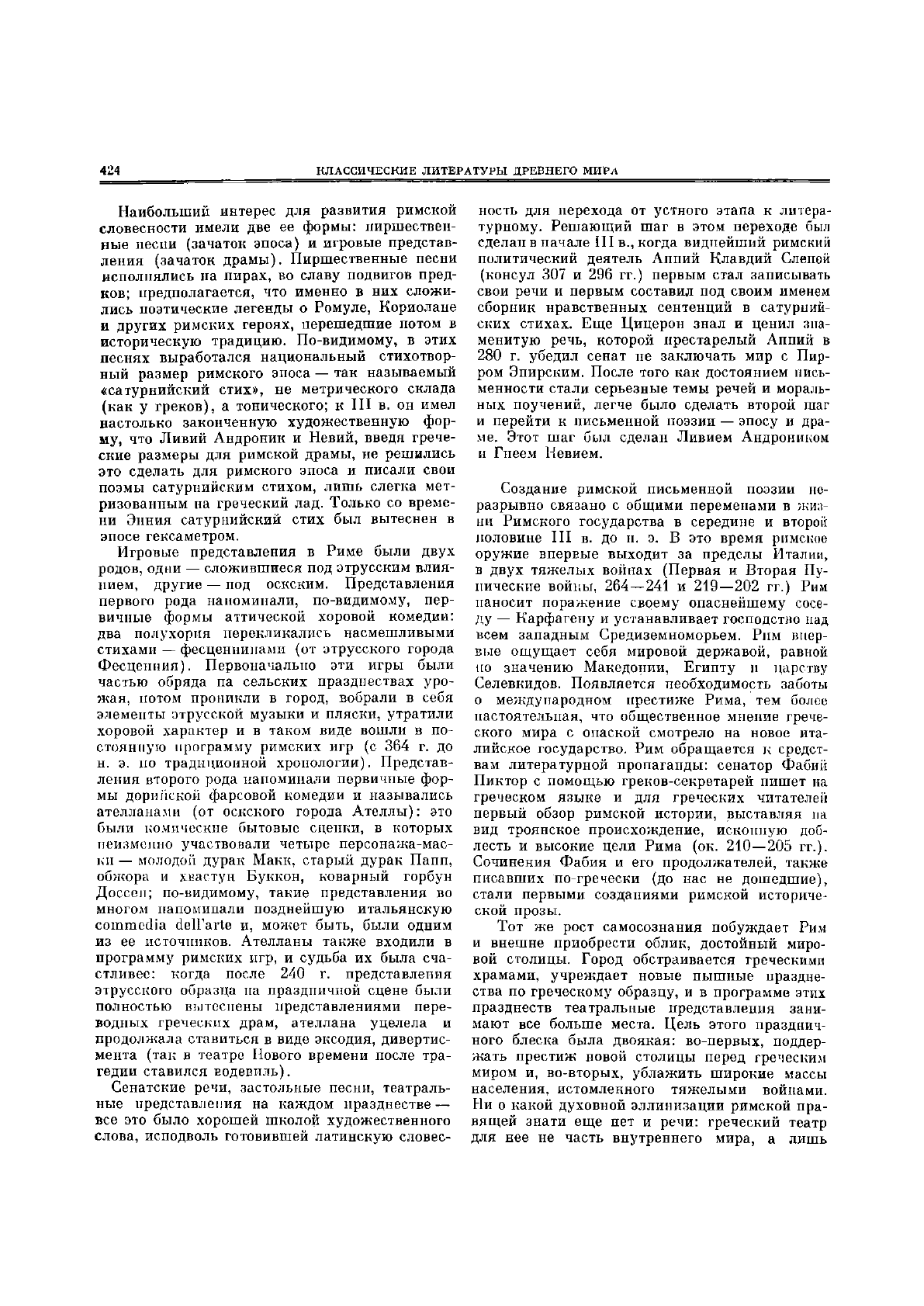
424
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
Наибольший интерес для развития римской
словесности имели две ее формы: пиршествен-
ные песий (зачаток эпоса) и игровые представ-
ления (зачаток драмы). Пиршественные песни
исполнялись на пирах, во славу подвигов пред-
ков; предполагается, что именно в них сложи-
лись поэтические легенды о Ромуле, Кориолане
и других римских героях, перешедшие потом в
историческую традицию. По-видимому, в этих
песнях выработался национальный стихотвор-
ный размер римского эпоса — так называемый
«сатурнийский стих», не метрического склада
(как у греков), а тонического; к III в. он имел
настолько законченную художественную фор-
му, что Ливий Андроник и Невий, введя грече-
ские размеры для римской драмы, не решились
это сделать для римского эпоса и писали свои
поэмы сатурнийским стихом, лишь слегка мет-
ризованным на греческий лад. Только со време-
ни Энния сатурнийский стих был вытеснен в
эпосе гексаметром.
Игровые представления в Риме были двух
родов, одни — сложившиеся под этрусским влия-
нием, другие — под оскским. Представления
первого рода напоминали, по-видимому, пер-
вичные формы аттической хоровой комедии:
два полухория перекликались насмешливыми
стихами — фесценнинами (от этрусского города
Фесценпия). Первоначально эти игры были
частью обряда па сельских празднествах уро-
жая, потом проникли в город, вобрали в себя
элементы этрусской музыки и пляски, утратили
хоровой характер и в таком виде вошли в по-
стоянную программу римских игр (с 364 г. до
н. э. по традиционной хронологии). Представ-
ления второго рода напоминали первичные фор-
мы дорийской фарсовой комедии и назывались
ателланами (от оскского города Ателлы): это
были комические бытовые сценки, в которых
неизменно участвовали четыре персонажа-мас-
ки — молодой дурак Макк, старый дурак Папп,
обжора и хвастун Буккон, коварный горбун
Доссел; по-видимому, такие представления во
многом напоминали позднейшую итальянскую
commedia dell'arte и, может быть, были одним
из ее источников. Ателланы также входили в
программу римских игр, и судьба их была сча-
стливее: когда после 240 г. представления
этрусского образца на праздничной сцене были
полностью вытеснены представлениями пере-
водных греческих драм, ателлана уцелела и
продолжала ставиться в виде эксодия, дивертис-
мента (так в театре Нового времени после тра-
гедии ставился Еодевиль).
Сенатские речи, застольные песни, театраль-
ные представления на каждом празднестве —
все это было хорошей школой художественного
слова, исподволь готовившей латинскую словес-
ность для перехода от устного этапа к литера-
турному. Решающий шаг в этом переходе был
сделан в начале III в., когда виднейший римский
политический деятель Аппий Клавдий Слепой
(консул 307 и 296 гг.) первым стал записывать
свои речи и первым составил под своим именем
сборник нравственных сентенций в сатурний-
ских стихах. Еще Цицерон знал и ценил зна-
менитую речь, которой престарелый Аппий в
280 г. убедил сенат не заключать мир с Пир-
ром Эпирским. После того как достоянием пись-
менности стали серьезные темы речей и мораль-
ных поучений, легче было сделать второй шаг
и перейти к письменной поэзии — эпосу и дра-
ме. Этот шаг был сделан Ливием Андроником
и Гнеем Невием.
Создание римской письменной поэзии не-
разрывно связано с общими переменами в жиз-
ни Римского государства в середине и второй
половине III в. до и. э. В это время римское
оружие впервые выходит за пределы Италии,
в двух тяжелых войнах (Первая и Вторая Пу-
нические войны, 264—241 и 219—202 гг.) Рим
наносит поражение своему опаснейшему сосе-
ду — Карфагену и устанавливает господство над
всем западным Средиземноморьем. Рим впер-
вые ощущает себя мировой державой, равной
но значению Македонии, Египту ц царству
Селевкидов. Появляется необходимость заботы
о международном престиже Рима, тем более
настоятельная, что общественное мнение грече-
ского мира с опаской смотрело на новое ита-
лийское государство. Рим обращается к средст-
вам литературной пропаганды: сенатор Фабий
Пиктор с помощью греков-секретарей пишет на
греческом языке и для греческих читателей
первый обзор римской истории, выставляя па
вид троянское происхождение, исконную доб-
лесть и высокие цели Рима (ок. 210—205 гг.).
Сочинения Фабия и его продолжателей, также
писавших по-гречески (до нас не дошедшие),
стали первыми созданиями римской историче-
ской прозы.
Тот же рост самосознания побуждает Рим
и внешне приобрести облик, достойный миро-
вой столицы. Город обстраивается греческими
храмами, учреждает новые пышные праздне-
ства по греческому образцу, и в программе этих
празднеств театральные представления зани-
мают все больше места. Цель этого празднич-
ного блеска была двоякая: во-первых, поддер-
жать престиж новой столицы перед греческим
миром и, во-вторых, ублажить широкие массы
населения, истомленного тяжелыми войнами.
Ни о какой духовной эллинизации римской пра-
вящей знати еще нет и речи: греческий театр
для нее не часть внутреннего мира, а лишь
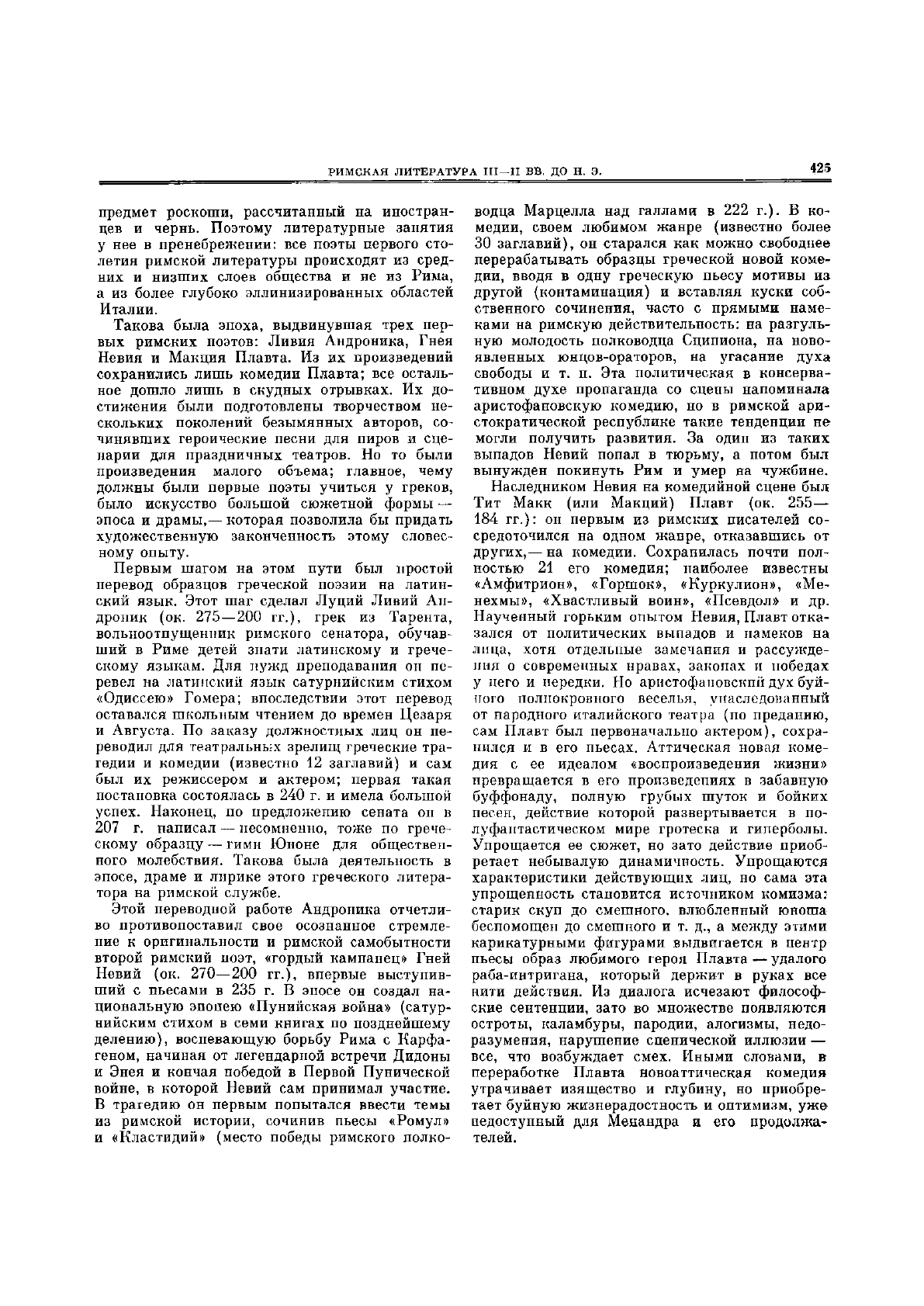
РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III—II ВВ. ДО Н. Э.
425
предмет роскоши, рассчитанный на иностран-
цев и чернь. Поэтому литературные занятия
у нее в пренебрежении: все поэты первого сто-
летия римской литературы происходят из сред-
них и низших слоев общества и не из Рима,
а из более глубоко эллинизированных областей
Италии.
Такова была эпоха, выдвинувшая трех пер-
вых римских поэтов: Ливия Андроника, Гнея
Невия и Макция Плавта. Из их произведений
сохранились лишь комедии Плавта; все осталь-
ное дошло лишь в скудных отрывках. Их до-
стижения были подготовлены творчеством не-
скольких поколений безымянных авторов, со-
чинявших героические песни для пиров и сце-
нарии для праздничных театров. Но то были
произведения малого объема; главное, чему
должны были первые поэты учиться у греков,
было искусство большой сюжетной формы —
эпоса и драмы,— которая позволила бы придать
художественную законченность этому словес-
ному опыту.
Первым шагом на этом пути был простой
перевод образцов греческой поэзии на латин-
ский язык. Этот шаг сделал Луций Ливий Ан-
дроник (ок. 275—200 гг.), грек из Тарента,
вольноотпущенник римского сенатора, обучав-
ший в Риме детей знати латинскому и грече-
скому языкам. Для нужд преподавания он пе-
ревел на латинский язык сатурнийским стихом
«Одиссею» Гомера; впоследствии этот перевод
оставался школьным чтением до времен Цезаря
и Августа. По заказу должностных лиц он пе-
реводил для театральных зрелищ греческие тра-
гедии и комедии (известно 12 заглавий) и сам
был их режиссером и актером; первая такая
постановка состоялась в 240 г. и имела большой
успех. Наконец, по предложению сената он в
207 г. написал — несомненно, тоже по грече-
скому образцу — гимн Юноне для обществен-
ного молебствия. Такова была деятельность в
эпосе, драме и лирике этого греческого литера-
тора на римской службе.
Этой переводной работе Андроника отчетли-
во противопоставил свое осознанное стремле-
ние к оригинальности и римской самобытности
второй римский поэт, «гордый кампанец» Гней
Невий (ок. 270—200 гг.), впервые выступив-
ший с пьесами в 235 г. В эпосе он создал на-
циональную эпопею «Пунийская война» (сатур-
нийским стихом в семи книгах по позднейшему
делению), воспевающую борьбу Рима с Карфа-
геном, начиная от легендарной встречи Дидоны
и Энея и кончая победой в Первой Пунической
войне, в которой Невий сам принимал участие.
В трагедию он первым попытался ввести темы
из римской истории, сочинив пьесы «Ромул»
и «Кластидий» (место победы римского полко-
водца Марцелла над галлами в 222 г.). В ко-
медии, своем любимом жанре (известно более
30 заглавий), он старался как можно свободнее
перерабатывать образцы греческой новой коме-
дии, вводя в одну греческую пьесу мотивы из
другой (контаминация) и вставляя куски соб-
ственного сочинения, часто с прямыми наме-
ками на римскую действительность: на разгуль-
ную молодость полководца Сципиона, на ново-
явленных юнцов-ораторов, на угасание духа
свободы и т. п. Эта политическая в консерва-
тивном духе пропаганда со сцены напоминала
аристофановскую комедию, но в римской ари-
стократической республике такие тенденции не
могли получить развития. За один из таких
выпадов Невий попал в тюрьму, а потом был
вынужден покинуть Рим и умер на чужбине.
Наследником Невия на комедийной сцене был
Тит Макк (или Макций) Плавт (ок. 255—
184 гг.): он первым из римских писателей со-
средоточился на одном жанре, отказавшись от
других,— на комедии. Сохранилась почти пол-
ностью 21 его комедия; наиболее известны
«Амфитрион», «Горшок», «Куркулион», «Ме-
нехмы», «Хвастливый воин», «Псевдол» и др.
Наученный горьким опытом Невия, Плавт отка-
зался от политических выпадов и намеков на
лица, хотя отдельные замечания и рассужде-
ния о современных нравах, законах и победах
у него и нередки. Но аристофановскпй дух буй-
ного полнокровного веселья, унаследованный
от народного италийского театра (по преданию,
сам Плавт был первоначально актером), сохра-
нился и в его пьесах. Аттическая новая коме-
дия с ее идеалом «воспроизведения жизни»
превращается в его произведениях в забавную
буффонаду, полную грубых шуток и бойких
песен, действие которой развертывается в по-
луфаитастическом мире гротеска и гиперболы.
Упрощается ее сюжет, но зато действие приоб-
ретает небывалую динамичность. Упрощаются
характеристики действующих лиц, но сама эта
упрощенность становится источником комизма:
старик скуп до смешного, влюбленный юноша
беспомощен до смешного и т. д., а между этими
карикатурными фигурами выдвигается в центр
пьесы образ любимого героя Плавта — удалого
раба-интригана, который держит в руках все
нити действия. Из диалога исчезают философ-
ские сентенции, зато во множестве появляются
остроты, каламбуры, пародии, алогизмы, недо-
разумения, нарушение сценической иллюзии —
все, что возбуждает смех. Иными словами, в
переработке Плавта новоаттическая комедия
утрачивает изящество и глубину, но приобре-
тает буйную жизнерадостность и оптимизм, ужо
недоступный для Менандра и его продолжа-
телей.
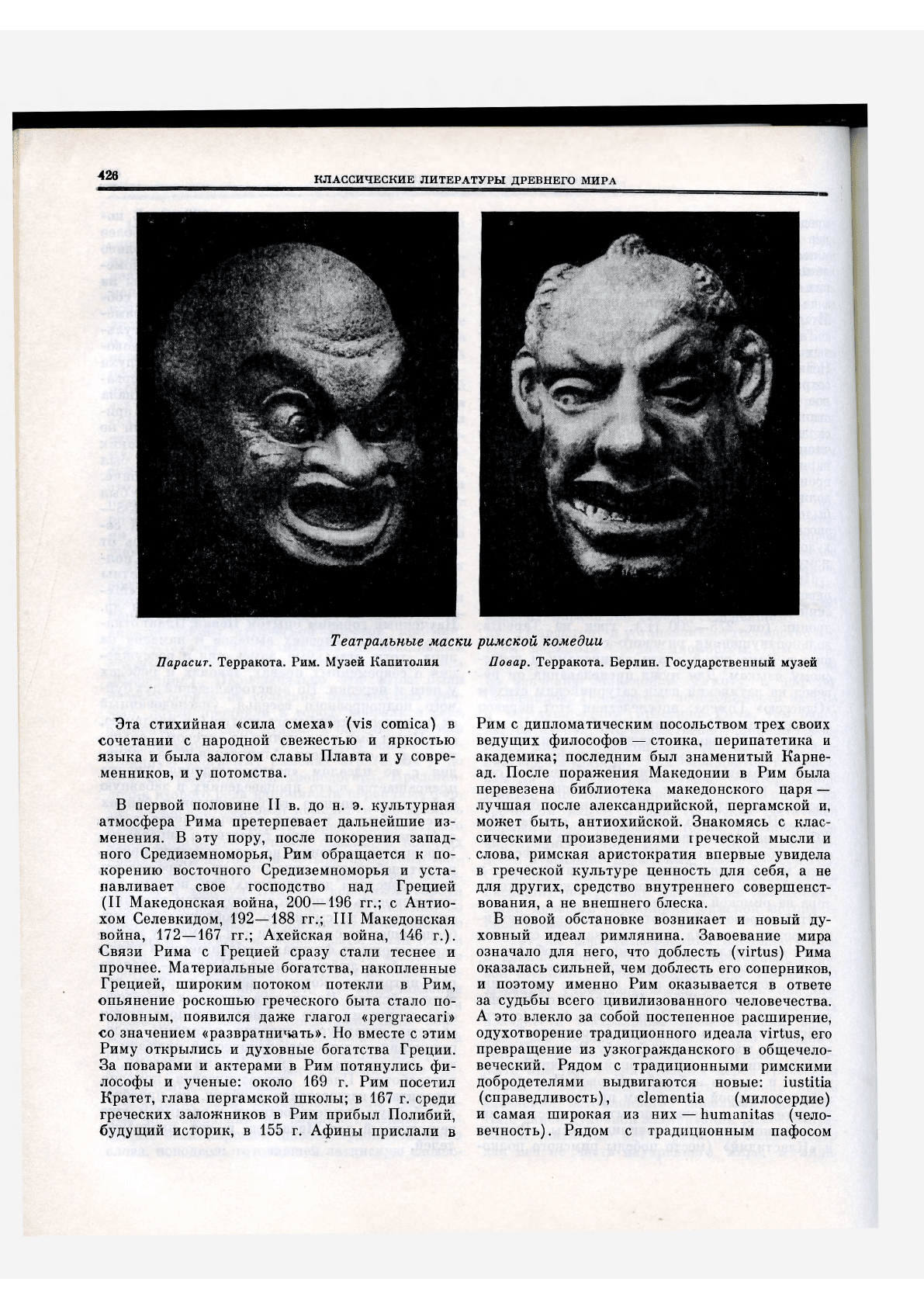
426
КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО
хМИРА
Театральные маски римской комедии
Парасит. Терракота. Рим. Музей Капитолия Повар. Терракота. Берлин. Государственный музей
Эта стихийная «сила смеха» (vis comica) в
сочетании с народной свежестью и яркостью
языка и была залогом славы Плавта и у совре-
менников, и у потомства.
В первой половине II в. до н. э. культурная
атмосфера Рима претерпевает дальнейшие из-
менения. В эту пору, после покорения запад-
ного Средиземноморья, Рим обращается к по-
корению восточного Средиземноморья и уста-
навливает свое господство над Грецией
(II Македонская война, 200—196 гг.; с Антио-
хом Селевкидом, 192—188 гг.; III Македонская
война, 172—167 гг.; Ахейская война, 146 г.).
Связи Рима с Грецией сразу стали теснее и
прочнее. Материальные богатства, накопленные
Грецией, широким потоком потекли в Рим,
опьянение роскошью греческого быта стало по-
головным, появился даже глагол «pergraecari»
со значением «развратничать». Но вместе с этим
Риму открылись и духовные богатства Греции.
За поварами и актерами в Рим потянулись фи-
лософы и ученые: около 169 г. Рим посетил
Кратет, глава пергамской школы; в 167 г. среди
греческих заложников в Рим прибыл Полибий,
будущий историк, в 155 г. Афины прислали в
Рим с дипломатическим посольством трех своих
ведущих философов — стоика, перипатетика и
академика; последним был знаменитый Карне-
ад. После поражения Македонии в Рим была
перевезена библиотека македонского царя —
лучшая после александрийской, пергамской и,
может быть, антиохийской. Знакомясь с клас-
сическими произведениями греческой мысли и
слова, римская аристократия впервые увидела
в греческой культуре ценность для себя, а не
для других, средство внутреннего совершенст-
вования, а не внешнего блеска.
В новой обстановке возникает и новый ду-
ховный идеал римлянина. Завоевание мира
означало для него, что доблесть (virtus) Рима
оказалась сильней, чем доблесть его соперников,
и поэтому именно Рим оказывается в ответе
за судьбы всего цивилизованного человечества.
А это влекло за собой постепенное расширение,
одухотворение традиционного идеала virtus, его
превращение из узкогражданского в общечело-
веческий. Рядом с традиционными римскими
добродетелями выдвигаются новые: iustitia
(справедливость), dementia (милосердие)
и самая широкая из них — humanitas (чело-
вечность)
.
Рядом с традиционным пафосом
