Берковский Н.Я. Литература и театр
Подождите немного. Документ загружается.

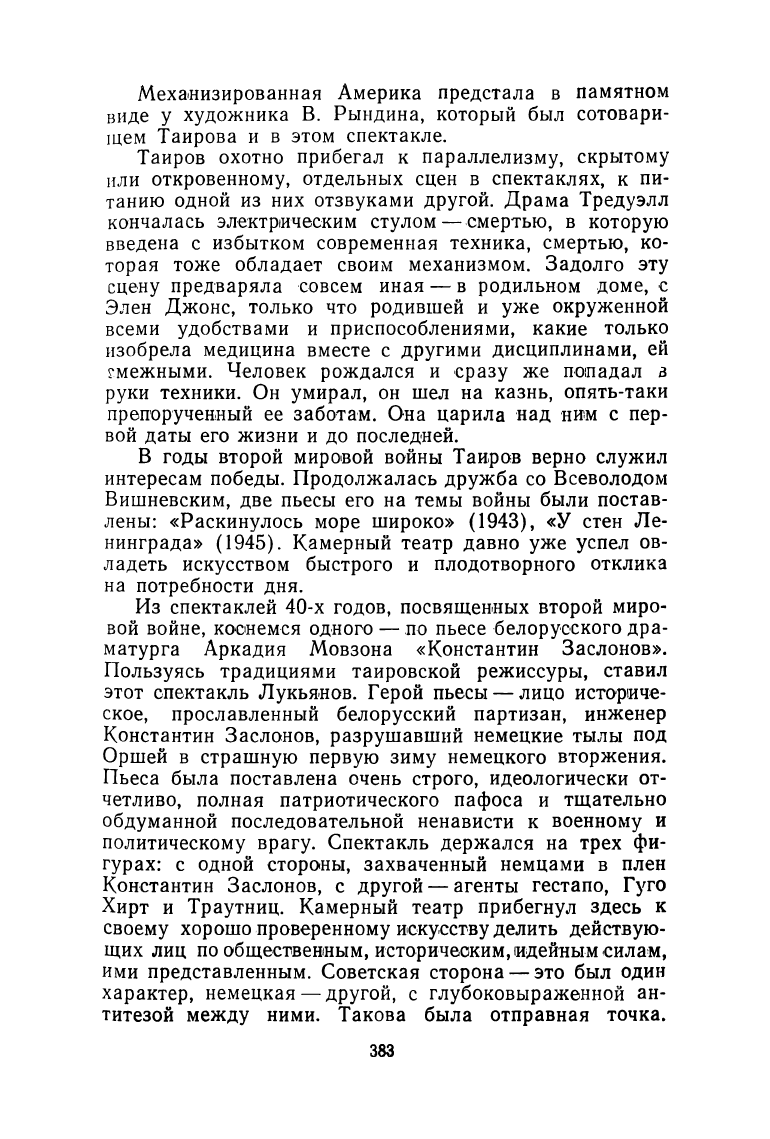
Механизированная Америка предстала в памятном
виде у художника В. Рындина, который был сотовари-
щем Таирова и в этом спектакле.
Таиров охотно прибегал к параллелизму, скрытому
или откровенному, отдельных сцен в спектаклях, к пи-
танию одной из них отзвуками другой. Драма Тредуэлл
кончалась электрическим стулом — смертью, в которую
введена с избытком современная техника, смертью, ко-
торая тоже обладает своим механизмом. Задолго эту
сцену предваряла совсем иная — в родильном доме, с
Элен Джонс, только что родившей и уже окруженной
всеми удобствами и приспособлениями, какие только
изобрела медицина вместе с другими дисциплинами, ей
смежными. Человек рождался и сразу же попадал а
руки техники. Он умирал, он шел на казнь, опять-таки
препорученный ее заботам. Она царила над ним с пер-
вой даты его жизни и до последней.
В годы второй мировой войны Таиров верно служил
интересам победы. Продолжалась дружба со Всеволодом
Вишневским, две пьесы его на темы войны были постав-
лены: «Раскинулось море широко» (1943), «У стен Ле-
нинграда» (1945). Камерный театр давно уже успел ов-
ладеть искусством быстрого и плодотворного отклика
на потребности дня.
Из спектаклей 40-х годов, посвященных второй миро-
вой войне, коснемся одного — по пьесе белорусского дра-
матурга Аркадия Мовзона «Константин Заслонов».
Пользуясь традициями таировской режиссуры, ставил
этот спектакль Лукьянов. Герой пьесы — лицо историче-
ское,
прославленный белорусский партизан, инженер
Константин Заслонов, разрушавший немецкие тылы под
Оршей в страшную первую зиму немецкого вторжения.
Пьеса была поставлена очень строго, идеологически от-
четливо, полная патриотического пафоса и тщательно
обдуманной последовательной ненависти к военному и
политическому врагу. Спектакль держался на трех фи-
гурах: с одной стороны, захваченный немцами в плен
Константин Заслонов, с другой — агенты гестапо, Гуго
Хирт и Траутниц. Камерный театр прибегнул здесь к
своему хорошо проверенному искусству делить действую-
щих лиц по общественным, историческим, идейным силам,
ими представленным. Советская сторона
—
это был один
характер, немецкая
—
другой, с глубоковыраженной ан-
титезой между ними. Такова была отправная точка.
383
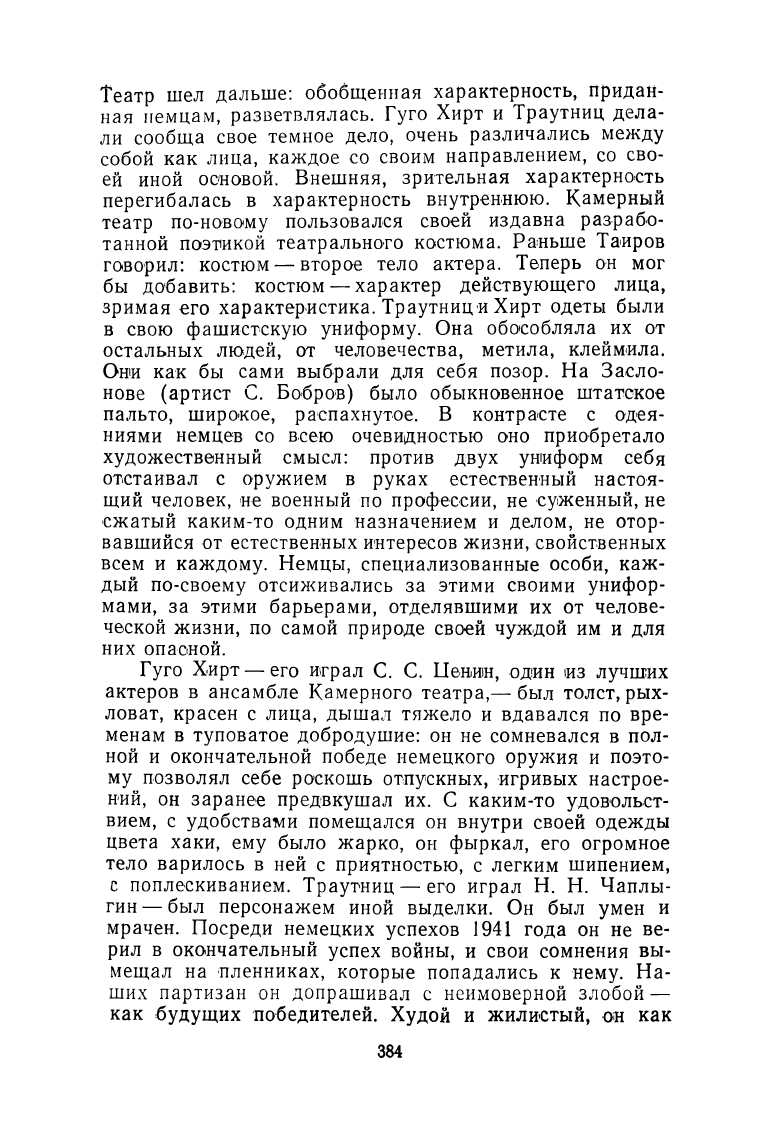
Театр шел дальше: обобщенная характерность, придан-
ная немцам, разветвлялась. Гуго Хирт и Траутниц дела-
ли сообща свое темное дело, очень различались между
собой как лица, каждое со своим направлением, со сво-
ей иной основой. Внешняя, зрительная характерность
перегибалась в характерность внутреннюю. Камерный
театр по-новому пользовался своей издавна разрабо-
танной поэтикой театрального костюма. Раньше Таиров
говорил: костюм — второе тело актера. Теперь он мог
бы добавить: костюм
—
характер действующего лица,
зримая его характеристика. Траутници Хирт одеты были
в свою фашистскую униформу. Она обособляла их от
остальных людей, от человечества, метила, клеймила.
Они как бы сами выбрали для себя позор. На Засло-
нове (артист С. Бобров) было обыкновенное штатское
пальто, широкое, распахнутое. В контрасте с одея-
ниями немцев со всею очевидностью оно приобретало
художественный смысл: против двух униформ себя
отстаивал с оружием в руках естественный настоя-
щий человек, не военный по профессии, не суженный, не
сжатый каким-то одним назначением и делом, не отор-
вавшийся от естественных интересов жизни, свойственных
всем и каждому. Немцы, специализованные особи, каж-
дый по-своему отсиживались за этими своими унифор-
мами, за этими барьерами, отделявшими их от челове-
ческой жизни, по самой природе своей чуждой им и для
них опасной.
Гуго Хирт
—
его играл С. С. IIедин, один из лучших
актеров в ансамбле Камерного театра,— был толст, рых-
ловат, красен с лица, дышал тяжело и вдавался по вре-
менам в туповатое добродушие: он не сомневался в пол-
ной и окончательной победе немецкого оружия и поэто-
му позволял себе роскошь отпускных, игривых настрое-
ний, он заранее предвкушал их. С каким-то удовольст-
вием, с удобствами помещался он внутри своей одежды
цвета хаки, ему было жарко, он фыркал, его огромное
тело варилось в ней с приятностью, с легким шипением,
с поплеекиванием. Траутниц — его играл Н. Н. Чаплы-
гин — был персонажем иной выделки. Он был умен и
мрачен. Посреди немецких успехов 1941 года он не ве-
рил в окончательный успех войны, и свои сомнения вы-
мещал на пленниках, которые попадались к нему. На-
ших партизан он допрашивал с неимоверной злобой —
как будущих победителей. Худой и жилистый, он как
384
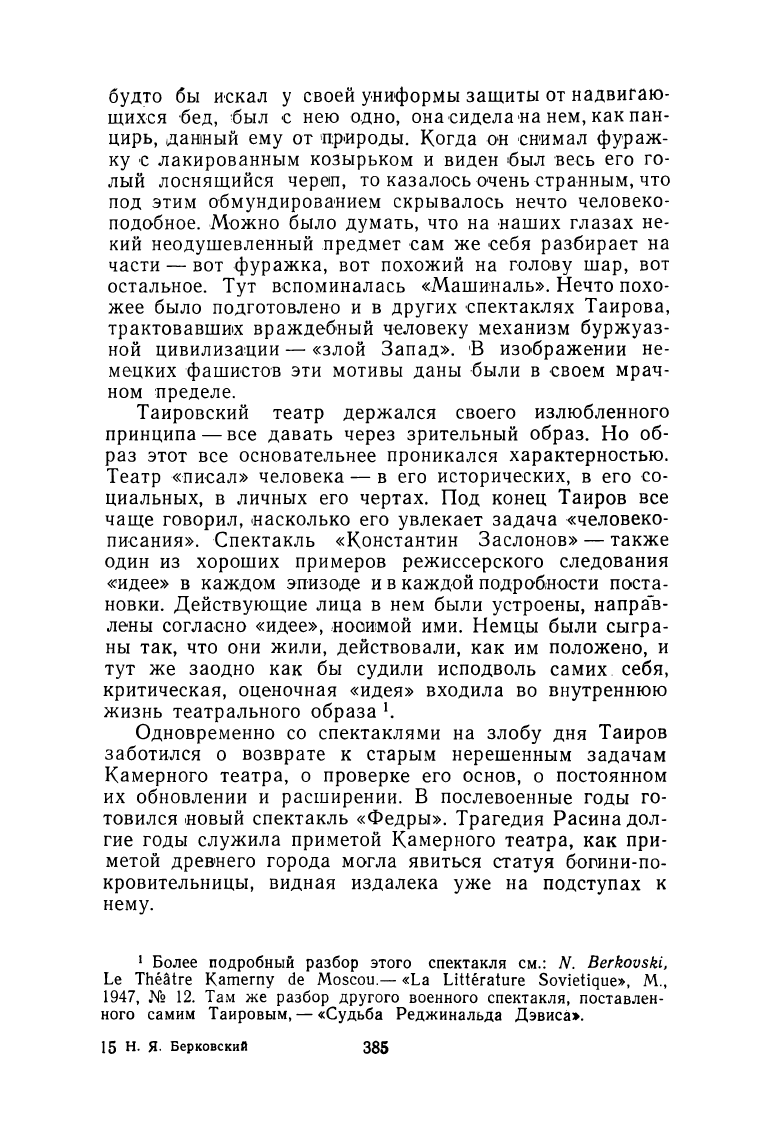
будто бы искал у своей униформы защиты от надвигаю-
щихся бед, был с нею одно, она сидела-на нем, как пан-
цирь,
данный ему от природы. Когда он снимал фураж-
ку с лакированным козырьком и виден был весь его го-
лый лоснящийся череп, то казалось очень странным, что
под этим обмундированием скрывалось нечто человеко-
подобное. Можно было думать, что на наших глазах не-
кий неодушевленный предмет сам же себя разбирает на
части — вот фуражка, вот похожий на голову шар, вот
остальное. Тут вспоминалась «Машиналь». Нечто похо-
жее было подготовлено и в других спектаклях Таирова,
трактовавших враждебный человеку механизм буржуаз-
ной цивилизации — «злой Запад». В изображении не-
мецких фашистов эти мотивы даны были в своем мрач-
ном пределе.
Таировский театр держался своего излюбленного
принципа — все давать через зрительный образ. Но об-
раз этот все основательнее проникался характерностью.
Театр «писал» человека — в его исторических, в его со-
циальных, в личных его чертах. Под конец Таиров все
чаще говорил, -насколько его увлекает задача «человеко-
писания». Спектакль «Константин Заслонов» — также
один из хороших примеров режиссерского следования
«идее» в каждом эпизоде и в каждой подробности поста-
новки. Действующие лица в нем были устроены, направ-
лены согласно «идее», носимой ими. Немцы были сыгра-
ны так, что они жили, действовали, как им положено, и
тут же заодно как бы судили исподволь самих себя,
критическая, оценочная «идея» входила во внутреннюю
жизнь театрального образа
1
.
Одновременно со спектаклями на злобу дня Таиров
заботился о возврате к старым нерешенным задачам
Камерного театра, о проверке его основ, о постоянном
их обновлении и расширении. В послевоенные годы го-
товился «новый спектакль «Федры». Трагедия Расина дол-
гие годы служила приметой Камерного театра, как при-
метой древнего города могла явиться статуя богини-по-
кровительницы, видная издалека уже на подступах к
нему.
1
Более подробный разбор этого спектакля см.: N. Berkovski,
Le Theatre Kamerny de Moscou.— «La Litterature Sovietique», M.,
1947,
№ 12. Там же разбор другого военного спектакля, поставлен-
ного самим Таировым, — «Судьба Реджинальда Дэвиса».
15 Н. Я- Берковский
385
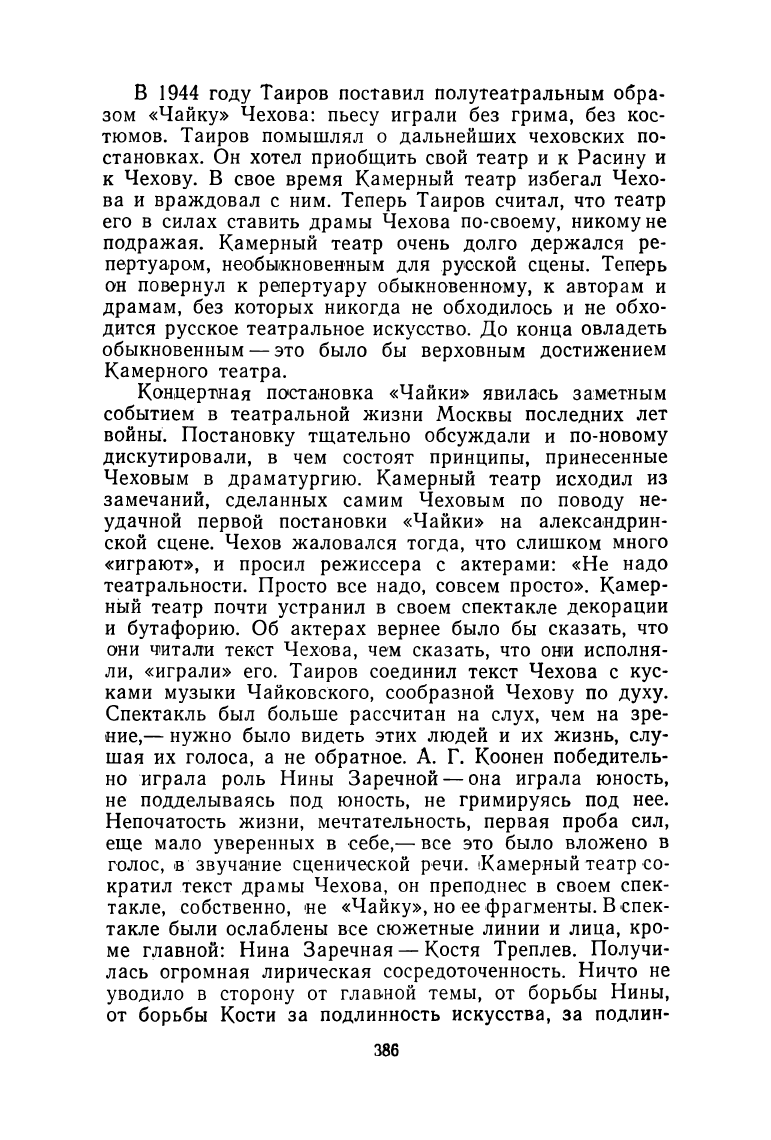
В 1944 году Таиров поставил полутеатральным обра-
зом «Чайку» Чехова: пьесу играли без грима, без кос-
тюмов. Таиров помышлял о дальнейших чеховских по-
становках. Он хотел приобщить свой театр и к Расину и
к Чехову. В свое время Камерный театр избегал Чехо-
ва и враждовал с ним. Теперь Таиров считал, что театр
его в силах ставить драмы Чехова по-своему, никому не
подражая. Камерный театр очень долго держался ре-
пертуаром, необыкновенным для русской сцены. Теперь
он повернул к репертуару обыкновенному, к авторам и
драмам, без которых никогда не обходилось и не обхо-
дится русское театральное искусство. До конца овладеть
обыкновенным — это было бы верховным достижением
Камерного театра.
Кондертная постановка «Чайки» явилась заметным
событием в театральной жизни Москвы последних лет
войны. Постановку тщательно обсуждали и по-новому
дискутировали, в чем состоят принципы, принесенные
Чеховым в драматургию. Камерный театр исходил из
замечаний, сделанных самим Чеховым по поводу не-
удачной первой постановки «Чайки» на алекса-ндрин-
ской сцене. Чехов жаловался тогда, что слишком много
«играют», и просил режиссера с актерами: «Не надо
театральности. Просто все надо, совсем просто». Камер-
ный театр почти устранил в своем спектакле декорации
и бутафорию. Об актерах вернее было бы сказать, что
они читали текст Чехова, чем сказать, что они исполня-
ли,
«играли» его. Таиров соединил текст Чехова с кус-
ками музыки Чайковского, сообразной Чехову по духу.
Спектакль был больше рассчитан на слух, чем на зре-
ние,—
нужно было видеть этих людей и их жизнь, слу-
шая их голоса, а не обратное. А. Г. Коонен победитель-
но играла роль Нины Заречной — она играла юность,
не подделываясь под юность, не гримируясь под нее.
Непочатость жизни, мечтательность, первая проба сил,
еще мало уверенных в себе,— все это было вложено в
голос,
>в
звучание сценической речи, камерный театр со-
кратил текст драмы Чехова, он преподнес в своем спек-
такле, собственно, «е «Чайку», но ее фрагменты.
В
спек-
такле были ослаблены все сюжетные линии и лица, кро-
ме главной: Нина Заречная — Костя Треплев. Получи-
лась огромная лирическая сосредоточенность. Ничто не
уводило в сторону от главной темы, от борьбы Нины,
от борьбы Кости за подлинность искусства, за подлин-
386
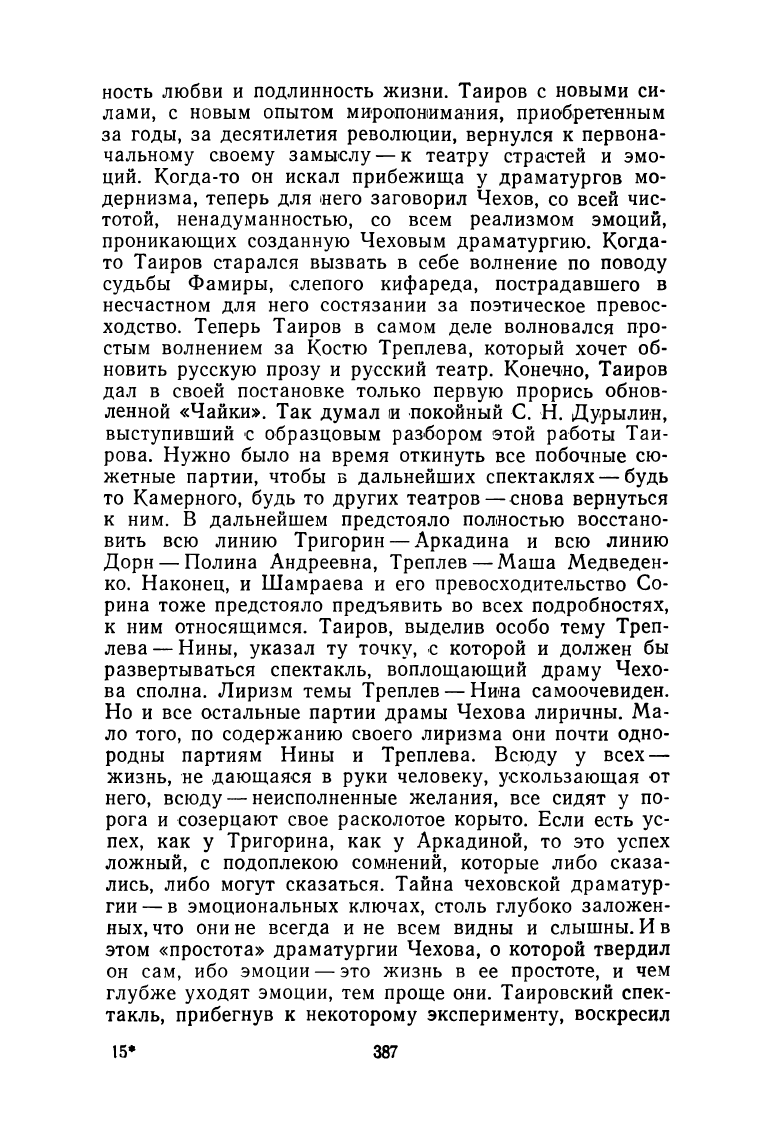
ность любви и подлинность жизни. Таиров с новыми си-
лами, с новым опытом миропонимания, приобретенным
за годы, за десятилетия революции, вернулся к первона-
чальному своему замыслу
—
к театру страстей и эмо-
ций. Когда-то он искал прибежища у драматургов мо-
дернизма, теперь для «его заговорил Чехов, со всей чис-
тотой, ненадуманностью, со всем реализмом эмоций,
проникающих созданную Чеховым драматургию. Когда-
то Таиров старался вызвать в себе волнение по поводу
судьбы Фамиры, слепого кифареда, пострадавшего в
несчастном для него состязании за поэтическое превос-
ходство. Теперь Таиров в самом деле волновался про-
стым волнением за Костю Треплева, который хочет об-
новить русскую прозу и русский театр. Конечно, Таиров
дал в своей постановке только первую прорись обнов-
ленной «Чайки». Так думал и покойный С. Н. Дурылин,
выступивший с образцовым раз-бором этой работы Таи-
рова. Нужно было на время откинуть все побочные сю-
жетные партии, чтобы в дальнейших спектаклях
—
будь
то Камерного, будь то других театров—снова вернуться
к ним. В дальнейшем предстояло полностью восстано-
вить всю линию Тригорин
—
Аркадина и всю линию
Дорн — Полина Андреевна, Треплев
—
Маша Медведен-
ко.
Наконец, и Шамраева и его превосходительство (Зо-
рина тоже предстояло предъявить во всех подробностях,
к ним относящимся. Таиров, выделив особо тему Треп-
лева — Нины, указал ту точку, с которой и должен бы
развертываться спектакль, воплощающий драму Чехо-
ва сполна. Лиризм темы Треплев — Нина самоочевиден.
Но и все остальные партии драмы Чехова лиричны. Ма-
ло того, по содержанию своего лиризма они почти одно-
родны партиям Нины и Треплева. Всюду у всех
—
жизнь, не дающаяся в руки человеку, ускользающая от
него,
всюду
—
неисполненные желания, все сидят у по-
рога и созерцают свое расколотое корыто. Если есть ус-
пех, как у Тригорина, как у Аркадиной, то это успех
ложный, с подоплекою сом-нений, которые либо сказа-
лись,
либо могут сказаться. Тайна чеховской драматур-
гии— в эмоциональных ключах, столь глубоко заложен-
ных, что они не всегда и не всем видны и слышны. Ив
этом «простота» драматургии Чехова, о которой твердил
он сам, ибо эмоции — это жизнь в ее простоте, и чем
глубже уходят эмоции, тем проще они. Таировский спек-
такль, прибегнув к некоторому эксперименту, воскресил
15*
387
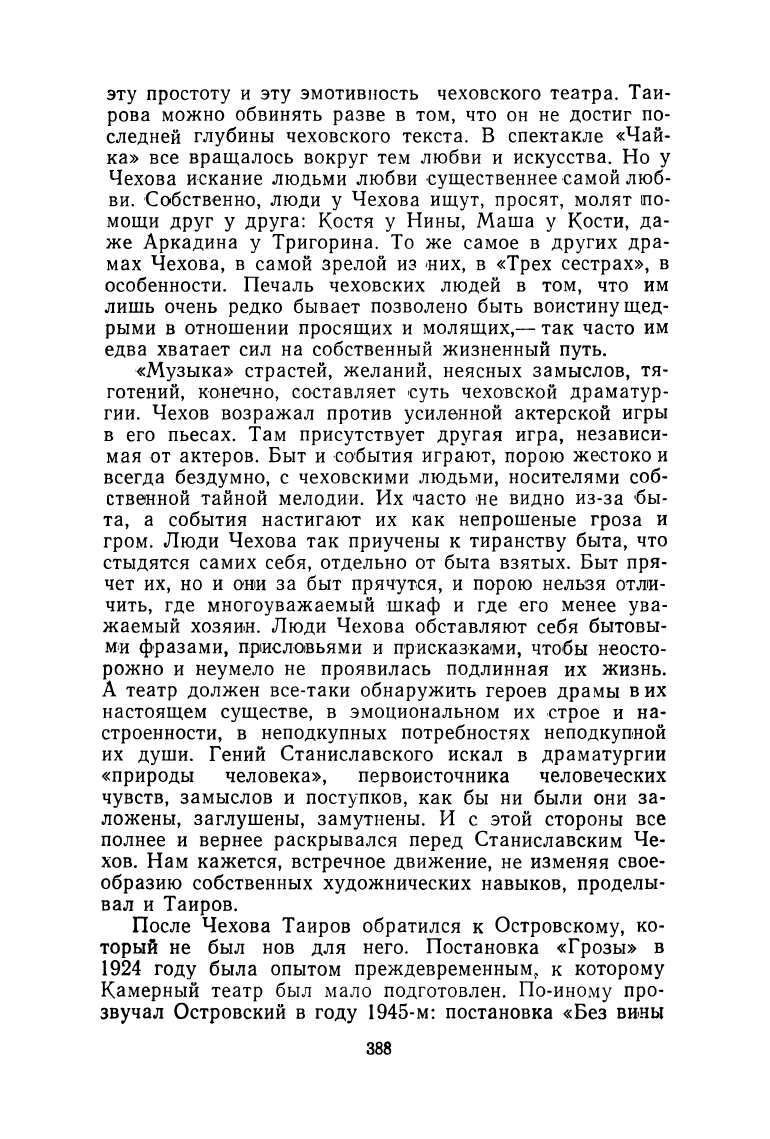
эту простоту и эту эмотивность чеховского театра. Таи-
рова можно обвинять разве в том, что он не достиг по-
следней глубины чеховского текста. В спектакле «Чай-
ка» все вращалось вокруг тем любви и искусства. Но у
Чехова искание людьми любви существеннее самой люб-
ви.
Собственно, люди у Чехова ищут, просят, молят по-
мощи друг у друга: Костя у Нины, Маша у Кости, да-
же Аркадина у Тригорина. То же самое в других дра-
мах Чехова, в самой зрелой из «их, в «Трех сестрах», в
особенности. Печаль чеховских людей в том, что им
лишь очень редко бывает позволено быть воистину щед-
рыми в отношении просящих и молящих,— так часто им
едва хватает сил на собственный жизненный путь.
«Музыка» страстей, желаний, неясных замыслов, тя-
готений, конечно, составляет суть чеховской драматур-
гии. Чехов возражал против усиленной актерской игры
в его пьесах. Там присутствует другая игра, независи-
мая от актеров. Быт и события играют, порою жестоко и
всегда бездумно, с чеховскими людьми, носителями соб-
ственной тайной мелодии. Их часто -не видно из-за -бы-
та, а события настигают их как непрошеные гроза и
гром. Люди Чехова так приучены к тиранству быта, что
стыдятся самих себя, отдельно от быта взятых. Быт пря-
чет их, но и ОН1И за быт прячутся, и порою нельзя отли-
чить,
где многоуважаемый шкаф и где его менее ува-
жаемый хозяин. Люди Чехова обставляют себя бытовы-
ми фразами, присловьями и присказками, чтобы неосто-
рожно и неумело не проявилась подлинная их жизнь.
А театр должен все-таки обнаружить героев драмы в их
настоящем существе, в эмоциональном их строе и на-
строенности, в неподкупных потребностях неподкупной
их души. Гений Станиславского искал в драматургии
«природы человека», первоисточника человеческих
чувств, замыслов и поступков, как бы ни были они за-
ложены, заглушены, замутнены. И с этой стороны все
полнее и вернее раскрывался перед Станиславским Че-
хов.
Нам кажется, встречное движение, не изменяя свое-
образию собственных художнических навыков, проделы-
вал и Таиров.
После Чехова Таиров обратился к Островскому, ко-
торый не был нов для него. Постановка «Грозы» в
1924 году была опытом преждевременным, к которому
Камерный театр был мало подготовлен. По-иному про-
звучал Островский в году 1945-м: постановка «Без вины
388
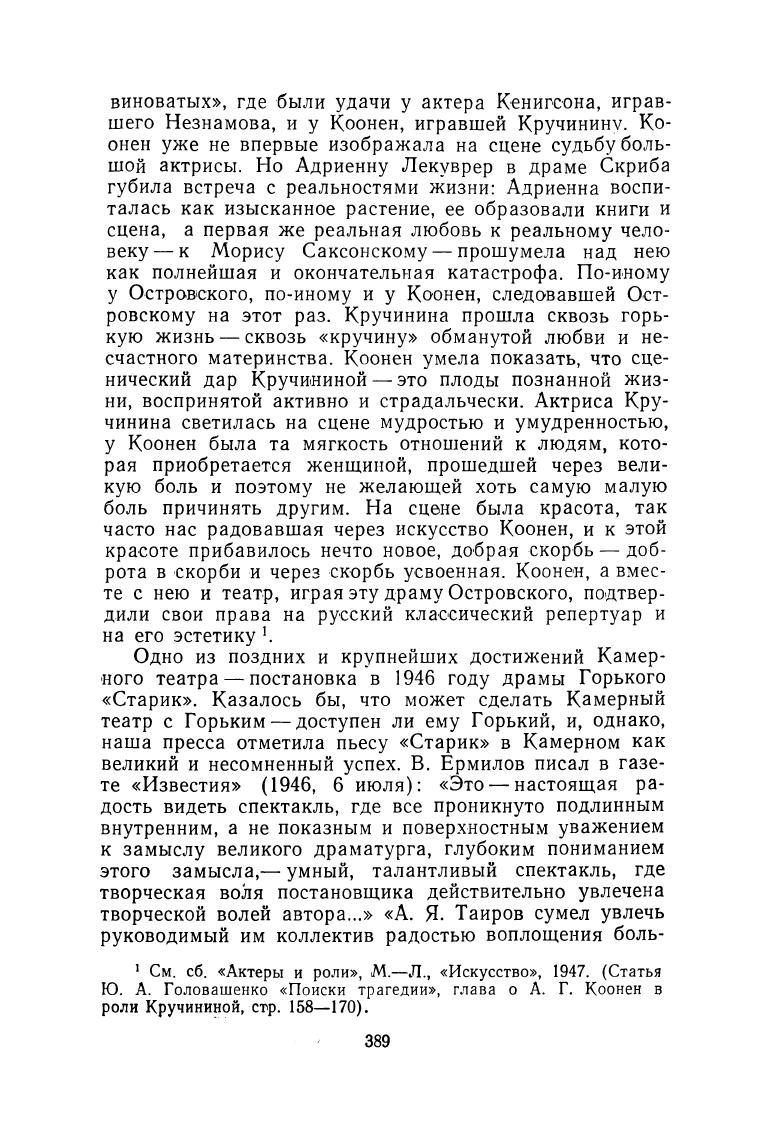
виноватых», где были удачи у актера Кенигсона, играв-
шего Незнамова, и у Коонен, игравшей Кручинину. Ко-
онен уже не впервые изображала на сцене судьбу боль-
шой актрисы. Но Адриенну Лекуврер в драме Скриба
губила встреча с реальностями жизни: Адриенна воспи-
талась как изысканное растение, ее образовали книги и
сцена, а первая же реальная любовь к реальному чело-
веку— к Морису Саксонскому
—
прошумела над нею
как полнейшая и окончательная катастрофа. По-иному
у Островского, по-иному и у Коонен, следовавшей Ост-
ровскому на этот раз. Кручинина прошла сквозь горь-
кую жизнь — сквозь «кручину» обманутой любви и не-
счастного материнства. Коонен умела показать, что сце-
нический дар Кручининой— это плоды познанной жиз-
ни,
воспринятой активно и страдальчески. Актриса Кру-
чинина светилась на сцене мудростью и умудренностью,
у Коонен была та мягкость отношений к людям, кото-
рая приобретается женщиной, прошедшей через вели-
кую боль и поэтому не желающей хоть самую малую
боль причинять другим. На сцене была красота, так
часто нас радовавшая через искусство Коонен, и к этой
красоте прибавилось нечто новое, добрая скорбь — доб-
рота в скорби и через скорбь усвоенная. Коонен, а вмес-
те с нею и театр, играя эту драму Островского, подтвер-
дили свои права на русский классический репертуар и
на его эстетику
1
.
Одно из поздних и крупнейших достижений Камер-
ного театра — постановка в 1946 году драмы Горького
«Старик». Казалось бы, что может сделать Камерный
театр с Горьким
—
доступен ли ему Горький, и, однако,
наша пресса отметила пьесу «Старик» в Камерном как
великий и несомненный успех. В. Ермилов писал в газе-
те «Известия» (1946, 6 июля): «Это — настоящая ра-
дость видеть спектакль, где все проникнуто подлинным
внутренним, а не показным и поверхностным уважением
к замыслу великого драматурга, глубоким пониманием
этого замысла,— умный, талантливый спектакль, где
творческая воля постановщика действительно увлечена
творческой волей автора...» «А. Я. Таиров сумел увлечь
руководимый им коллектив радостью воплощения боль-
1
См. сб. «Актеры и роли», М.—Л., «Искусство», 1947. (Статья
Ю.
А. Головашенко «Поиски трагедии», глава о А. Г. Коонен в
роли Кручининой, стр. 158—170).
389
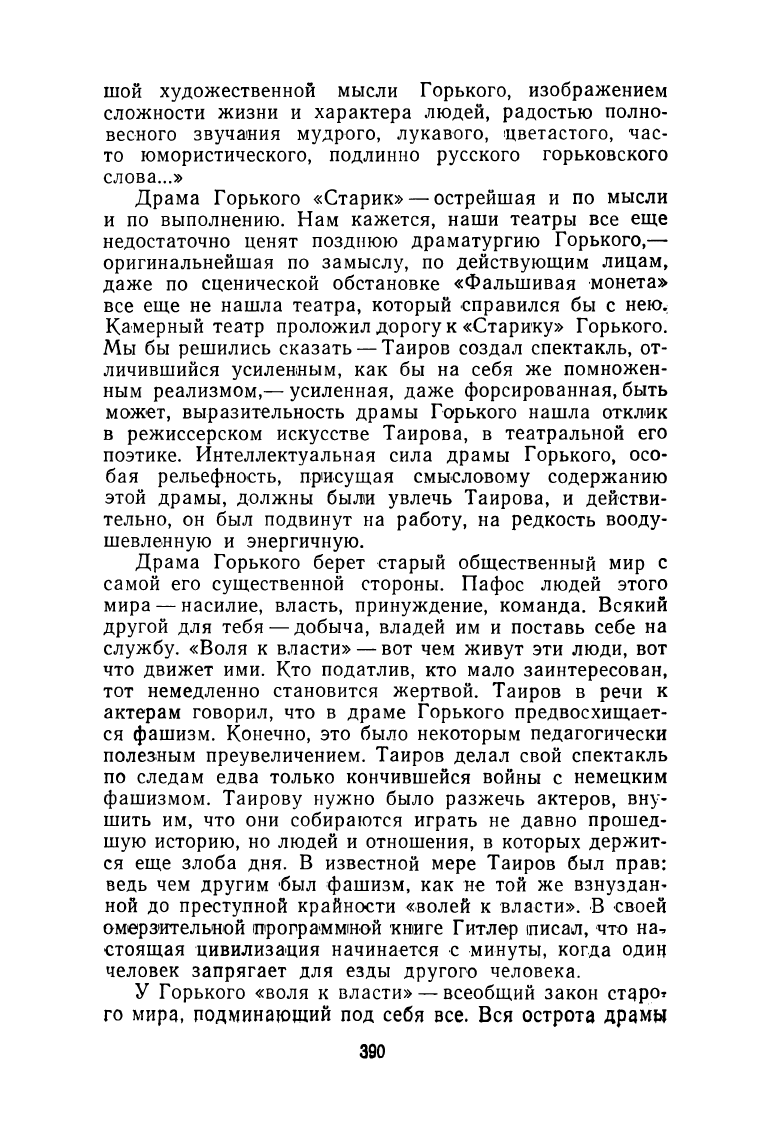
шой художественной мысли Горького, изображением
сложности жизни и характера людей, радостью полно-
весного звучания мудрого, лукавого, цветастого, час-
то юмористического, подлинно русского горькозского
слова...»
Драма Горького «Старик» — острейшая и по мысли
и по выполнению. Нам кажется, наши театры все еще
недостаточно ценят позднюю драматургию Горького,—
оригинальнейшая по замыслу, по действующим лицам,
даже по сценической обстановке «Фальшивая монета»
все еще не нашла театра, который справился бы с нею.
Камерный театр проложил дорогу к «Старику» Горького.
Мы бы решились сказать
—
Таиров создал спектакль, от-
личившийся усиленным, как бы на себя же помножен-
ным реализмом,— усиленная, даже форсированная, быть
может, выразительность драмы Горького нашла отклик
в режиссерском искусстве Таирова, в театральной его
поэтике. Интеллектуальная сила драмы Горького, осо-
бая рельефность, присущая смысловому содержанию
этой драмы, должны были увлечь Таирова, и действи-
тельно, он был подвинут на работу, на редкость вооду-
шевленную и энергичную.
Драма Горького берет старый общественный мир с
самой его существенной стороны. Пафос людей этого
мира — насилие, власть, принуждение, команда. Всякий
другой для тебя
—
добыча, владей им и поставь себе на
службу. «Воля к власти»
—
вот чем живут эти люди, вот
что движет ими. Кто податлив, кто мало заинтересован,
тот немедленно становится жертвой. Таиров в речи к
актерам говорил, что в драме Горького предвосхищает-
ся фашизм. Конечно, это было некоторым педагогически
полезным преувеличением. Таиров делал свой спектакль
по следам едва только кончившейся войны с немецким
фашизмом. Таирову нужно было разжечь актеров, вну-
шить им, что они собираются играть не давно прошед-
шую историю, но людей и отношения, в которых держит-
ся еще злоба дня. В известной мере Таиров был прав:
ведь чем другим 'был фашизм, как не той же взнуздан-
ной до преступной крайности «волей к власти». В своей
омерзительной программной книге Гитлер писал, что на^
стоящая цивилизация начинается с минуты, когда один
человек запрягает для езды другого человека.
У Горького «воля к власти» — всеобщий закон старо»
го мирз, подминающий под себя все. Вся острота драмы
390
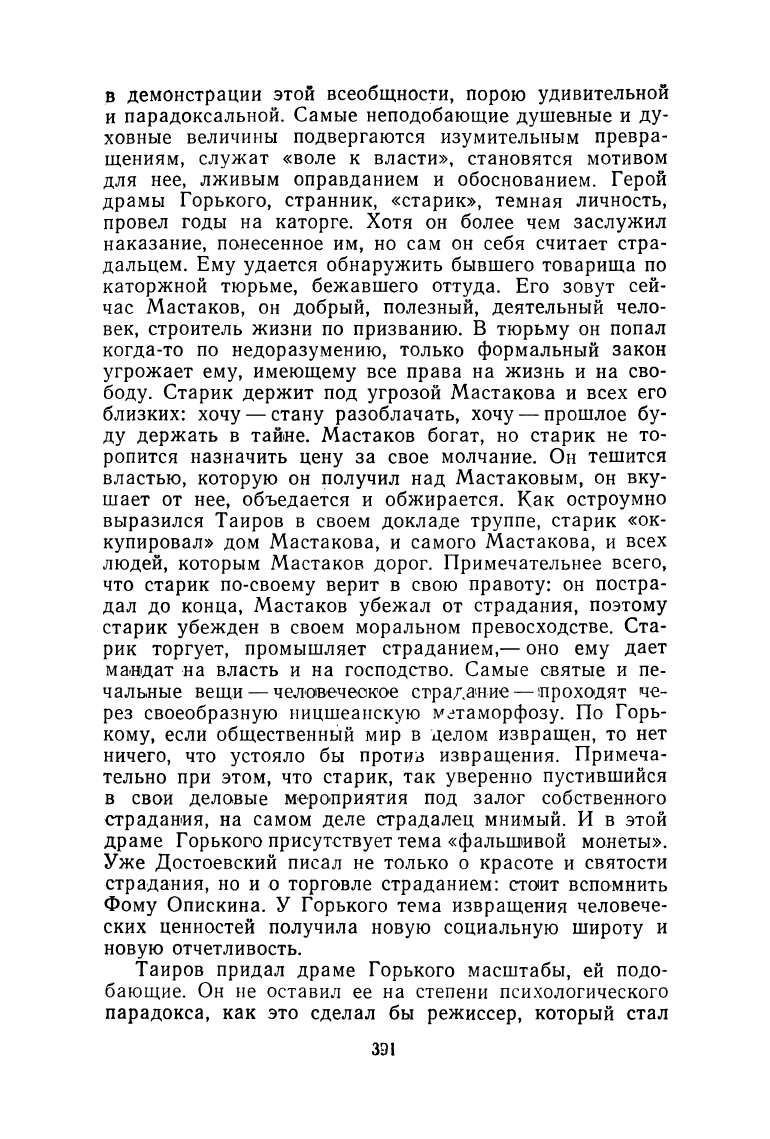
в демонстрации этой всеобщности, порою удивительной
и парадоксальной. Самые неподобающие душевные и ду-
ховные величины подвергаются изумительным превра-
щениям, служат «воле к власти», становятся мотивом
для нее, лживым оправданием и обоснованием. Герой
драмы Горького, странник, «старик», темная личность,
провел годы на каторге. Хотя он более чем заслужил
наказание, понесенное им, но сам он себя считает стра-
дальцем. Ему удается обнаружить бывшего товарища по
каторжной тюрьме, бежавшего оттуда. Его зовут сей-
час Мастаков, он добрый, полезный, деятельный чело-
век, строитель жизни по призванию. В тюрьму он попал
когда-то по недоразумению, только формальный закон
угрожает ему, имеющему все права на жизнь и на сво-
боду. Старик держит под угрозой Мастакова и всех его
близких: хочу — стану разоблачать, хочу
—
прошлое бу-
ду держать в тайне. Мастаков богат, но старик не то-
ропится назначить цену за свое молчание. Он тешится
властью, которую он получил над Мастаковым, он вку-
шает от нее, объедается и обжирается. Как остроумно
выразился Таиров в своем докладе труппе, старик «ок-
купировал» дом Мастакова, и самого Мастакова, и всех
людей, которым Мастаков дорог. Примечательнее всего,
что старик по-своему верит в свою правоту: он постра-
дал до конца, Мастаков убежал от страдания, поэтому
старик убежден в своем моральном превосходстве. Ста-
рик торгует, промышляет страданием,— оно ему дает
мандат на власть и на господство. Самые святые и пе-
чальные вещи
—
человеческое страдание
—
шроходят че-
рез своеобразную ницшеанскую метаморфозу. По Горь-
кому, если общественный мир в целом извращен, то нет
ничего, что устояло бы против извращения. Примеча-
тельно при этом, что старик, так уверенно пустившийся
в свои деловые меро-приятия под залог собственного
страдания, на самом деле страдалец мнимый. И в этой
драме Горького присутствует тема «фальшивой монеты».
Уже Достоевский писал не только о красоте и святости
страдания, но и о торговле страданием: стоит вспомнить
Фому Опискина. У Горького тема извращения человече-
ских ценностей получила новую социальную широту и
новую отчетливость.
Таиров придал драме Горького масштабы, ей подо-
бающие. Он не оставил ее на степени психологического
парадокса, как это сделал бы режиссер, который стал
391
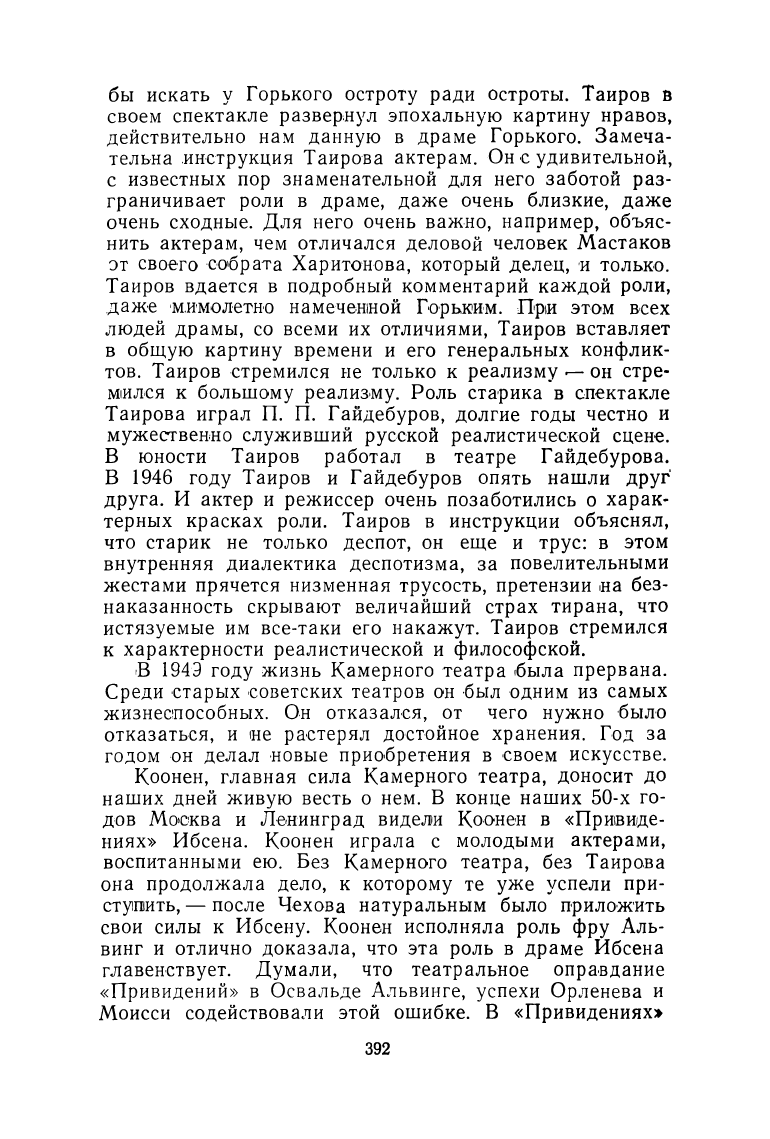
бы искать у Горького остроту ради остроты. Таиров в
своем спектакле развернул эпохальную картину нравов,
действительно нам данную в драме Горького. Замеча-
тельна .инструкция Таирова актерам. Он с удивительной,
с известных пор знаменательной для него заботой раз-
граничивает роли в драме, даже очень близкие, даже
очень сходные. Для него очень важно, например, объяс-
нить актерам, чем отличался деловой человек Мастаков
от своего собрата Харитонова, который делец, и только.
Таиров вдается в подробный комментарий каждой роли,
даже мимолетно намеченной Горьким. При этом всех
людей драмы, со всеми их отличиями, Таиров вставляет
в общую картину времени и его генеральных конфлик-
тов.
Таиров стремился не только к реализму — он стре-
мился к большому реализму. Роль старика в спектакле
Таирова играл П. П. Гайдебуров, долгие годы честно и
мужественно служивший русской реалистической сцене.
В юности Таиров работал в театре Гайдебурова.
В 1946 году Таиров и Гайдебуров опять нашли друг
друга. И актер и режиссер очень позаботились о харак-
терных красках роли. Таиров в инструкции объяснял,
что старик не только деспот, он еще и трус: в этом
внутренняя диалектика деспотизма, за повелительными
жестами прячется низменная трусость, претензии «а без-
наказанность скрывают величайший страх тирана, что
истязуемые им все-таки его накажут. Таиров стремился
к характерности реалистической и философской.
В 194Э году жизнь Камерного театра -была прервана.
Среди старых советских театров он был одним из самых
жизнеспособных. Он отказался, от чего нужно было
отказаться, и не растерял достойное хранения. Год за
годом он делал новые приобретения в своем искусстве.
Коонен, главная сила Камерного театра, доносит до
наших дней живую весть о нем. В конце наших 50-х го-
дов Москва и Ленинград видели Коонен в «Привиде-
ниях» Ибсена. Коонен играла с молодыми актерами,
воспитанными ею. Без Камерного театра, без Таирова
она продолжала дело, к которому те уже успели при-
ступить,— после Чехова натуральным было приложить
свои силы к Ибсену. Коонен исполняла роль фру Аль-
винг и отлично доказала, что эта роль в драме Ибсена
главенствует. Думали, что театральное оправдание
«Привидений» в Освальде Альвинге, успехи Орленева и
Моисеи содействовали этой ошибке. В «Привидениях»
392
