Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии
Подождите немного. Документ загружается.

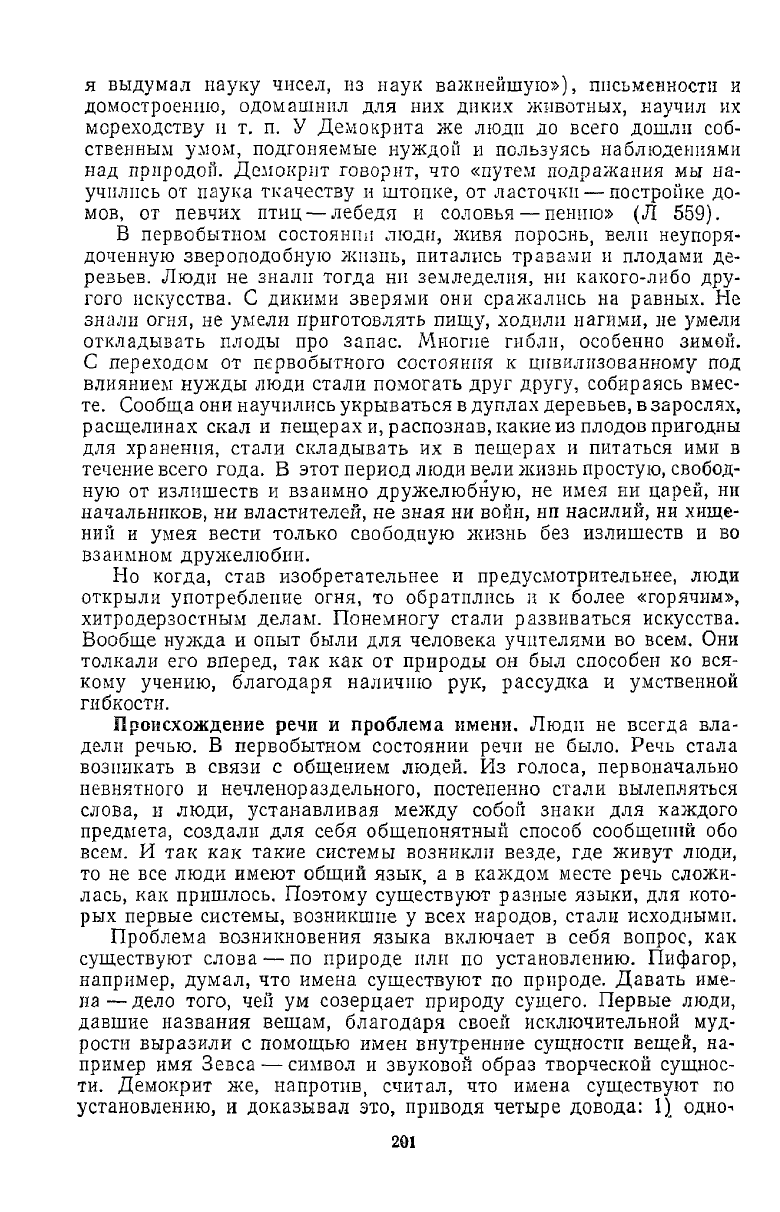
я
выдумал науку чисел, из наук важнейшую»), письменности и
домостроению, одомашнил для них диких животных, научил их
мореходству и т. п. У Демокрита же люди до всего дошли соб-
ственным умом, подгоняемые нуждой и пользуясь наблюдениями
над природой. Демокрит говорит, что
«путем
подражания мы на-
учились от паука ткачеству и штопке, от ласточки — постройке до-
мов,
от певчих птиц — лебедя и соловья — пению» (Л 559).
В первобытном состоять! люди, живя порознь, вели неупоря-
доченную звероподобную жизнь, питались тразами и плодами де-
ревьев. Люди не знали
тогда
ни земледелия, ни какого-либо дру-
гого искусства. С дикими зверями они сражались на равных. Не
знали
огня, не умели приготовлять пищу, ходили нагими, не умели
откладывать плоды про запас. Многие гибли, особенно зимой.
С
переходом от первобытного состояния к цивилизованному под
влиянием
нужды люди стали помогать
друг
другу,
собираясь вмес-
те. Сообща они научились укрываться в
дуплах
деревьев, в зарослях,
расщелинах скал и пещерах и, распознав, какие из плодов пригодны
для хранения, стали складывать их в пещерах и питаться ими в
течение всего
года.
В этот период люди вели жизнь простую, свобод-
ную от излишеств и взаимно дружелюбную, не имея ни царей, ни
начальников,
ни властителей, не зная ни войн, нп насилий, ни хище-
ний
и умея вести только свободную жизнь без излишеств и во
взаимном
дружелюбии.
Но
когда, став изобретательнее и предусмотрительнее, люди
открыли употребление огня, то обратились и к более «горячим»,
хитродерзостным делам. Понемногу стали развиваться искусства.
Вообще нужда и опыт были для человека учителями во всем. Они
толкали его вперед, так как от природы он был способен ко вся-
кому учению, благодаря наличию рук, рассудка и умственной
гибкости.
Происхождение речи и проблема имени. Люди не всегда вла-
дели речью. В первобытном состоянии речи не было. Речь стала
возникать
в связи с общением людей. Из голоса, первоначально
невнятного
и нечленораздельного, постепенно стали вылепляться
слова, и люди, устанавливая
между
собой знаки для каждого
предмета, создали для себя общепонятный способ сообщений обо
всем. И так как такие системы возникли везде, где
живут
люди,
то не все люди имеют общий язык, а в каждом месте речь сложи-
лась, как пришлось. Поэтому
существуют
разные языки, для кото-
рых первые системы, возникшие у
всех
народов, стали исходными.
Проблема возникновения языка включает в себя вопрос, как
существуют
слова — по природе или по установлению. Пифагор,
например,
думал,
что имена
существуют
по природе. Давать име-
на—
дело того, чей ум созерцает природу сущего. Первые люди,
давшие названия вещам, благодаря своей исключительной муд-
рости выразили с помощью имен внутренние сущности вещей, на-
пример имя Зевса — символ и звуковой образ творческой сущнос-
ти.
Демокрит же, напротив, считал, что имена
существуют
по
установлению, и доказывал это, приводя четыре довода: 1)
201
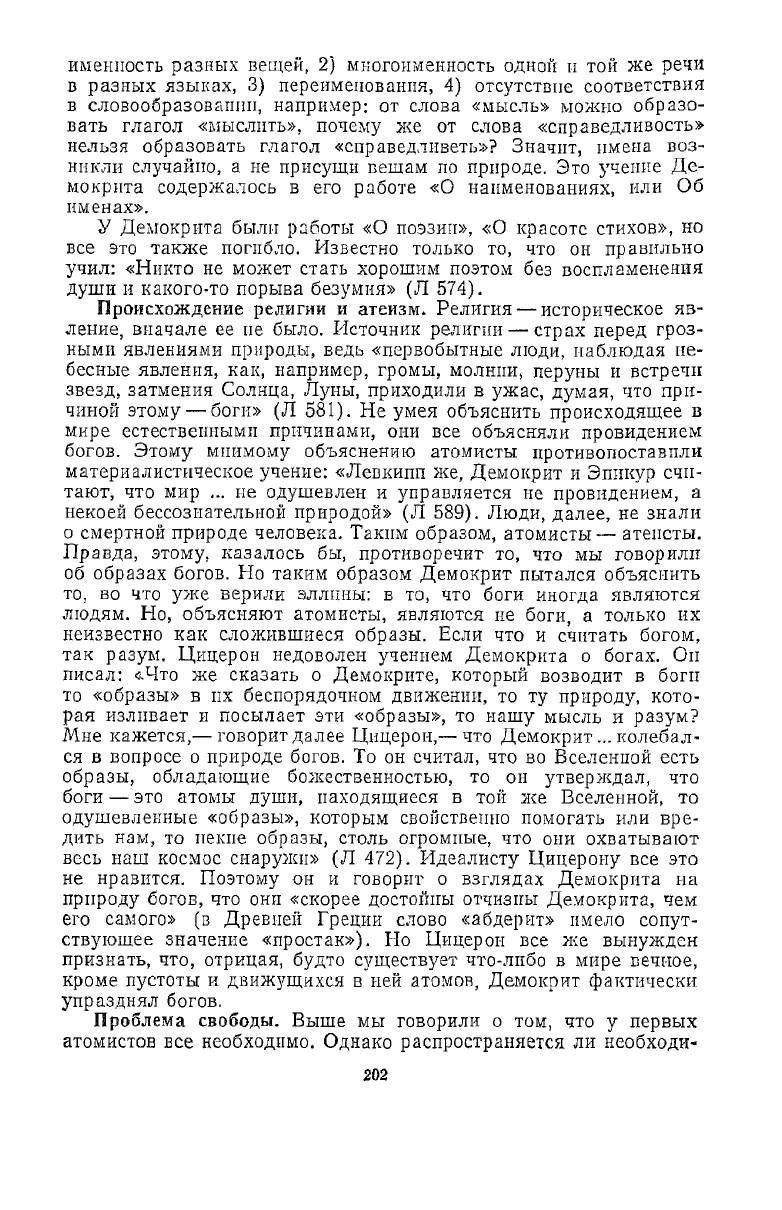
именпость
разных вещей, 2) многоименность одной и той же речи
в
разных языках, 3) переименования, 4) отсутствие соответствия
в
словообразовании, например: от слова
«мысль»
можно образо-
вать глагол «мыслить», почему же от слова «справедливость»
нельзя
образовать глагол «справедливей.»? Значит, имена воз-
никли
случайно, а не присущи вещам по природе. Это учение Де-
мокрита содержалось в его работе «О наименованиях, или Об
именах».
У Демокрита были работы «О поэзии», «О красоте
стихов»,
но
все это также погибло. Известно только то, что он правильно
учил: «Никто не может стать хорошим поэтом без воспламенения
души и какого-то порыва безумия» (Л 574).
Происхождение религии и атеизм. Религия — историческое яв-
ление,
вначале ее не было. Источник религии — страх перед гроз-
ными
явлениями природы, ведь «первобытные люди, наблюдая не-
бесные явления, как, например, громы, молнии, перуны и встречи
звезд, затмения Солнца, Луны, приходили в ужас, думая, что при-
чиной
этому —
боги»
(Л 581). Не умея объяснить происходящее в
мире естественными причинами, они все объясняли провидением
богов. Этому мнимому объяснению атомисты противопоставили
материалистическое учение: «Левкипп же, Демокрит и Эпикур счи-
тают, что мир ... не одушевлен и управляется не провидением, а
некоей
бессознательной природой» (Л 589). Люди, далее, не знали
о
смертной природе человека. Таким образом, атомисты— атеисты.
Правда, этому, казалось бы, противоречит то, что мы говорили
об образах богов. Но таким образом Демокрит пытался объяснить
то,
во что уже верили эллины: в то, что боги иногда являются
людям. Но, объясняют атомисты, являются не боги, а только их
неизвестно как сложившиеся образы. Если что и считать богом,
так
разум. Цицерон недоволен учением Демокрита о
богах.
Он
писал:
«.Что
же сказать о Демокрите, который возводит в боги
то
«образы»
в их беспорядочном движении, то ту природу, кото-
рая
изливает и посылает эти
«образы»,
то нашу мысль и
разум?
Мне
кажется,— говорит далее Цицерон,— что Демокрит... колебал-
ся
в вопросе о природе богов. То он считал, что во Вселенной есть
образы, обладающие божественностью, то он
утверждал,
что
боги — это атомы души, находящиеся в той же Вселенной, то
одушевленные
«образы»,
которым свойственно помогать или вре-
дить нам, то некие образы, столь огромные, что они охватывают
весь наш космос снаружи» (Л 472). Идеалисту Цицерону все это
не
нравится. Поэтому он и говорит о взглядах Демокрита на
природу богов, что они «скорее достойны отчизны Демокрита, чем
его
самого»
(в Древней Греции слово
«абдерит»
имело сопут-
ствующее значение «простак»). Но Цицерон все же вынужден
признать,
что, отрицая,
будто
существует
что-либо в мире вечное,
кроме пустоты и движущихся в ней атомов, Демокрит фактически
упразднял богов.
Проблема свободы. Выше мы говорили о том, что у первых
атомистов все необходимо. Однако распространяется ли необходи-
202
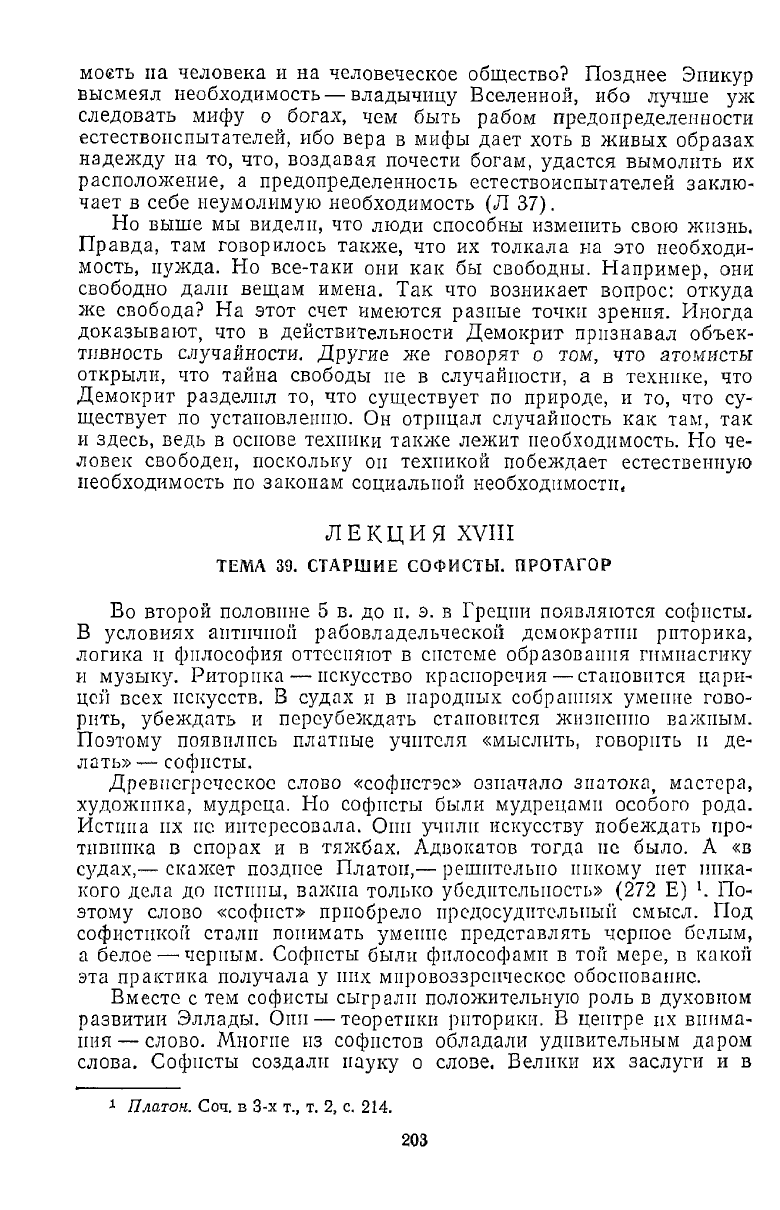
моеть па человека и на человеческое общество? Позднее Эпикур
высмеял необходимость — владычицу Вселенной, ибо лучше уж
следовать мифу о
богах,
чем быть рабом предопределенности
естествоиспытателей, ибо вера в мифы
дает
хоть
в живых образах
надежду на то, что, воздавая почести богам, удастся вымолить их
расположение, а предопределенность естествоиспытателей заклю-
чает в себе неумолимую необходимость (Л 37),
Но
выше мы видели, что люди способны изменить свою жизнь.
Правда, там говорилось также, что их толкала на это необходи-
мость, нужда. Но все-таки они как бы свободны. Например, они
свободно дали вещам имена. Так что возникает вопрос: откуда
же свобода? На этот счет имеются разные точки зрения. Иногда
доказывают, что в действительности Демокрит признавал объек-
тивность случайности.
Другие
же
говорят
о том, что атомисты
открыли,
что тайна свободы не в случайности, а в технике, что
Демокрит разделил то, что
существует
по природе, и то, что су-
ществует по установлению. Он отрицал случайность как там, так
и
здесь, ведь в основе техники также лежит необходимость. Но че-
ловек свободен, поскольку он техникой побеждает естественную
необходимость по законам социальной необходимости,
ЛЕКЦИЯ
XVIII
ТЕМА 39. СТАРШИЕ СОФИСТЫ. ПРОТАГОР
Во второй половине 5 в. до и. э. в Греции появляются софисты.
В условиях античной рабовладельческой демократии риторика,
логика н философия оттесняют в системе образования гимнастику
и
музыку. Риторика — искусство красноречия — становится цари-
цей
всех
искусств. В
судах
и в народных собраниях умение гово-
рить,
убеждать
и переубеждать становится жизненно важным.
Поэтому появились платные учителя «мыслить, говорить и де-
лать»
— софисты.
Древнегреческое слово «софистэс» означало знатока, мастера,
художника, мудреца. Но софисты были мудрецами особого рода.
Истина
их не интересовала. Они учили искусству побеждать про-
тивника
в спорах и в тяжбах. Адвокатов
тогда
не было. А «в
судах,—
скажет позднее Платон,— решительно никому пет ника-
кого дела до истины, важна только
убедительность»
(272 Е) '. По-
этому слово
«софист»
приобрело предосудительный смысл. Под
софистикой
стали понимать умение представлять черное белым,
а белое—• черным. Софисты были философами в той мере, в какой
эта практика получала у иих мировоззренческое обоснование.
Вместе с тем софисты сыграли положительную роль в духовном
развитии Эллады. Они — теоретики риторики. В центре их внима-
ния
— слово. Многие из софистов обладали удивительным даром
слова. Софисты создали науку о слове. Велики их заслуги и в
1
Платон. Соч. в 3-х т., т. 2, с. 214.
203
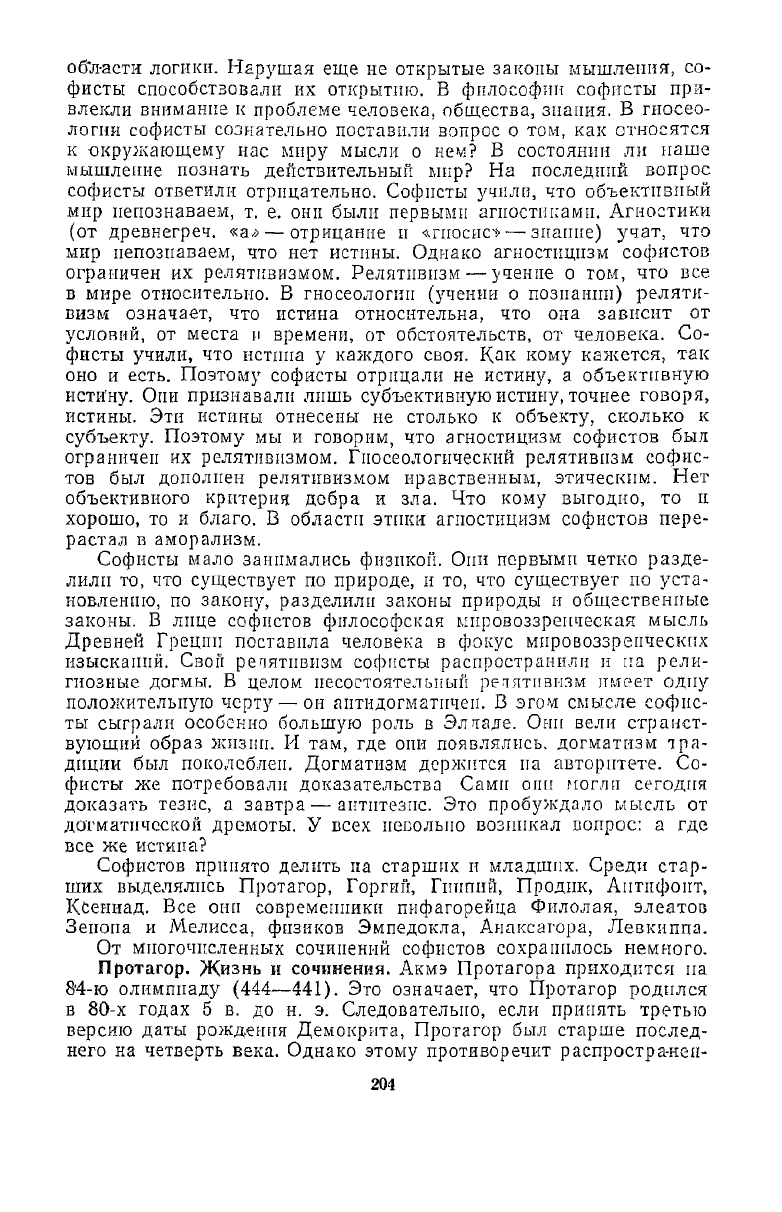
об"л-асти логики. Нарушая еще не открытые законы мышления, со-
фисты
способствовали их открытию. В философии софисты при-
влекли внимание к проблеме человека, общества,
знания.
В гносео-
логии софисты сознательно поставили вопрос о том, как относятся
к
окружающему нас миру мысли о нем? В состоянии ли наше
мышление познать действительный мир? На последний вопрос
софисты ответили отрицательно. Софисты учили, что объективный
мир
непознаваем, т. е. они были первыми агностиками. Агностики
(от древнегреч. «а* — отрицание п
«.пгосис-»
— знание)
учат,
что
мир
непознаваем, что нет истины. Однако агностицизм софистов
ограничен их релятивизмом. Релятивизм — учение о том, что все
в
мире относительно. В гносеологии (учении о познании) реляти-
визм
означает, что истина относительна, что она зависит от
условий, от места и времени, от обстоятельств, от человека. Со-
фисты
учили, что истина у каждого своя. Как кому кажется, так
оно
и есть. Поэтому софисты отрицали не истину, а объективную
истину. Они признавали лишь
субъективную
истину, точнее говоря,
истины.
Эти истины отнесены не столько к
объекту,
сколько к
субъекту.
Поэтому мы и говорим, что агностицизм софистов был
ограничен их релятивизмом. Гносеологический релятивизм софис-
тов был дополнен релятивизмом нравственным, этическим. Нет
объективного критерия добра и зла. Что кому выгодно, то и
хорошо, то и благо. В области этики агностицизм софистов пере-
растал в аморализм.
Софисты
мало занимались физикой. Они первыми четко разде-
лили то, что
существует
по природе, и то, что
существует
по
уста-
новлению,
по закону, разделили законы природы и общественные
законы.
В лице софистов философская мировоззренческая мысль
Древней Греции поставила человека в фокус мировоззренческих
изысканий.
Свой репятнвизм софисты распространили и па рели-
гиозные догмы. В целом несостоятельный репятнвизм имеет одну
положительную
черту
— он янтидогматичен. В эгом смысле софис-
ты сыграли особенно
большую
роль в Элладе. Они вели странст-
вующий образ жизни. И там, где они появлялись, догматизм тра-
диции
был поколеблен. Догматизм держится па авторитете. Со-
фисты
же потребовали доказательства Сами они могли сегодня
доказать тезис, а завтра — антитезис. Это
пробуждало
мысль от
догматической дремоты. У
всех
невольно возникал вопрос: а где
все же истина?
Софистов
принято делить на старших и младших. Среди стар-
ших выделялись Протагор, Горгий, Гпппнй, Продик, Аптифонт,
Ксениад.
Все они современники пифагорейца Филолая, элеатов
Зенопа
и Мелисса, физиков Эмпедокла, Анаксагора, Левкиппа.
От многочисленных сочинений софистов сохранилось немного.
Протагор.
Жизнь и сочинения. Акмэ Протагора приходится на
84-го
олимпиаду
(444—441).
Это означает, что Протагор родился
в
80-х
годах
5 в. до н. э. Следовательно, если принять
третью
версию
даты
рождения Демокрита, Протагор был старше послед-
него на
четверть
века. Однако этому противоречит распростра-неи-
204
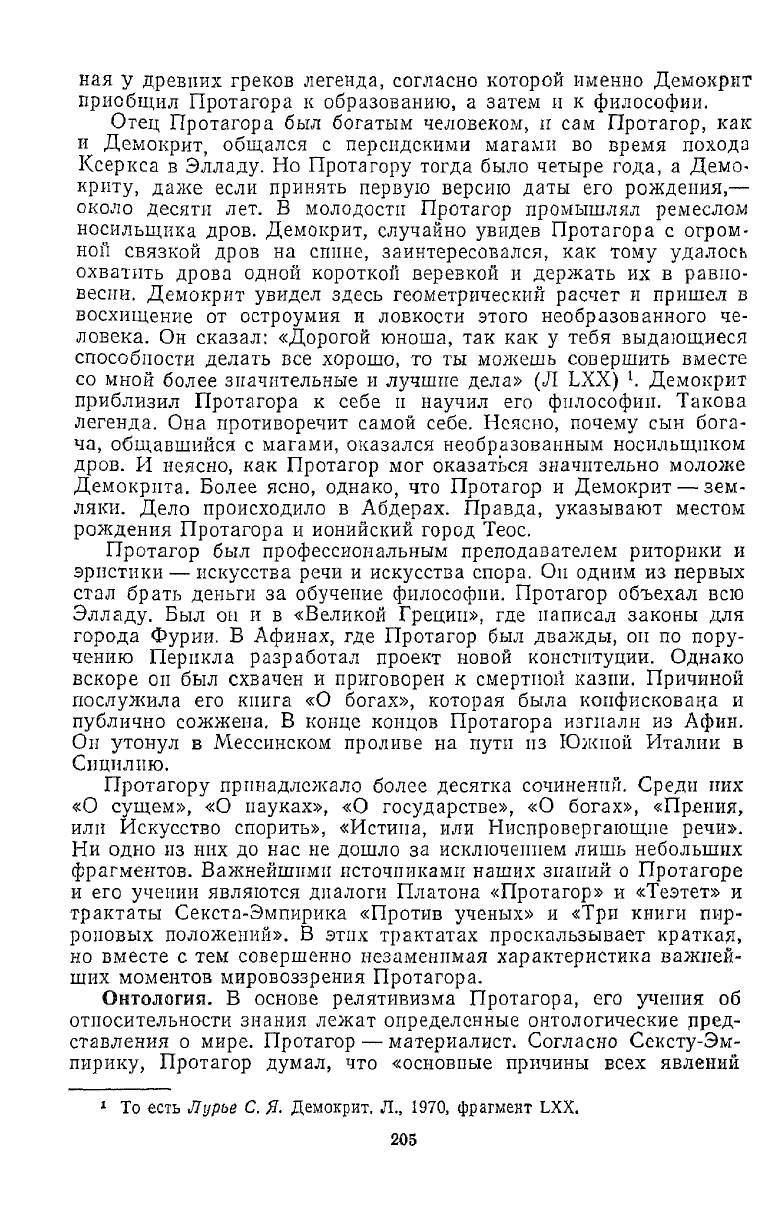
ная
у древних греков легенда, согласно которой именно Демокрит
приобщил
Протагора к образованию, а затем и к философии.
Отец Протагора был богатым человеком, и сам Протагор, как
и
Демокрит, общался с персидскими магами во время похода
Ксеркса
в Элладу. Но Протагору
тогда
было четыре
года,
а Демо-
криту,
даже
если принять первую версию даты его рождения,—
около
десяти лет. В молодости Протагор промышлял ремеслом
носильщика
дров. Демокрит, случайно увидев Протагора с огром-
ной
связкой дров на спине, заинтересовался, как тому удалось
охватить дрова одной короткой веревкой и держать их в равно-
весии.
Демокрит
увидел
здесь геометрический расчет и пришел в
восхищение от остроумия и ловкости этого необразованного че-
ловека. Он сказал; «Дорогой юноша, так как у тебя выдающиеся
способности делать все хорошо, то ты можешь совершить вместе
со мной более значительные и лучшие
дела»
(Л LXX)
1
. Демокрит
приблизил
Протагора к себе и научил его философии. Такова
легенда. Она противоречит самой себе.
Неясно,
почему сын бога-
ча, общавшийся с магами, оказался необразованным носильщиком
дров. И неясно, как Протагор мог оказаться значительно моложе
Демокрита. Более
ясно,
однако, что Протагор и Демокрит — зем-
ляки.
Дело происходило в
Абдерах.
Правда, указывают местом
рождения Протагора и ионийский город Теос.
Протагор был профессиональным преподавателем риторики и
эристики
— искусства речи и искусства спора. Он одним из первых
стал брать деньги за обучение философии. Протагор
объехал
всю
Элладу. Был он и в «Великой Греции», где написал законы для
города Фурии. В Афинах, где Протагор был дважды, он по пору-
чению Перикла разработал проект новой конституции. Однако
вскоре он был схвачен и приговорен к смертной казни. Причиной
послужила его книга «О
богах»,
которая была конфискована и
публично сожжена. В конце концов Протагора изгнали из Афин.
Он
утонул
в Мессинском проливе на пути из Южной Италии в
Сицилию.
Протагору принадлежало более десятка сочинений. Среди них
«О сущем», «О
науках»,
«О
государстве»,
«О
богах»,
«Прения,
или
Искусство спорить», «Истина, или Ниспровергающие речи».
Ни
одно из них до нас не дошло за исключением лишь небольших
фрагментов. Важнейшими источниками наших знаний о Протагоре
и
его учении являются диалоги Платона «Протагор» и
«Теэтет»
и
трактаты Секста-Эмпирика «Против
ученых»
и «Три книги пир-
роновых положений». В этих трактатах проскальзывает краткая,
но
вместе с тем совершенно незаменимая характеристика важней-
ших моментов мировоззрения Протагора.
Онтология. В основе релятивизма Протагора, его учения об
относительности знания лежат определенные онтологические пред-
ставления о мире. Протагор — материалист. Согласно Сексту-Эм-
пирику,
Протагор
думал,
что «основные причины
всех
явлений
1
То есть
Лурье
С. #. Демокрит. Л., 1970, фрагмент LXX.
205
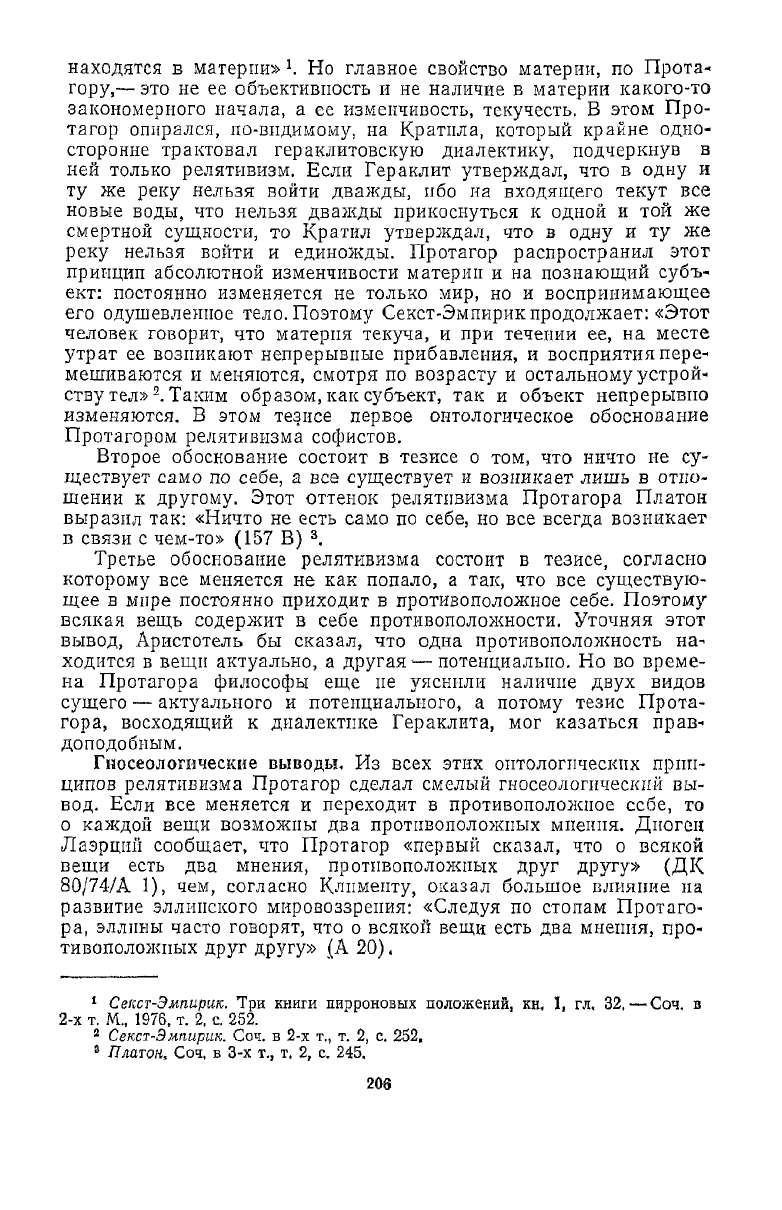
находятся в материи»
1
. Но главное свойство материи, по Прота-
гору,—
это не ее объективность и не наличие в материи какого-то
закономерного
начала, а ее изменчивость, текучесть. В этом Про-
тагор опирался, по-видимому, на Кратнла, который крайне одно-
сторонне трактовал гераклитовскую диалектику, подчеркнув в
ней
только релятивизм. Если Гераклит
утверждал,
что в одну и
ту же реку нельзя войти дважды, ибо на входящего
текут
все
новые воды, что нельзя дважды прикоснуться к одной и той же
смертной сущности, то Кратил
утверждал,
что в одну и ту же
реку нельзя войти и единожды. Протагор распространил этот
принцип
абсолютной изменчивости материн и на познающий
субъ-
ект: постоянно изменяется не только мир, но и воспринимающее
его одушевленное тело. Поэтому Секст-Эмпирик продолжает:
«Этот
человек говорит, что материя текуча, и при течении ее, на месте
утрат
ее возникают непрерывные прибавления, и восприятия пере-
мешиваются и меняются, смотря по возрасту и остальному устрой-
ству
тел»
2
.
Таким образом, как субъект, так и объект непрерывно
изменяются.
В этом тезисе первое онтологическое обоснование
Протагором релятивизма софистов.
Второе обоснование состоит в тезисе о том, что ничто не су-
ществует само по себе, а все
существует
и возникает лишь в отно-
шении
к
другому.
Этот оттенок релятивизма Протагора Платон
выразил так: «Ничто не есть само по себе, но все всегда возникает
в
связи с
чем-то»
(157 В)
3
.
Третье обоснование релятивизма состоит в тезисе, согласно
которому все меняется не как попало, а так, что все существую-
щее в мире постоянно приходит в противоположное себе. Поэтому
всякая
вещь содержит в себе противоположности. Уточняя этот
вывод, Аристотель бы сказал, что одна противоположность на-
ходится в вещи актуально, а
другая
•— потенциально. Но во време-
на
Протагора философы еще не уяснили наличие
двух
видов
сущего — актуального и потенциального, а потому тезис Прота-
гора, восходящий к диалектике Гераклита, мог казаться прав-
доподобным.
Гносеологические выводы. Из
всех
этих онтологических
прин-
ципов
релятивизма Протагор сделал смелый гносеологический вы-
вод. Если все меняется и переходит в противоположное себе, то
о
каждой вещи возможны два противоположных мнения. Диоген
Лаэрций
сообщает, что Протагор «первый сказал, что о всякой
вещи есть два мнения, противоположных
друг
другу»
(ДК
80/74/А
1), чем, согласно Клименту, оказал большое влияние на
развитие эллинского мировоззрения:
«Следуя
по стопам Протаго-
ра, эллины часто говорят, что о всякой вещи есть два мнения, про-
тивоположных
друг
другу»
(А 20),
1
Секст-Эмпирик.
Три книги пирроновых положений, кн, I, гл. 32, — Соч. в
2-х т. М., 1976, т. 2, с. 252.
2
Секст-Эмпирик.
Соч. в 2-х т., т. 2, с. 252,
3
Платон, Соч, в 3-х т., т, 2, с. 245.
206
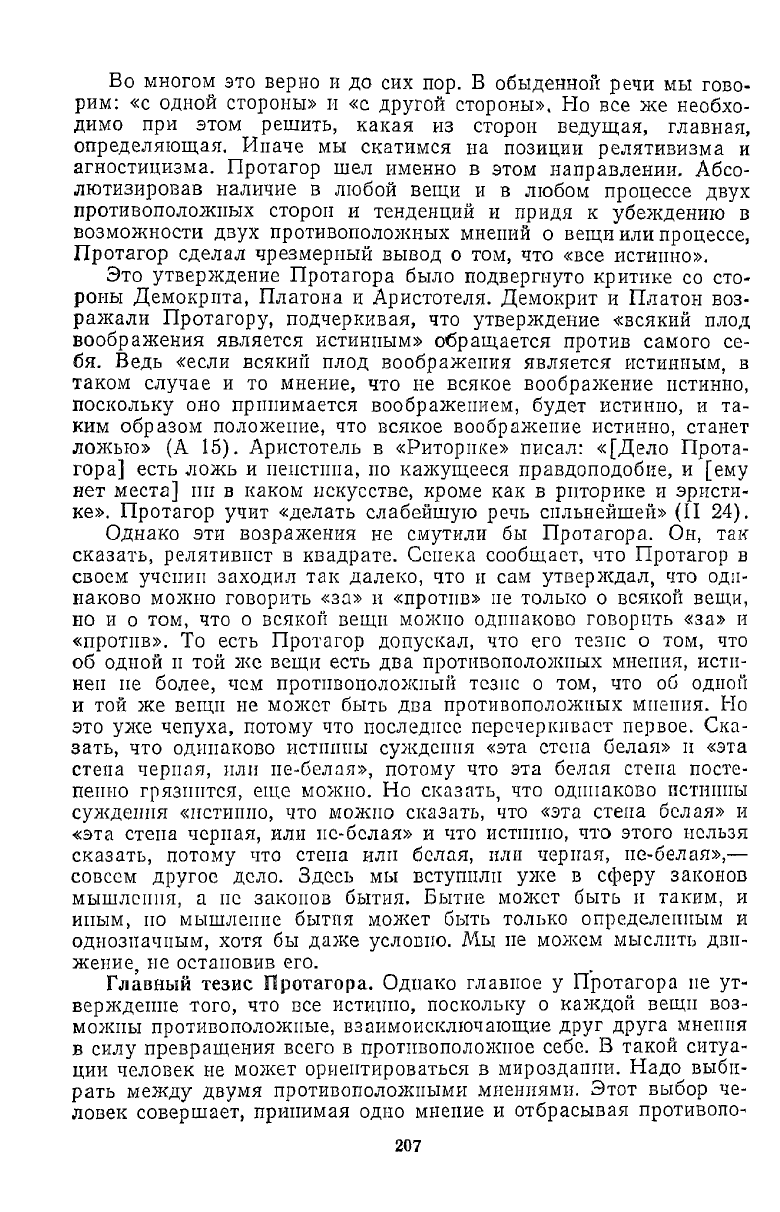
Во многом это верно и до сих пор. В обыденной речи мы гово-
рим:
«с одной стороны» и «с
другой
стороны». Но все же необхо-
димо при этом решить, какая из сторон ведущая, главная,
определяющая. Иначе мы скатимся на позиции релятивизма и
агностицизма. Протагор шел именно в этом направлении. Абсо-
лютизировав наличие в любой вещи и в любом процессе
двух
противоположных сторон и тенденций и придя к убеждению в
возможности
двух
противоположных мнений о вещи или процессе,
Протагор сделал чрезмерный вывод о том, что
«все
истинно».
Это утверждение Протагора было подвергнуто критике со сто-
роны
Демокрита, Платона и Аристотеля. Демокрит и Платон воз-
ражали Протагору, подчеркивая, что утверждение «всякий плод
воображения является истинным» обращается против самого се-
бя.
Ведь
«если
всякий плод воображения является истинным, в
таком
случае
и то мнение, что не всякое воображение истинно,
поскольку оно принимается воображением,
будет
истинно, и та-
ким
образом положение, что всякое воображение истинно, станет
ложью»
(А 15). Аристотель в «Риторике» писал:
«[Дело
Прота-
гора] есть ложь и ненстнпа, но кажущееся правдоподобие, и [ему
нет места] ни в каком искусстве, кроме как в риторике и эристи-
ке». Протагор
учит
«делать
слабейшую речь сильнейшей» (II 24).
Однако эти возражения не смутили бы Протагора. Он, так
сказать, релятивист в квадрате. Сенека сообщает, что Протагор в
своем учении заходил так далеко, что и сам
утверждал,
что оди-
наково
можно говорить
«за»
и
«против»
не только о всякой вещи,
но
и о том, что о всякой вещи можно одинаково говорить
«за»
и
«против». То есть Протагор допускал, что его тезис о том, что
об одной и той же вещи есть два противоположных мнения, исти-
нен
не более, чем противоположный тезис о том, что об одной
и
той же вещи не может быть два противоположных мнения. Но
это
уже
чепуха,
потому что последнее перечеркивает первое. Ска-
зать, что одинаково истинны суждения
«эта
степа
белая»
н
«эта
стена черная, или ие-белая», потому что эта белая стена посте-
пенно
грязнится, еще можно. Но сказать, что одинаково истинны
суждения «истинно, что можно сказать, что
«эта
степа
белая»
и
«эта
стена черпая, или ис-белая» и что истинно, что этого нельзя
сказать, потому что стена или белая, или черная, не-белая»,—
совсем
другое
дело. Здесь мы вступили уже в сферу законов
мышления,
а не законов бытия. Бытие может быть и таким, и
иным,
но мышление бытня может быть только определенным и
однозначным,
хотя бы
даже
условно. Мы не можем мыслить дви-
жение,
не остановив его.
Главный тезис Протагора. Однако главное у Протагора не ут-
верждение того, что все истинно, поскольку о каждой вещи воз-
можны противоположные, взаимоисключающие
друг
друга
мнения
в
силу превращения всего в противоположное себе. В такой ситуа-
ции
человек не может ориентироваться в мироздании. Надо выби-
рать
между
двумя противоположными мнениями. Этот выбор че-
ловек совершает, принимая одно мнение и отбрасывая противопо-
207
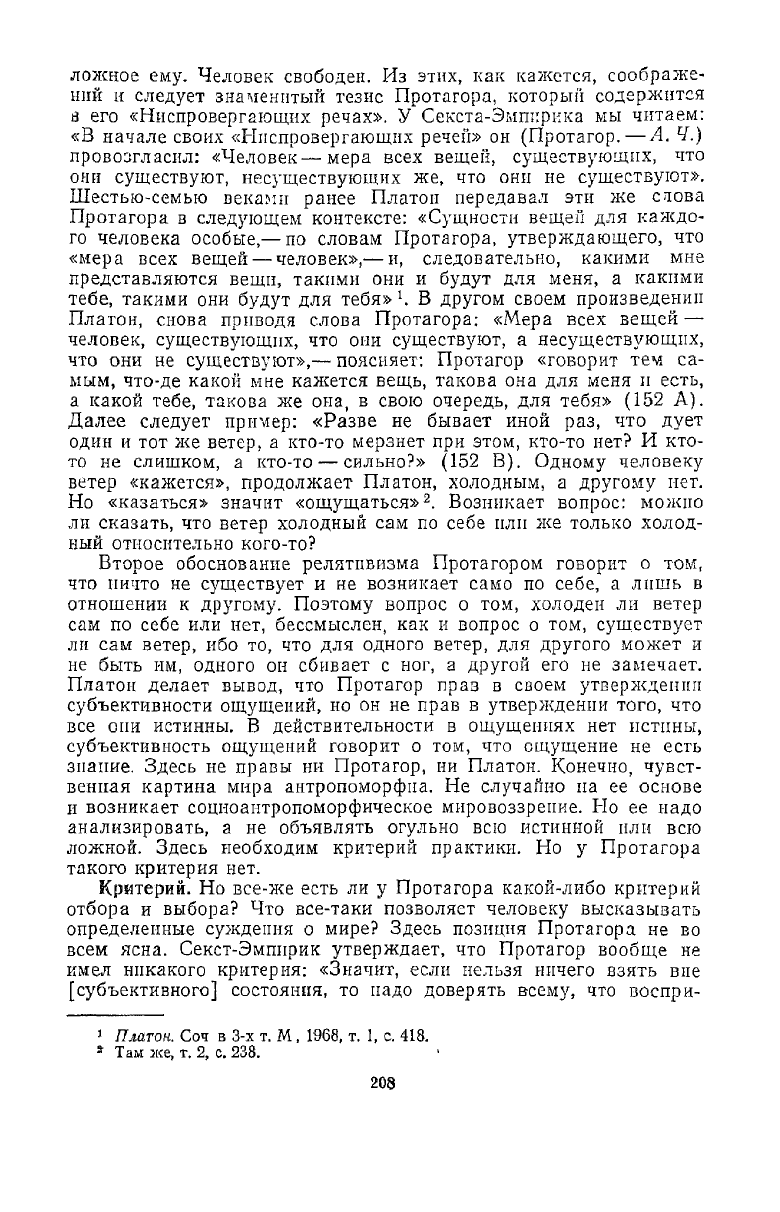
ложное ему. Человек свободен. Из этих, как кажется, соображе-
ний
и
следует
знаменитый тезис Протагора, который содержится
а его «Ниспровергающих
речах».
У Секста-Эмпкрика мы читаем:
«В начале своих «Ниспровергающих речей» он (Протагор. — А. Ч.)
провозгласил: «Человек—мера всех вещей, существующих, что
они
существуют, несуществующих же, что они не существуют».
Шестью-семью веками ранее Платон передавал эти же спова
Протагора в следующем контексте: «Сущности вещей для каждо-
го человека особые,— по словам Протагора, утверждающего, что
«мера всех вещей — человек»,— и, следовательно, какими мне
представляются вещи, такими они и
будут
для меня, а какими
тебе, такими они
будут
для
тебя»
Ч В другом своем произведении
Платон,
снова приводя слова Протагора: «Мера всех вещей —
человек, существующих, что они существуют, а несуществующих,
что они не существуют»,— поясняет: Протагор «говорит тем са-
мым,
что-де какой мне кажется вещь, такова она для меня и есть,
а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для
тебя»
(152 А).
Далее
следует
пример: «Разве не бывает иной раз, что
дует
один
и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, кто-то нет? И кто-
то не слишком, а кто-то — сильно?» (152 В). Одному человеку
ветер «кажется», продолжает Платон, холодным, а
другому
нет.
Но
«казаться» значит «ощущаться»
2
. Возникает вопрос: можно
ли
сказать, что ветер холодный сам по себе пли же только холод-
ный
относительно кого-то?
Второе обоснование релятивизма Протагором говорит о том,
что ничто не существует и не возникает само по себе, а лишь в
отношении
к
другому.
Поэтому вопрос о том, холоден ли ветер
сам по себе или нет, бессмыслен, как и вопрос о том, существует
ли
сам ветер, ибо то, что для одного ветер, для
другого
может и
не
быть им, одного он сбивает с ног, а другой его не замечает.
Платон
делает вывод, что Протагор прав в своем утверждении
субъективности ощущений, но он не прав в утверждении того, что
все они истинны. В действительности в ощущениях нет истины,
субъективность ощущений говорит о том, что ощущение не есть
знание.
Здесь не правы ни Протагор, ни Платон. Конечно, чувст-
венная
картина мира антропоморфна. Не случайно па ее основе
и
возникает социоантропоморфическое мировоззрение. Но ее надо
анализировать, а не объявлять огульно всю истинной или всю
ложной.
Здесь необходим критерий практики. Но у Протагора
такого критерия нет.
Критерий.
Но все-же есть ли у Протагора какой-либо критерий
отбора и выбора? Что все-таки позволяет человеку высказывать
определенные суждения о мире? Здесь позиция Протагора не во
всем ясна. Секст-Эмпнрик утверждает, что Протагор вообще не
имел никакого критерия: «Значит, если нельзя ничего взять вне
[субъективного] состояния, то надо доверять всему, что воспри-
1
Платон. Соч в 3-х т. М, 1968, т. 1, с. 418.
* Там же, т. 2, с. 238.
208
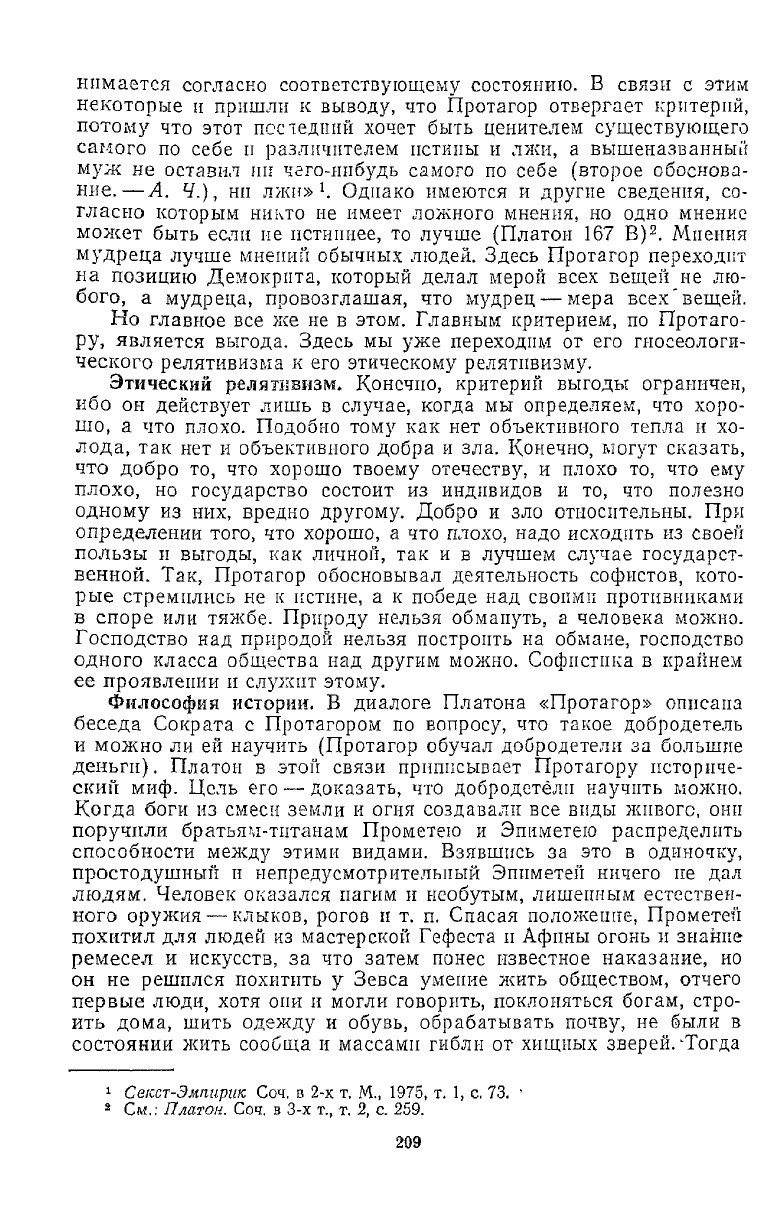
ннмается
согласно соответствующему состоянию. В связи с этим
некоторые и пришли к выводу, что Протагор отвергает критерий,
потому что этот пестедшш
хочет
быть ценителем существующего
самого по себе и различителем истины и лжи, а вышеназванный
муж не оставил ни чего-нибудь самого по себе (второе обоснова-
ние.—
А. Ч.), ни ЛЖЕТ»
1
. Однако имеются и
другие
сведения, со-
гласно которым никто не имеет ложного мнения, но одно мнение
может быть если не истиннее, то лучше (Платон 167 В)
2
. Мнения
мудреца лучше мнений обычных людей. Здесь Протагор переходит
на
позицию Демокрита, который делал мерой
всех
пещей не лю-
бого, а мудреца, провозглашая, что мудрец — мера
всех
"вещей.
Но
главное все же не в этом. Главным критерием, по Протаго-
ру, является выгода. Здесь мы уже переходим от его гносеологи-
ческого релятивизма к его этическому релятивизму.
Этический
релятивизм. Конечно, критерий выгоды ограничен,
ибо он
действует
лишь в случае, когда мы определяем, что хоро-
шо,
а что плохо. Подобно тому как нет объективного тепла и хо-
лода, так нет и объективного добра и зла. Конечно,
могут
сказать,
что добро то, что хорошо твоему
отечеству,
и плохо то, что ему
плохо, но государство состоит из индивидов и то, что полезно
одному из них, вредно
другому.
Добро и зло относительны. При
определении того, что хорошо, а что плохо, надо исходить из своей
пользы н выгоды, как личной, так и в лучшем
случае
государст-
венной.
Так, Протагор обосновывал деятельность софистов, кото-
рые стремились не к истине, а к победе над своими противниками
в
споре или тяжбе. Природу нельзя обмануть, а человека можно.
Господство над природой нельзя построить на обмане, господство
одного класса общества над другим можно. Софистика в крайнем
ее проявлении и служит этому.
Философия
истории. В диалоге Платона «Протагор» описана
беседа Сократа с Протагором по вопросу, что такое добродетель
и
можно ли ей научить (Протагор
обучал
добродетели за большие
деньги). Платон в этой связи приписывает Протагору историче-
ский
миф. Цель его — доказать, что добродетели научить можно.
Когда боги из смеси земли и огня создавали все виды литого, они
поручили братьям-титанам Прометею и Эпиметею распределить
способности
между
этими видами. Взявшись за это в одиночку,
простодушный и непредусмотрительный Эппметей ничего не дал
людям. Человек оказался нагим и необутым, лишенным естествен-
ного оружия — клыков, рогов н т. п. Спасая положение, Прометей
похитил для людей из мастерской Гефеста и Афины огонь и знание
ремесел и искусств, за что затем понес известное наказание, но
он
не решился похитить у Зевса умение жить обществом, отчего
первые люди, хотя они и могли говорить, поклоняться богам, стро-
ить дома, шить
одежду
и обувь, обрабатывать почву, не были в
состоянии
жить сообща и массами гибли от хищных зверей. Тогда
1
Секст-Эмпирик
Соч. в 2-х т. М., 1975, т. 1, с, 73. •
2
См.;
Платон.
Соч. в 3-х т., т. 2, с. 259.
209
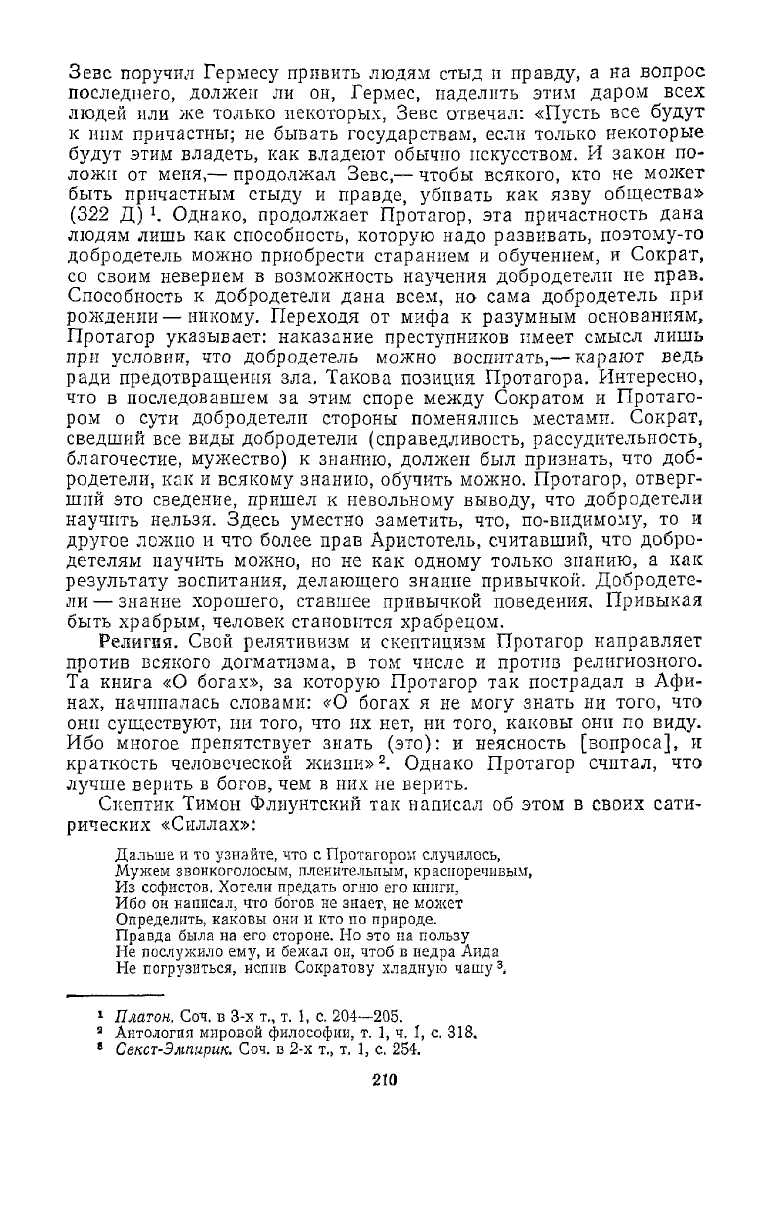
Зезс
поручил Гермесу привить людям стыд и правду, а на вопрос
последнего, должен ли он, Гермес, наделить этим даром
всех
людей или же только некоторых, Зевс отвечал: «Пусть все
будут
к
ним причастны; не бывать государствам, если только некоторые
будут
этим владеть, как владеют обычно искусством. И закон по-
ложи от меня,— продолжал Зевс,— чтобы всякого, кто не может
быть причастным
стыду
и правде, убивать как язву общества»
(322 Д)
1
. Однако, продолжает Протагор, эта причастность дана
людям лишь как способность, которую надо развивать, поэтому-то
добродетель можно приобрести старанием и обучением, и Сократ,
со своим неверием в возможность научения добродетели не прав.
Способность к добродетели дана всем, но сама добродетель при
рождении — никому. Переходя от мифа к разумным основаниям,
Протагор указывает: наказание преступников имеет смысл лишь
при
условии, что добродетель можно воспитать,— карают ведь
ради предотвращения зла. Такова позиция Протагора. Интересно,
что в последовавшем за этим споре
между
Сократом и Протаго-
ром о сути добродетели стороны поменялись местами. Сократ,
сведший все виды добродетели (справедливость, рассудительность,
благочестие, мужество) к знанию, должен был признать, что доб-
родетели, как и всякому знанию, обучить можно. Протагор, отверг-
ший
это сведение, пришел к невольному выводу, что добродетели
научить нельзя. Здесь уместно заметить, что, по-видимому, то и
другое
ложно и что более прав Аристотель, считавший, что добро-
детелям научить можно, но не как одному только знанию, а как
результату
воспитания, делающего знание привычкой. Добродете-
ли
— знание хорошего, ставшее привычкой поведения. Привыкая
быть храбрым, человек становится храбрецом.
Религия.
Свой релятивизм и скептицизм Протагор направляет
против всякого догматизма, в том числе и против религиозного.
Та книга «О
богах»,
за которую Протагор так пострадал в Афи-
нах, начиналась словами: <Ю
богах
я не могу знать ни того, что
они
существуют,
ни того, что их нет, ни того, каковы они по
виду.
Ибо
многое препятствует знать
(это):
и неясность [вопроса], и
краткость человеческой жизни»
2
. Однако Протагор считал, что
лучше верить в богов, чем в них не верить.
Скептик
Тимоы Флиунтский так написал об этом в своих сати-
рических
«Силлах»:
Дальше и то узнайте, что с Протагором случилось,
Мужем звонкоголосым, пленительным, красноречивым,
Из
софистов. Хотели предать огню его книги,
Ибо
он написал, что богов не знает, не может
Определить, каковы они и кто по природе.
Правда была на его стороне. Но это на пользу
Не
послужило ему, и бежал он, чтоб в недра
Аида
Не
погрузиться, испив Сократову
хладную
чашу
3
,
1
Платон. Соч. в 3-х т., т. 1, с.
204—205.
2
Антология мировой философии, т. 1, ч. 1, с. 318.
8
Секст-Эмпирик.
Соч. в 2-х т., т. 1, с. 254.
210
