Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии
Подождите немного. Документ загружается.

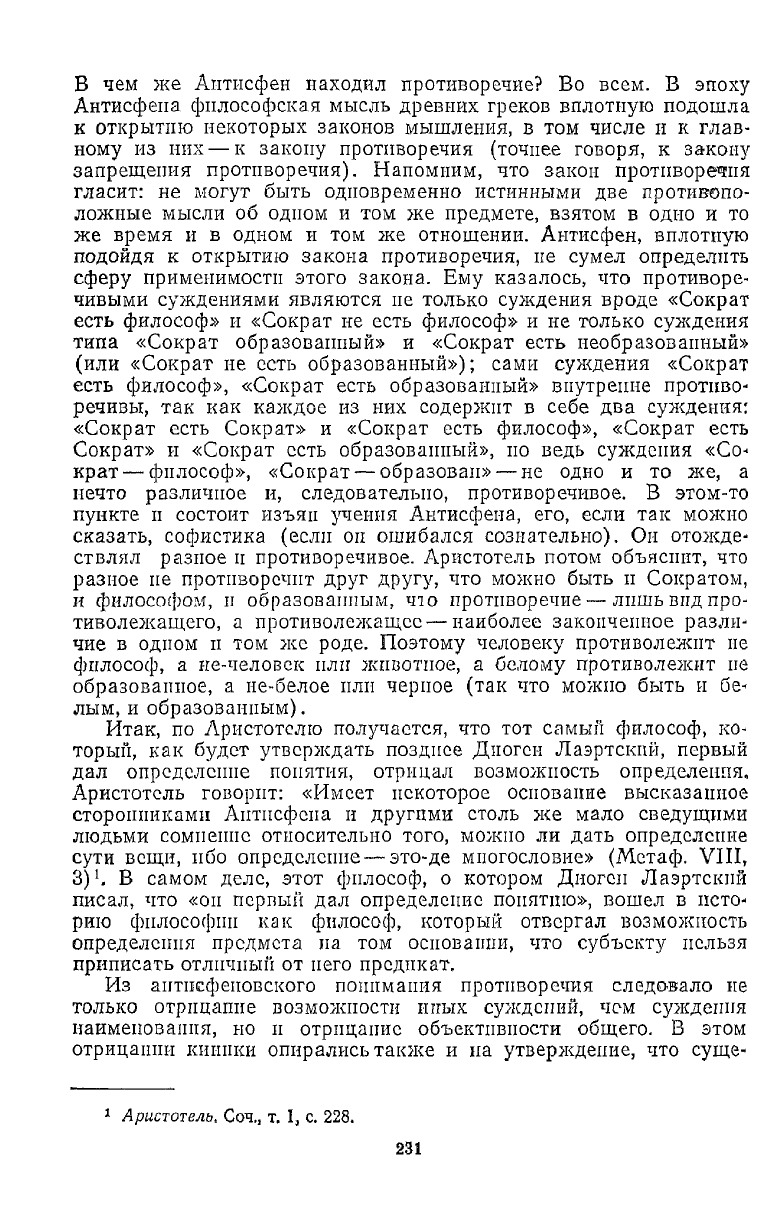
В чем же Антисфен находил противоречие? Во всем. В эпоху
Антисфена философская мысль древних греков вплотную подошла
к
открытию некоторых законов мышления, в том числе и к глав-
ному из них — к закону противоречия (точнее говоря, к закону
запрещения
противоречия). Напомним, что закон противоречия
гласит: не
могут
быть одновременно истинными две противопо-
ложные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то
же время и в одном и том же отношении. Антисфен, вплотную
подойдя к открытию закона противоречия, не сумел определить
сферу применимости этого закона. Ему казалось, что противоре-
чивыми суждениями являются не только суждения вроде «Сократ
есть философ» и «Сократ не есть философ» и не только суждения
типа «Сократ образованный» и «Сократ есть необразованный»
(или
«Сократ не есть образованный»); сами суждения «Сократ
есть философ», «Сократ есть образованный» внутренне противо-
речивы, так как каждое из них содержит в себе два суждения:
«Сократ есть Сократ» и «Сократ есть философ», «Сократ есть
Сократ» и «Сократ есть образованный», но ведь суждения «Со-
крат— философ», «Сократ — образован» — не одно и то лее, а
нечто различное и, следовательно, противоречивое. В этом-то
пункте и состоит изъян учения Антисфена, его, если так можно
сказать, софистика (если он ошибался сознательно). Он отожде-
ствлял разное и противоречивое. Аристотель потом объяснит, что
разное не противоречит
друг
другу,
что можно быть п Сократом,
и
философом, н образованным, что противоречие — лишь вид про-
тиволежащего, а противолежащее — наиболее закопченное разли-
чие в одном и том же роде. Поэтому человеку противолежит не
философ,
а не-человск пли животное, а белому противолежит не
образованное,
а не-белое или черное (так что можно быть и бе-
лым,
и образованным).
Итак,
по Аристотелю получается, что тот самый философ, ко-
торый, как
будет
утверждать
позднее Диоген Лаэртский, первый
дал определение понятия, отрицал возможность определения.
Аристотель говорит: «Имеет некоторое основание высказанное
сторонниками
Антпсфепа и другими столь же мало сведущими
людьми сомнение относительно того, можно ли дать определение
сути вещи, ибо определение — это-де многословие» (Мстаф. VIII,
З)
1
.
В самом деле, этот философ, о котором Диоген Лаэртскнй
писал,
что «он первый дал определение понятию», вошел в исто-
рию философии как философ, который отвергал возможность
определения предмета на том основании, что
субъекту
нельзя
приписать
отличный от него предикат.
Из
аитпефеповского понимания противоречия следовало не
только отрицание возможности иных суждений, чем суждения
наименования,
но и отрицание объективности общего. В этом
отрицании
киники
опирались также и на утверждение, что суще-
1
Аристотель,
Соч„ т. I, с. 228.
231
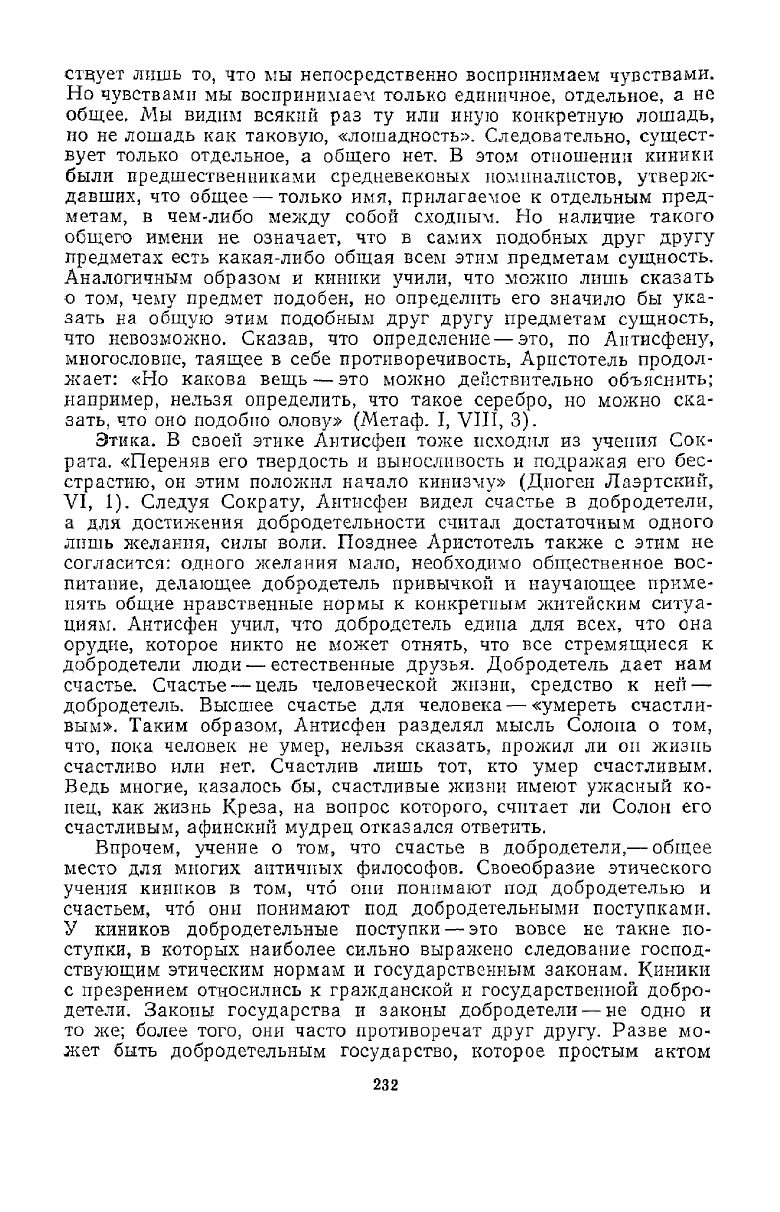
сщует лишь то, что мы непосредственно воспринимаем чувствами.
Но
чувствами мы воспринимаем только единичное, отдельное, а не
общее. Мы видим всякий раз ту или иную конкретную лошадь,
но
не лошадь как таковую, «лошадность». Следовательно, сущест-
вует
только отдельное, а общего нет. В этом отношении
киники
были предшественниками средневековых номиналистов,
утверж-
давших, что общее — только имя, прилагаемое к отдельным пред-
метам, в чем-либо
между
собой сходным. Но наличие такого
общего имени не означает, что в самих подобных
друг
другу
предметах есть какая-либо общая всем этим предметам сущность.
Аналогичным образом и
киники
учили, что можно лишь сказать
о
том, чему предмет подобен, но определить его значило бы ука-
зать на общую этим подобным
друг
другу
предметам сущность,
что невозможно. Сказав, что определение — это, по Аитисфену,
многословие, таящее в себе противоречивость, Аристотель продол-
жает: «Но какова вещь — это можно действительно объяснить;
например,
нельзя определить, что такое серебро, но можно ска-
зать, что оно подобно
олову»
(Метаф. I, VIII, 3).
Этика.
В езоей этике Антисфен тоже неходил из учения Сок-
рата. «Переняв его твердость и выносливость и подражая его бес-
страстию, он этим положил начало кинизму» (Диоген Лаэртский,
VI, 1). Следуя Сократу, Антисфен видел счастье в добродетели,
а для достижения добродетельности считал достаточным одного
лишь
желания, силы воли. Позднее Аристотель также с этим не
согласится: одного желания мало, необходимо общественное вос-
питание,
делающее добродетель привычкой и научающее приме-
нять
общие нравственные нормы к конкретным житейским ситуа-
циям.
Антисфен учил, что добродетель едина для
всех,
что она
орудие, которое никто не может отнять, что все стремящиеся к
добродетели люди — естественные друзья. Добродетель
дает
нам
счастье. Счастье — цель человеческой жизни, средство к ней —
добродетель. Высшее счастье для человека —
«умереть
счастли-
вым». Таким образом, Антисфен разделял мысль Солона о том,
что, пока человек не умер, нельзя сказать, прожил ли он жизнь
счастливо или нет. Счастлив лишь тот, кто
умер
счастливым.
Ведь
многие, казалось бы, счастливые жизни имеют ужасный ко-
нец,
как жизнь Креза, на вопрос которого, считает ли Солон его
счастливым, афинский мудрец отказался ответить.
Впрочем, учение о том, что счастье в добродетели,— общее
место для многих античных философов. Своеобразие этического
учения киников в том, что они понимают под добродетелью и
счастьем, что они понимают под добродетельными поступками.
У киников добродетельные поступки — это вовсе не такие по-
ступки, в которых наиболее сильно выражено следование господ-
ствующим этическим нормам и государственным законам.
Киники
с презрением относились к гражданской и государственной добро-
детели. Законы государства и законы добродетели — не одно и
то же; более того, они часто противоречат
друг
другу.
Разве мо-
жет быть добродетельным государство, которое простым актом
232
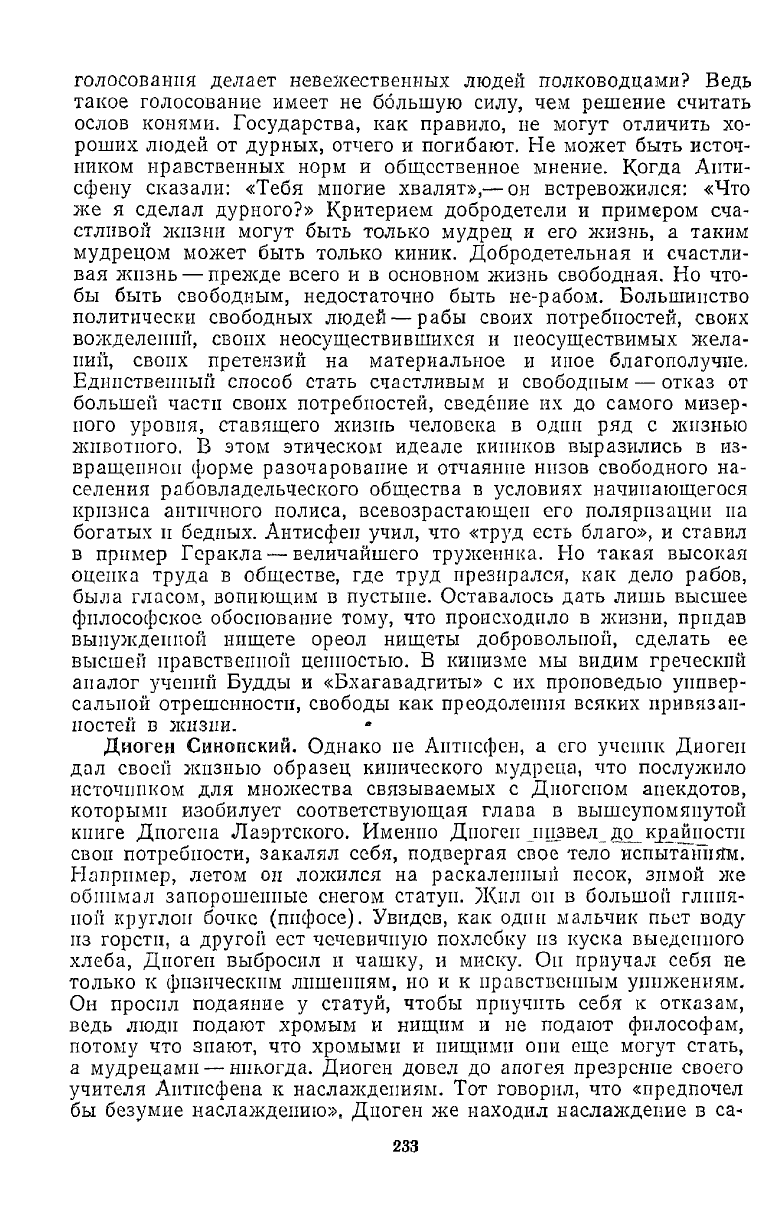
голосования
делает
невежественных людей полководцами?
Ведь
такое голосование имеет не большую силу, чем решение считать
ослов конями. Государства, как правило, не
могут
отличить хо-
роших людей от
дурных,
отчего и погибают. Не может быть источ-
ником
нравственных норм и общественное мнение. Когда Анти-
сфеиу сказали: «Тебя многие
хвалят»,—
он встревожился:
«Что
же я сделал
дурного?»
Критерием добродетели и примером сча-
стливой жизни
могут
быть только мудрец и его жизнь, а таким
мудрецом может быть только
киник.
Добродетельная и счастли-
вая
жизнь — прежде всего и в основном жизнь свободная. Но что-
бы быть свободным, недостаточно быть не-рабом. Большинство
политически свободных людей — рабы своих потребностей, своих
вожделений, своих неосуществившихся и неосуществимых жела-
ний,
своих претензий на материальное и иное благополучие.
Единственный
способ стать счастливым и свободным — отказ от
большей части своих потребностей, сведение их до самого мизер-
ного уровня, ставящего жизнь человека в один ряд с жизнью
животного. В этом этическом идеале киников выразились в из-
вращенной
форме разочарование и отчаяние низов свободного на-
селения
рабовладельческого общества в условиях начинающегося
кризиса
античного полиса, всевозрастающен его поляризации на
богатых н бедных. Антисфен учил, что
«труд
есть
благо»,
и ставил
в
пример Геракла — величайшего труженика. Но такая высокая
оценка
труда
в обществе, где
труд
презирался, как дело рабов,
была гласом, вопиющим в пустыне. Оставалось дать лишь высшее
философское
обоснование
тому,
что происходило в жизни, придав
вынужденной нищете ореол нищеты добровольной, сделать ее
высшей нравственной ценностью. В кипизме мы видим греческий
аналог учений Будды и
«Бхагавадгиты»
с их проповедью универ-
сальной отрешенности, свободы как преодоления всяких привязан-
ностей в жизни.
Диоген Синопский. Однако не Аптисфен, а его ученик Диоген
дал своей жизнью образец кшшческого мудреца, что послужило
источником
для множества связываемых с Диогеном анекдотов,
которыми изобилует соответствующая глава в вышеупомянутой
книге
Диогена Лаэртского. Именно Диоген ^ппзвел^ до кр_гшностп
своп потребности, закалял себя, подвергая свое тело испытаниям.
Например,
летом он ложился на раскаленный песок, зимой же
обнимал запорошенные снегом статуи. Жил он в большой глпня-
иоп
круглой бочке (пифосе). Увидев, как один мальчик пьет
воду
из
горсти, а
другой
ест чечевичную похлебку из куска выеденного
хлеба,
Диоген выбросил и чашку, и миску. Он приучал себя не
только к физическим лишениям, но и к нравственным унижениям.
Он
просил подаяние у статуй, чтобы приучить себя к отказам,
ведь люди подают хромым и нищим и не подают философам,
потому что знают, что хромыми и нищими они еще
могут
стать,
а мудрецами — никогда. Диоген довел до апогея презрение своего
учителя Антпсфена к наслаждениям. Тот говорил, что «предпочел
бы безумие наслаждению», Диоген же находил наслаждение в са«
233
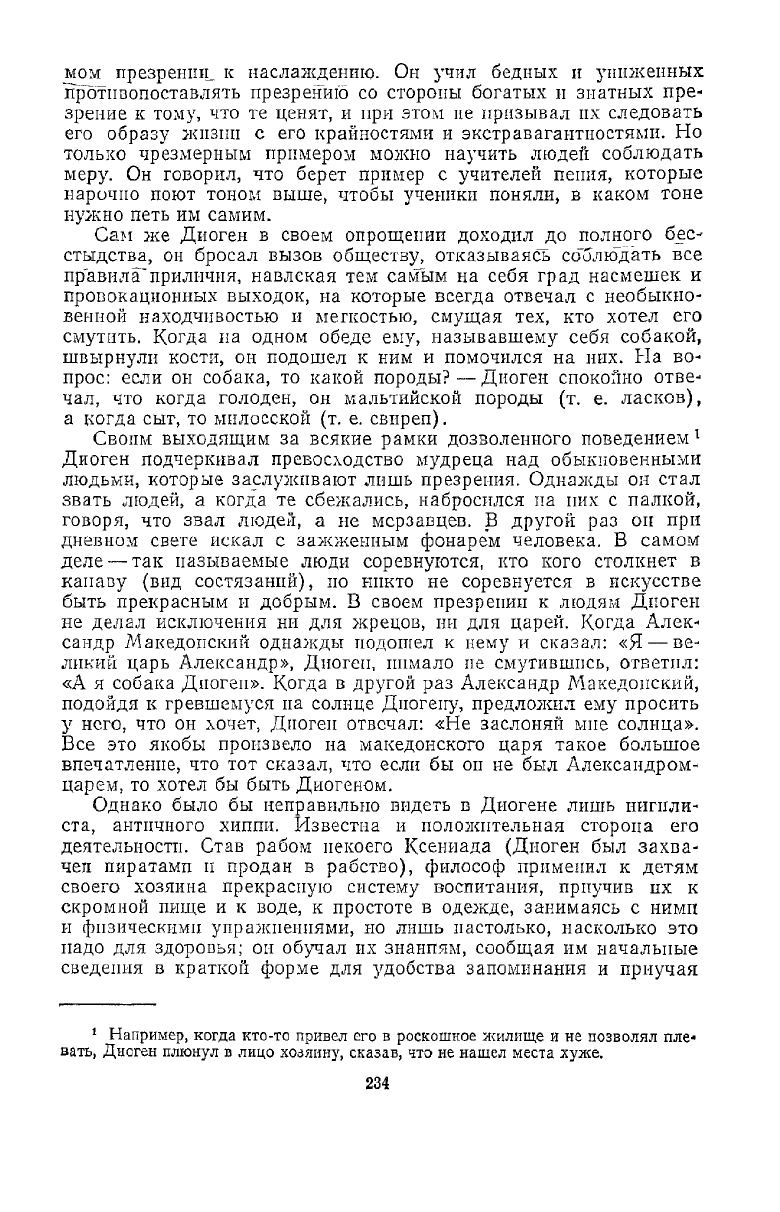
мом презрении, к наслаждению. Он учил бедных н униженных
противопоставлять презрению со стороны богатых и знатных пре-
зрение
к
тому,
что те ценят, и при этом не призывал их следовать
его образу жизни с его крайностями и экстравагантностяыи. Но
только чрезмерным примером можно научить людей соблюдать
меру. Он говорил, что берет пример с учителей пения, которые
нарочно
поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне
нужно петь им самим.
Сам
же Диоген в своем опрощении доходил до полного бес-
стыдства, он бросал вызов обществу, отказываясь соблюдать все
правила"приличия,
навлекая тем самым на себя
град
насмешек и
провокационных
выходок, на которые всегда отвечал с необыкно-
венной
находчивостью и меткостью, смущая тех, кто
хотел
его
смутить. Когда на одном обеде ему, называвшему себя собакой,
швырнули кости, он подошел к ним и помочился на них. На во-
прос:
если он собака, то какой породы? — Диоген спокойно отве-
чал, что когда голоден, он мальтийской породы (т. е. ласков),
а когда сыт, то ыилосской (т. е. свиреп).
Своим
выходящим за всякие рамки дозволенного поведением
1
Диоген подчеркивал превосходство мудреца над обыкновенными
людьми, которые заслуживают лишь презрения. Однажды он стал
звать людей, а когда те сбежались, набросился па них с палкой,
говоря, что ззал людей, а не мерзавцев. В
другой
раз он при
дневном свете искал с зажженным фонарем человека. В самом
деле
— так называемые люди соревнуются, кто кого столкнет в
канаву (вид состязаний), но никто не соревнуется в искусстве
быть прекрасным и добрым. В своем презрении к людям Диоген
не
делал исключения ни для жрецов, ни для царей. Когда
Алек-
сандр Македонский однажды подошел к нему и сказал: «Я — ве-
ликий
царь Александр», Диоген, нимало не смутившись, ответил:
«А я собака Диоген». Когда в
другой
раз Александр Македонский,
подойдя к гревшемуся па солнце Диогену, предложил ему просить
у него, что он
хочет,
Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнца».
Все это якобы произвело на македонского царя такое большое
впечатление, что тот сказал, что если бы он не был Александром-
царем,
то
хотел
бы быть Диогеном.
Однако было бы неправильно видеть в Диогене лишь нигили-
ста, античного хиппи. Известна и положительная сторона его
деятельности. Став рабом некоего Ксениада (Диоген был
захва-
чен пиратами п продан в рабство), философ применил к детям
своего хозяина прекрасную систему воспитания, приучив их к
скромной
пище и к воде, к простоте в одежде, занимаясь с ними
и
физическими упражнениями, но лишь настолько, насколько это
надо для здоровья; он
обучал
их знанпям, сообщая им начальные
сведения в краткой форме для
удобства
запоминания и приучая
1
Например, когда кто-то привел его в роскошное жилище и не позволял
пле«
вать, Диоген плюнул в лицо хозяину, сказав, что не нашел места
хуже.
234
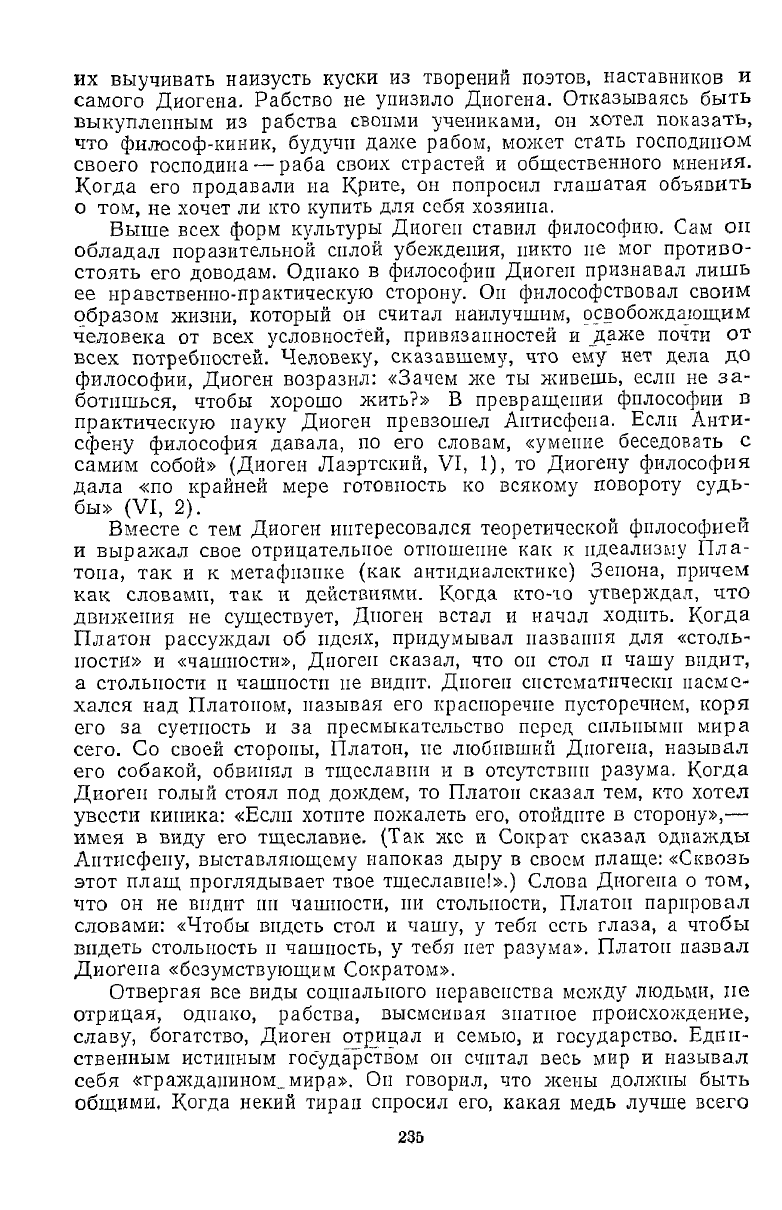
их выучивать наизусть куски из творений поэтов, наставников и
самого Диогена. Рабство не унизило Диогена. Отказываясь быть
выкупленным из рабства своими учениками, он
хотел
показать,
что философ-киник,
будучи
даже
рабом, может стать господином
своего господина — раба своих страстей и общественного мнения.
Когда его продавали на Крите, он попросил глашатая объявить
о
том, не
хочет
ли кто купить для себя хозяина.
Выше
всех
форм культуры Диоген ставил философию. Сам он
обладал поразительной силой убеждения, никто не мог противо-
стоять его доводам. Однако в философии Диоген признавал лишь
ее нравственно-практическую сторону. Он философствовал своим
образом жизни, который он считал наилучшим, освобождающим
человека от
всех
условностей, привязанностей и
даже
почти от
всех
потребностей. Человеку, сказавшему, что ему нет дела до
философии,
Диоген возразил: «Зачем же ты живешь, если не за-
ботишься, чтобы хорошо
жить?»
В превращении философии в
практическую пауку Диоген превзошел Антисфена. Если Анти-
сфену философия давала, по его словам, «умение беседовать с
самим собой» (Диоген Лаэртский, VI, 1), то Диогену философия
дала «по крайней мере готовность ко всякому повороту
судь-
бы» (VI, 2).
Вместе с тем Диоген интересовался теоретической философией
и
выражал свое отрицательное отношение как к идеализму Пла-
тона, так и к метафизике (как антидиалсктикс) Зенона, причем
как
словами, так и действиями. Когда кто-ю
утверждал,
что
движения не
существует,
Диоген встал и начал ходить. Когда
Платон
рассуждал об идеях, придумывал названия для «столь-
иости» и «чашности», Диоген сказал, что он стол и чашу видит,
а столыюсти и чашпости не видит. Диоген систематически насме-
хался над Платоном, называя его красноречие пусторечием, коря
его за суетность и за пресмыкательство перед сильными мира
сего. Со своей стороны, Платон, не любивший Диогена, называл
его собакой, обвинял в тщеславии и в отсутствии разума. Когда
Диоген голый стоял под дождем, то Платон сказал тем, кто
хотел
увести киника: «Если
хотите
пожалеть его, отойдите в сторону»,—
имея
в виду его тщеславие. (Так же и Сократ сказал однажды
Аитисфепу, выставляющему напоказ дыру в своем плаще: «Сквозь
этот плащ проглядывает твое тщеславие!».) Слова Диогена о том,
что он не видит пи чашпости, пи столыюсти, Платон парировал
словами: «Чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы
видеть столыюсть и чашиость, у тебя нет разума». Платон назвал
Диогена «безумствующим Сократом».
Отвергая все виды социального неравенства
между
людьми, не
отрицая,
однако, рабства, высмеивая знатное происхождение,
славу,
богатство, Диоген отр_ицал и семью, и государство. Един-
ственным истинным государством он считал весь мир и называл
себя «граждапином„мира». Он говорил, что жены должны быть
общими.
Когда некий тиран спросил его, какая медь лучше всего
235
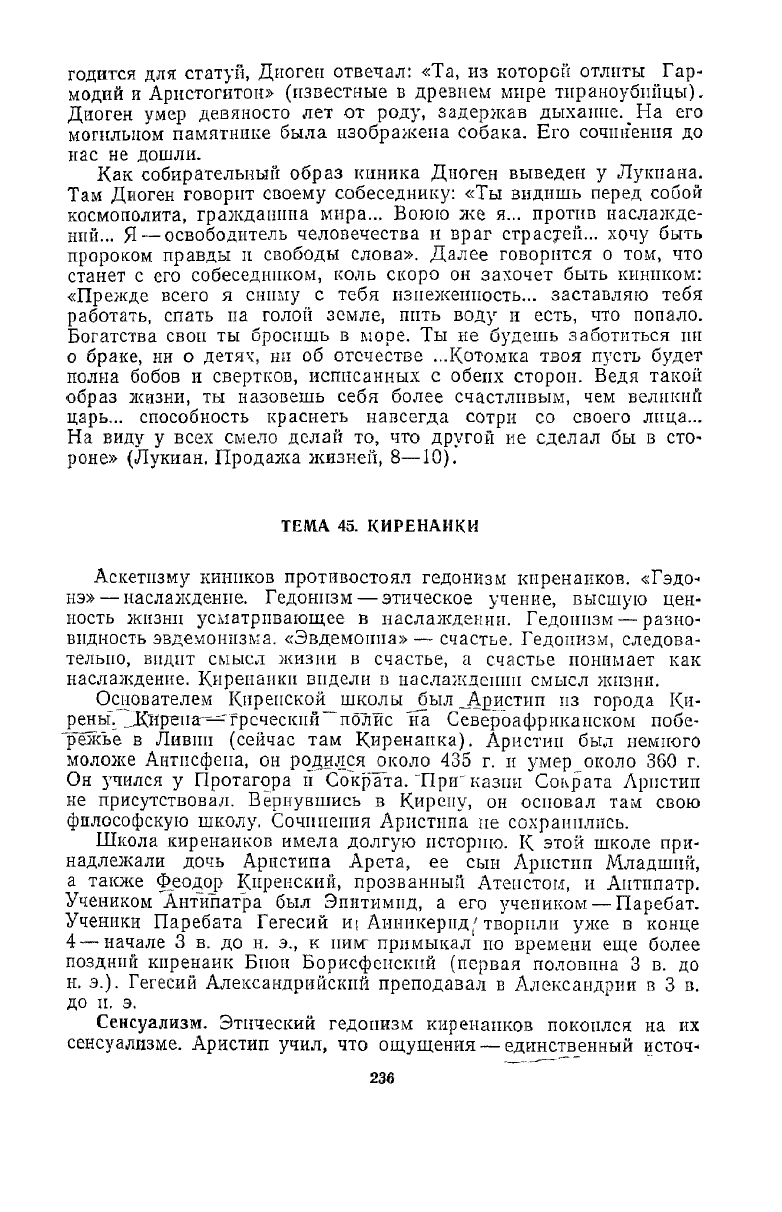
годится для статуй, Диоген отвечал: «Та, из которой отлиты Гар-
модий и Аристогитон» (известные в древнем мире тираноубийцы).
Диоген
умер
девяносто лет от
роду,
задержав дыхание.
_
На его
могильном памятнике была изображена собака. Его сочинения до
нас
не дошли.
Как
собирательный образ киника Диоген выведен у Лукиана.
Там Диоген говорит своему собеседнику: «Ты видишь перед собой
космополита, гражданина мира... Воюю же я... против наслажде-
ний...
Я — освободитель человечества и враг страстен...
хочу
быть
пророком
правды п свободы слова». Далее говорится о том, что
станет с его собеседником, коль скоро он
захочет
быть киником:
«Прежде всего я сниму с тебя изнеженность... заставляю тебя
работать, спать па голой земле, пить
воду
и есть, что попало.
Богатства свои ты бросишь в море. Ты не будешь заботиться ни
о
браке, ни о
детях,
ни об отечестве ...Котомка твоя пусть
будет
полна
бобов и свертков, исписанных с обеих сторон. Ведя такой
образ жизни, ты назовешь себя более счастливым, чем великий
царь...
способность краснеть навсегда сотри со своего лица...
На
виду у
всех
смело делай то, что
другой
ие сделал бы в сто-
роне» (Лукиан. Продажа жизнен,
8—10).
ТЕМА
45.
КИРЕНАИКИ
Аскетизму киников противостоял гедонизм киренаиков. «Гэдо-
нэ» — наслаждение. Гедонизм — этическое учение, высшую цен-
ность жизни усматривающее в наслаждении. Гедонизм — разно-
видность эвдемонизма. «Эвдемонпа» — счастье. Гедонизм, следова-
тельно, видит смысл жизни в счастье, а счастье понимает как
наслаждение. Киренаикн видели в наслаждении смысл жизни.
Основателем Киренской школы _был ^Аристип из города Ки-
реньь
1Кнре-наг=^-~
греческий
~~
пол не 'на Североафриканском побе-
"рёжье в Ливии (сейчас там Киренаика). Аристип был немного
моложе Антнсфена, он родился около 435 г. и умероколо 360 г.
Он
учился у Протагора и Сократа. "При"казни Сократа Аристип
не
присутствовал. Вернувшись в Киреиу, он основал там свою
философскую школу, Сочинения Аристипа не сохранились.
Школа
киренаиков имела
долгую
историю. К этой школе при-
надлежали дочь Аристипа
Арета,
ее сын Аристпп Младший,
а также Феодор Киренскнй, прозванный Атеистом, и Аптппатр.
Учеником "Антипатра был Эпитимид, а его учеником — Паребат.
Ученики Паребата Гегесий щ Анникернд^ творили уже в конце
4 — начале 3 в. до н. э., к ним: примыкал по времени еще более
поздний
киренаик
Бпон
Борисфснский (первая половина 3 в. до
н.
э.). Гегесий Александрийский преподавал в Александрии в 3 в.
до и. э.
Сенсуализм. Этический гедонизм киренаиков покоился на их
сенсуализме. Аристип учил, что ощущения — единственный источ-
236
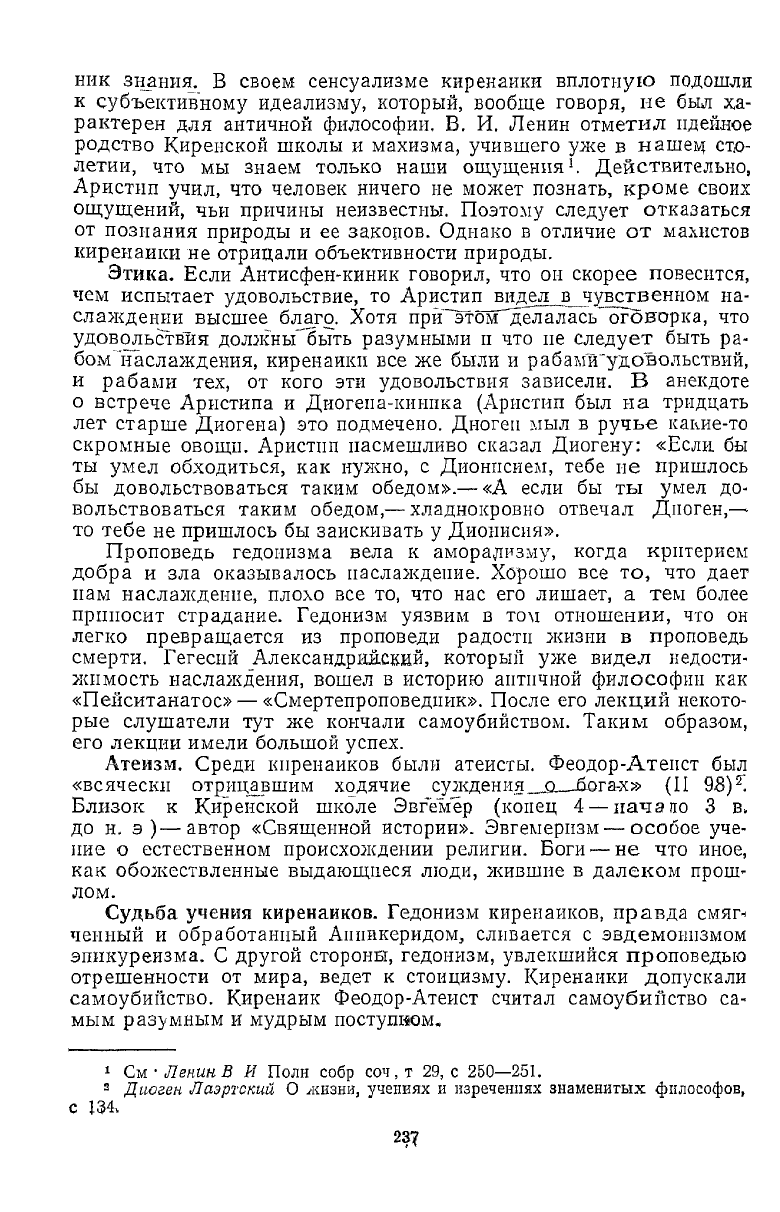
ник
знания.
В своем сенсуализме киренаики вплотную подошли
к
субъективному идеализму, который, вообще говоря, не был ха-
рактерен для античной философии, В. И. Ленин отметил идейное
родство Киренской школы и махизма, учившего уже в нашем, сто-
летии, что мы знаем только наши ощущения
1
. Действительно,
Аристип учил, что человек ничего не может познать, кроме своих
ощущений,
чьи причины неизвестны. Поэтому
следует
отказаться
от познания природы и ее законов. Однако в отличие от махистов
киреиаики
не отрицали объективности природы.
Этика.
Если Антисфен-киник говорил, что он скорее повесится,
чем испытает удовольствие, то Аристип видел__в_чувственном на-
слаждении высшее благо. Хотя прй~этом~делалась оговорка, что
удовольствия должны быть разумными и что не
следует
быть ра-
бом наслаждения, киренаики все же были и рабами'удовольствий,
и
рабами тех, от кого эти удовольствия зависели. В анекдоте
о
встрече Аристипа и Диогена-киника (Аристип был на тридцать
лет старше Диогена) это подмечено. Диоген мыл в
ручье
какие-то
скромные
овощи. Аристип насмешливо сказал Диогену: «Если бы
ты
умел
обходиться, как нужно, с Дионисием,
тебе
не пришлось
бы довольствоваться таким обедом».— «А если бы ты
умел
до-
вольствоваться таким обедом,— хладнокровно отвечал Дноген,~
то
тебе
не пришлось бы заискивать у Дионисия».
Проповедь гедонизма вела к аморализму, когда критерием
добра и зла оказывалось наслаждение. Хорошо все то, что
дает
нам
наслаждение, плохо все то, что нас его лишает, а тем более
приносит
страдание. Гедонизм уязвим в том отношении, что он
легко превращается из проповеди радости жизни в проповедь
смерти. Гегесий Александрийский, который уже видел недости-
жимость наслаждения, вошел в историю античной философии как
«Пейситанатос» — «Смертепроповедник». После его лекций некото-
рые слушатели тут же кончали самоубийством. Таким образом,
его лекции имели большой
успех.
Атеизм. Среди киренаиков были атеисты. Феодор-Атенст был
«всячески отрицавшим ходячие
суждения___а__бога-х»
(II 9S)
2
'.
Близок
к Киренской школе Эвгем"ёр (конец 4 — начало 3 в.
до н. э)—автор «Священной истории». Эвгемеризм — особое уче-
ние
о естественном происхождении религии. Боги-—не что иное,
как
обожествленные выдающиеся люди, жившие в далеком прош-
лом.
Судьба учения киренаиков. Гедонизм киренаиков, правда смяг-*
ченный
и обработанный Ашткеридом, сливается с эвдемонизмом
эпикуреизма. С
другой
стороны, гедонизм, увлекшийся проповедью
отрешенности от мира,
ведет
к стоицизму. Киренаики допускали
самоубийство. Киренаик Феодор-Атеист считал самоубийство са-
мым разумным и мудрым поступком.
1
См •
Ленин
В И Поли собр соч, т 29, с 250—251.
3
Диоген
Лаэртский
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов,
с
Ш-
237
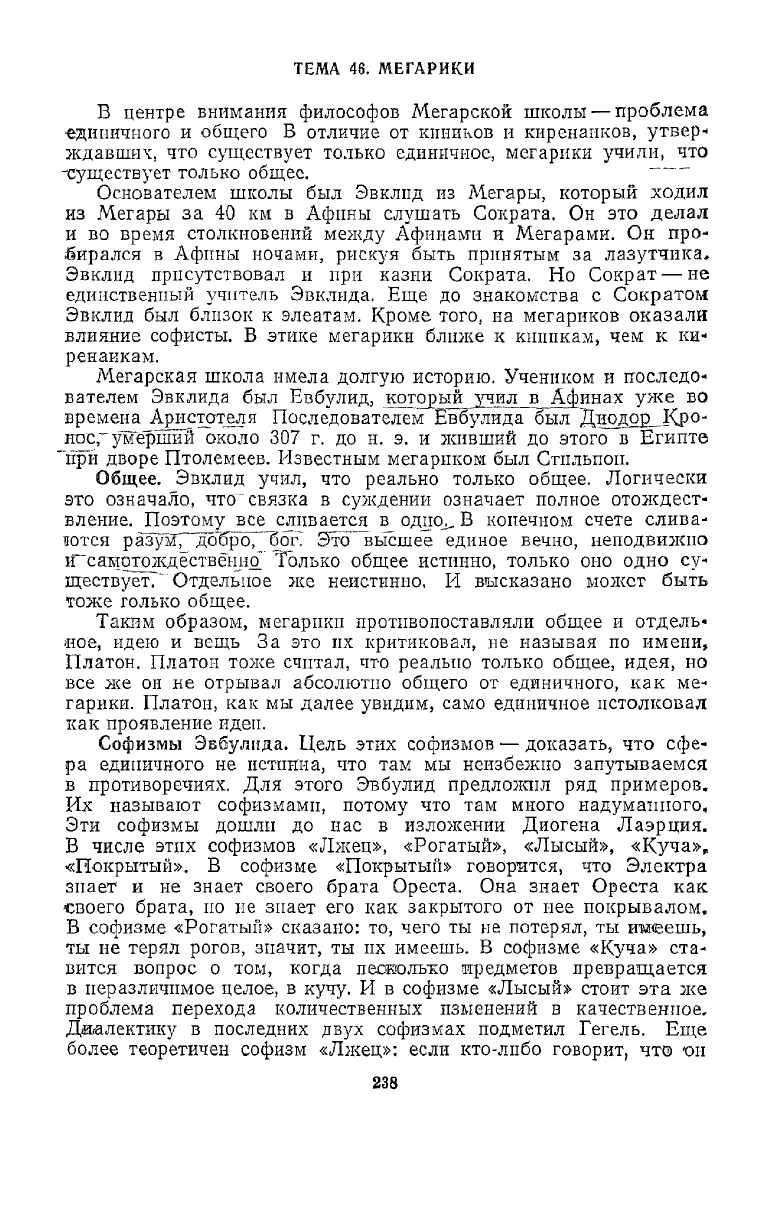
ТЕМА 46. МЕГАРИКИ
В центре внимания философов Мегарской школы — проблема
единичного
и
общего В отличие от киников и киренаиков, утвер-
ждавших, что
существует
только единичное, мегарики учили, что
^существует
только общее.
Основателем школы был Эвклид из Мегары, который
ходил
из
Мегары за 40 км в Афины слушать Сократа. Он это делал
и
во время столкновений
между
Афинами и Мегарами. Он про-
бирался в Афины ночами, рискуя быть принятым за лазутчика,
Эвклид присутствовал и при казни Сократа. Но Сократ — не
единственный учитель Эвклида. Еще до знакомства с Сократом
Эвклид был близок к элеатам. Кроме того, на мегариков оказали
влияние
софисты. В этике мегарики ближе к киникам, чем к ки-
ренаикам.
Мегарская школа имела
долгую
историю. Учеником и последо-
вателем Эвклида был Евбулид, ^£отр^ый_хчил__в_Афинах уже во
времена Аристотеля Последователем Евбулид а был Диодо_в_.Кро-
нос,-
уКГёр'цшй около 307 г. до н. э. и живший до этого в Египте
"при
дворе Птолемеев. Известным мегариком был Стильной.
Общее. Эвклид учил, что реально только общее. Логически
это означало, что" связка в суждении означает полное отождест-
вление.
Поэтому все сливается в одно^, В конечном счете слива-
ются разумГ^добро, 15ш\ Э~то~~высшее единое вечно, неподвижно
и~сатясттождествённсГ Только общее истинно, только оно одно су-
ществует/Отдельное же неистинно, И высказано может быть
тоже только общее.
Таким
образом, мегарики противопоставляли общее и отдель-
ное,
идею и вещь За это их критиковал, не называя по имени,
Платон.
Платон тоже считал, что реально только общее, идея, но
все же он не отрывал абсолютно общего от единичного, как ме-
гарики.
Платон, как мы
далее
увидим, само единичное истолковал
как
проявление идеи.
Софизмы
Эвбулида. Цель этих софизмов — доказать, что сфе-
ра единичного не истинна, что там мы неизбежно запутываемся
в
противоречиях. Для этого Эвбулид предложил ряд примеров.
Их
называют софизмами, потому что там много надуманного.
Эти софизмы дошли до нас в изложении Диогена Лаэрция.
В числе этих софизмов
«Лжец»,
«Рогатый», «Лысый»,
«Куча»,
«Покрытый». В софизме «Покрытый» говорится, что Электра
знает и не знает своего брата Ореста. Она знает Ореста как
своего брата, но не знает его как закрытого от нее покрывалом,
В софизме
«Рогатый»
сказано: то, чего ты не потерял, ты имеешь,
ты не терял рогов, значит, ты их имеешь. В софизме
«Куча»
ста-
вится вопрос о том, когда пешолъто предметов превращается
в
неразличимое целое, в
кучу.
И в софизме
«Лысый»
стоит эта же
проблема перехода количественных изменений в качественное.
Диалектику в последних
двух
софизмах подметил Гегель. Еще
более теоретичен софизм
«Лжец»:
если кто-либо говорит, что он
238
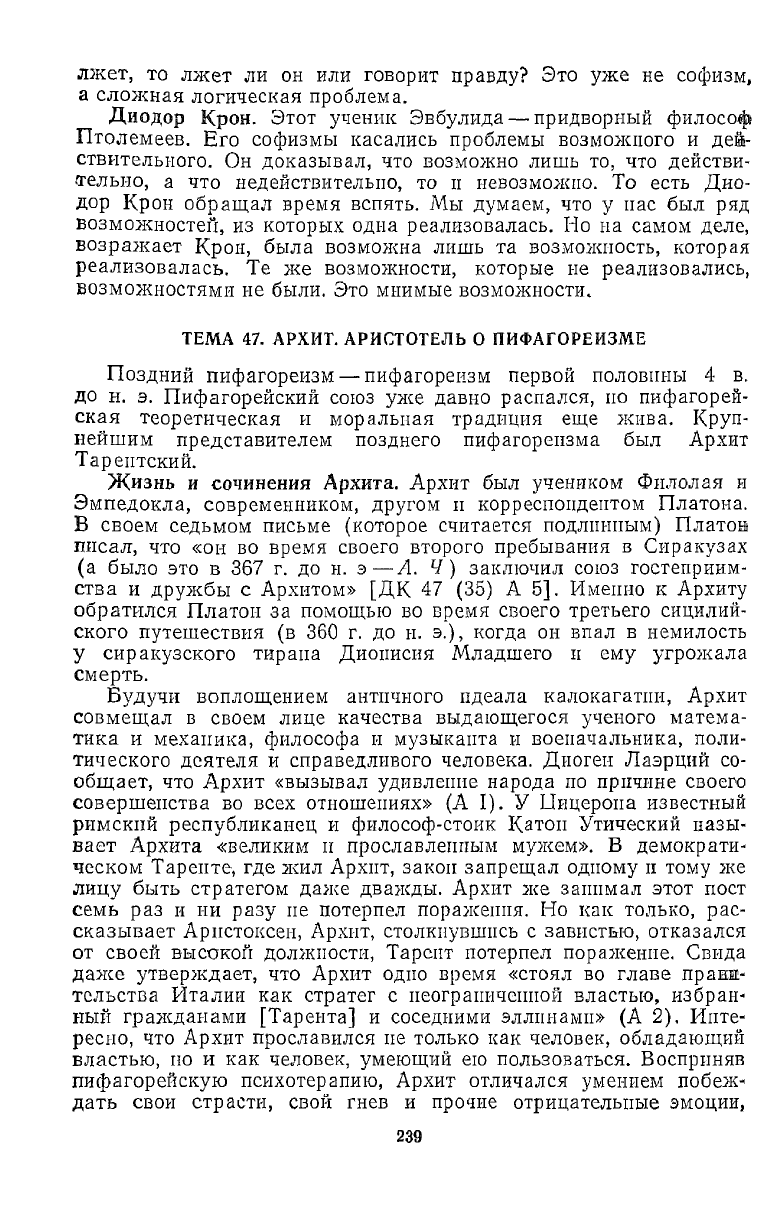
лжет, то лжет ли он или говорит
правду?
Это уже не софизм,
а сложная логическая проблема.
Диодор
Крон.
Этот ученик Эвбулида — придворный философ
Птолемеев. Его софизмы касались проблемы возможного и дей-
ствительного. Он доказывал, что возможно лишь то, что действи-
тельно, а что недействительно, то и невозможно. То есть Дио-
дор Крон обращал время вспять. Мы думаем, что у нас был ряд
возможностей, из которых одна реализовалась. Но на самом деле,
возражает
Крон,
была возможна лишь та возможность, которая
реализовалась. Те же возможности, которые не реализовались,
возможностями не были. Это мнимые возможности..
ТЕМА 47. АРХИТ. АРИСТОТЕЛЬ О ПИФАГОРЕИЗМЕ
Поздний
пифагореизм — пифагореизм первой половины 4 в.
до н. э. Пифагорейский союз уже давно распался, по пифагорей-
ская
теоретическая и моральная традиция еще жива. Круп-
нейшим
представителем позднего пифагореизма был
Архит
Тарентский.
Жизнь
и сочинения
Архита.
Архит
был учеником Филолая и
Эмпедокла, современником,
другом
н корреспондентом Платона.
В своем седьмом письме (которое считается подлинным) Платон
писал,
что «он во время своего второго пребывания в Сиракузах
(а
было это в 367 г. до н. э—А. Ч) заключил союз гостеприим-
ства и
дружбы
с
Архитом»
[ДК 47 (35) А 5]. Именно к
Архиту
обратился Платон за помощью во время своего третьего сицилий-
ского путешествия (в 360 г. до н. э.), когда он впал в немилость
у сиракузского тирана Дионисия Младшего и ему угрожала
смерть.
Будучи воплощением античного идеала калокагатии,
Архит
совмещал в своем лице качества выдающегося ученого матема-
тика
и механика, философа и музыканта и военачальника, поли-
тического деятеля и справедливого человека. Диоген Лаэрций со-
общает, что
Архит
«вызывал удивление народа по причине своего
совершенства во
всех
отношениях» (А I). У Цицерона известный
римский
республиканец и философ-стоик Катои Утический назы-
вает
Архита
«великим и прославленным
мужем».
В демократи-
ческом Таренте, где жил
Архит,
закон запрещал одному и тому же
лицу быть стратегом
даже
дважды.
Архит
же занимал этот пост
семь раз и ни разу не потерпел поражения. Но как только, рас-
сказывает Аристоксен,
Архнт,
столкнувшись с завистью, отказался
от своей высокой должности, Тарспт потерпел поражение. Свида
даже
утверждает,
что
Архит
одно время «стоял во главе прави-
тельства Италии как стратег с неограниченной властью, избран-
ный
гражданами [Тарента] и соседними эллинами» (А 2).
Инте-
ресно,
что
Архит
прославился не только как человек, обладающий
властью, по и как человек, умеющий ею пользоваться. Восприняв
пифагорейскую психотерапию,
Архит
отличался умением побеж-
дать свои страсти, свой гнев и прочие отрицательные эмоции,
239
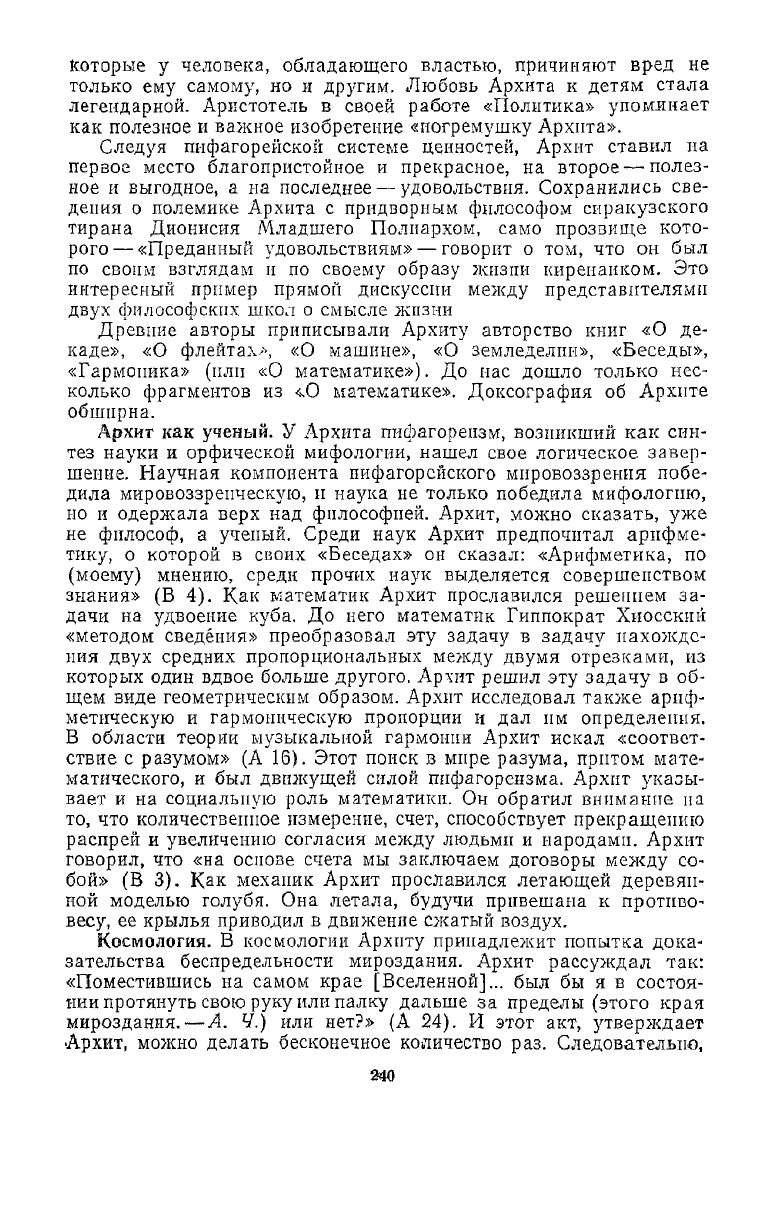
Которые у человека, обладающего властью, причиняют вред не
только ему самому, но и другим. Любовь
Архита
к детям стала
легендарной. Аристотель в своей работе «Политика» упоминает
как
полезное и важное изобретение «погремушку
Архпта».
Следуя пифагорейской системе ценностей,
Архит
ставил на
первое место благопристойное и прекрасное, на второе — полез-
ное
и выгодное, а на последнее — удовольствия. Сохранились све-
дения
о полемике
Архита
с придворным философом сиракузского
тирана Дионисия Младшего Полиархом, само прозвище кото-
рого— «Преданный удовольствиям» — говорит о том, что он был
по
своим взглядам и по своему образу жизни кирепаиком. Это
интересный
пример прямой дискуссии между представителями
двух
философских школ о смысле жизни
Древние авторы приписывали
Архиту
авторство книг «О де-
каде», «О флейтах», «О машине», «О земледелии», «Беседы»,
«Гармоника» (или «О математике»). До нас дошло только нес-
колько
фрагментов из «.О математике». Доксография об
Архнте
обширна.
Архит
как ученый. У
Архита
пифагореизм, возникший как син-
тез науки и орфической мифологии, нашел свое логическое завер-
шение.
Научная компонента пифагорейского мировоззрения побе-
дила мировоззренческую, и наука не только победила мифологию,
но
и одержала верх над философией.
Архит,
можно сказать, уже
не
философ, а ученый. Среди наук
Архит
предпочитал арифме-
тику, о которой в своих
«Беседах»
он сказал: «Арифметика, по
(моему) мнению, среди прочих наук выделяется совершенством
знания» (В 4). Как математик
Архит
прославился решением за-
дачи на удвоение куба. До него математик Гиппократ Хиосский
«методом сведения» преобразовал эту задачу в задачу нахожде-
ния
двух
средних пропорциональных между двумя отрезками, из
которых один вдвое больше другого.
Архит
решил эту задачу в об-
щем виде геометрическим образом.
Архит
исследовал также
ариф-
метическую и гармоническую пропорции и дал им определения.
В области теории музыкальной гармонии
Архит
искал «соответ-
ствие с разумом» (А 16). Этот поиск в мире разума, притом мате-
матического, и был движущей силой пифагореизма.
Архит
указы-
вает и на социальную роль математики. Он обратил внимание на
то,
что количественное измерение, счет, способствует прекращению
распрей и увеличению согласия между людьми и народами.
Архит
говорил, что «на основе счета мы заключаем договоры между со-
бой» (В 3). Как механик
Архит
прославился летающей деревян-
ной
моделью голубя. Она летала,
будучи
прпвешана к противо-
весу, ее крылья приводил в движение сжатый
воздух.
Космология.
В космологии
Архиту
принадлежит попытка дока-
зательства беспредельности мироздания.
Архит
рассуждал так:
«Поместившись на самом крае [Вселенной]... был бы я в состоя-
нии
протянуть свою руку или палку дальше за пределы (этого края
мироздания.
— А. Ч.) или
нет?»
(А 24). И этот акт, утверждает
Архит,
можно делать бесконечное количество раз. Следовательно,
240
