Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


университете), М. Н. Катков (в самом деле попавший потом на кафедру философии
Московского университета), М. А. Бакунин, Н. П. Огарев. Начиная с тридцатых годов,
мощным потоком в Россию пошли сочинения Гегеля и гегельянцев.
Рассадником гегелевской философии, как и несколько ранее — шеллингианства, стал
Московский университет. Молодые профессора, возглавлявшие важные гуманитарные
кафедры: Т. Н. Грановский (всеобщая история), П. Г. Редкий (энциклопедия права), Д. Л.
Крюков (римская словесность) — постоянно опирались в своих лекциях на гегелевский
метод, хорошо ими освоенный в Вер-
186
лине. Все кружки молодежи упоенно штудировали нового кумира. Даже
шеллингианец Ап. Григорьев внимательно читал Гегеля (потом ох и будет он его
бранить!). Даже квартировавший у Григорьевых А. А. Фет, совершенно равнодушный
к умозрительной философии, вовлекался в споры товарищей. Фет рассказывает в
воспоминаниях, как слуга Григорьевых Иван, постоянно слушавший разговоры
студентов о философии, однажды при разъезде из театра, будучи изрядно «выпимши»,
вместо «Коляску Григорьева!» крикнул «Коляску Гегеля!», за что получил прозвище
«Иван Гегель».
Будущий знаменитый историк С. М. Соловьев, студент Московского университета в
1838—1842-х гг. (сокурсник Ап. Григорьева), тоже рассказывает в воспоминаниях о
повальном увлечении германским философом: «... у нас господствовало философское
направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля,
а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не
иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно;
схвачу несколько фактов и уже строю из них целое здание. Из Гегелевых сочинений я
прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление»
(Соловьев, 1983, 268).
Самая творческая группа молодежи, захваченная новым учением, — кружок Н. В.
Станкевича и близкие к нему: М. А. Бакунин, В. П. Боткин, В. Г. Белинский. Круг
Герцена—Огарева, воспитанный на французских социалистах, и вообще занятый
общественно-политическими проблемами и чуть ли не презиравший германскую
«отвлеченную» философию, именно на Гегеле сошелся во второй половине тридцатых
годов с кругом Станкевича. Как объяснял Герцен, соединительным звеном стал
близкий обоим кружкам Грановский.
Кажется, первым обратил внимание на труды Гегеля Станкевич, он вдохновил
Бакунина, Бакунин — Боткина, а Боткин и Бакунин вместе обучили не знавшего
немец-
187
кий язык Белинского. Друзья имели возможность получить в свои руки журнал
«Московский наблюдатель» (1838—1839) и сделали его органом русских гегельянцев.
Бакунин опубликовал «Гимназические речи» Гегеля с «Предисловием переводчика»,
программной статьей от имени редакции, где особенно резко подчеркивал важность
гегелевской формулы «Что действительно, то разумно, что разумно, то
действительно». Бакунин ее тогда истолковывал в крайне фаталистическом духе;
получалось, что самые деспотические общества, будучи «действительными»,
оказывались «разумными», и Белинский на этом основании тоже в своих статьях
доказывал такой социально-политический фатализм и требовал примирения с дей-
ствительностью, какой бы неприятной она ни была.
Гегельянские статьи были «заумными», сложными для восприятия широкой публикой,
журнал Белинского— Бакунина с каждым номером терял подписчиков и в 1839 г.
закрылся. Язык переводов и интерпретаций был тяжелый, трудный, большинство
терминов не переводилось на адекватные русские слова, а так и употреблялись в своей

латинской или немецкой основе, лишь суффиксы и окончания были русскими. Герцен
так пародировал этот, как он называл, ссылаясь на академика Д. М. Перевощикова,
«птичий язык»: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет
ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из
естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте»
(Герцен, IX, 19).
Герцен, совсем недавно познакомившийся с кругом Бакунина—Белинского и
сблизившийся с ним, был потрясен «фатальной» переменой и без обиняков обратился
к Белинскому: «Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить
его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное
самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать? — Без
всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину»
Пуш-
188
кина. Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами...» (там же, 22).
Произошел разрыв; отношения были восстановлены лишь в 1840 г., когда Белинский
переменил свои воззрения: он, как и Бакунин, не мог долго находиться в одностороннем
ослеплении и, опираясь на самого же Гегеля, стал рассуждать, что не всякая
«действительность» действительно реальна, есть «призрачная» действительность, которая
не может быть разумной и т. д.
Еще один шаг — и Белинский яростно оттолкнется от Гегеля, перейдя на
социалистические позиции. Из его письма к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г.: «Благодарю
покорно, Егор Федорыч (шутливая переделка имени Гегеля: Георг-Фридрих. — Б. Е.) —
кланяюсь вашему философскому колпаку (...) если бы мне и удалось влезть на верхнюю
ступень лествицы развития — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах
условий жизни и истории» (Белинский, XII, 22—23). Еще более резко в письме к Боткину
от 28 июня 1841 г.: «Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к
свободе и независимости человеческой личности (...). Я понял и французскую революцию
(...). Гегель мечтал о конституционной монархии как идеале государства, — какое
узенькое понятие! Нет, не должно быть монархов (...). Люди должны быть братья» (там
же, 51—52).
Но Белинский прочно усвоил важнейшие черты гегелевской методологии: историзм,
процессуальность, диалектика, целостность художественного произведения, эти
достоинства он не отбросил и в последующие годы, на них он строил все свои статьи,
вошедшие в золотой фонд русской литературной критики.
Герцен знакомился с трудами Гегеля еще до всех споров, в середине тридцатых годов, но
разрыв с Белинским подтолкнул его к серьезному изучению германского философа. К
штудированию самого классика добавились труды радикальных немецких
«левогегельянцев» (А. Цеш-ковский, поляк по происхождению, М. Гесс, А. Руге), ис-
189
пользовавших метод учителя для своей «философии действия», и, особенно, знаменитая
книга Л. Фейербаха «Сущность христианства», которая потрясла Герцена: «Прочитав
первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье
и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа (баснописец Эзоп, по преданию, —
раб Ксанфа. — Б. £.), не нужно нам облекать истину в мифы!» (Герцен, IX, 27). Иными
словами, то, что в трудах Гегеля и в истолкованиях его русских последователей было
затуманено, мифологизировано, у Фейербаха разъяснено и доведено до логического
конца: человек, а не абсолютный дух, поставлен в центре, идея прогресса должна
привести к представлению о замене «призрачной» действительности справедливым и
демократическим общественным строем и т. д.
В этом свете и сама гегелевская философия стала иначе истолковываться Герценом:
«Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель

гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей (...).
Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не
оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий» (там же, 23). Под
последователями подразумеваются консервативные «правогегельянцы». Ре-
волюционность ведет Герцена к «разрушительным» лозунгам («не оставляет камня на
камне»). Еще более «разрушителен» Герцен в дневниковой записи от 5 апреля 1843 г.:
«Длинный разговор о философии с Ив. Киреевским. Глубокая, сильная, энергическая до
фанатизма личность. Наука, по его мнению, — чистый формализм, самое мышление —
способность формальная, оттого огромная сторона истины, ее субстанциальность является
в науке только формально и, след., абстрактно, не истинно или бедно истинно (...).
Конечно, та же наука имеет результатом нега-цию и переходит себя (...) переходит
необходимо в новый положительный мир, уничтожив все незыблемо твердое старого. А
Киреевский хочет спасения старого во имя не-
190
состоятельности науки» (Герцен, II, 274). Здесь уже всеобъемлюще: «уничтожив все
незыблемо твердое старого»! (Всегда в таких случаях возникают тревожные вопросы: а
кто будет в последней инстанции определять — что есть старое и что есть новое?).
Но еще дальше Герцена в революционной беспредельности пошел Бакунин. Получив,
наконец, в 1840 г. разрешение выехать за границу, он не очень-то занимался в германских
университетах, а примкнул к «левогегельян-цам», опубликовал в сборнике А. Руге
«Немецкие ежегодники науки и искусства» (1842) архиреволюционную статью (под
псевдонимом Жюль Элизар) «Реакция в Германии», в которой проповедовал лозунги
Великой Французской революции и необходимость полного уничтожения современных
социально-политических режимов. Статья заканчивалась известным бакунинским
анархическим афоризмом: «Страсть к разрушению есть вместе и творческая страсть».
Белинский, придя к социалистическим убеждениям в их крайней форме —
революционной, оттолкнул от себя Гегеля, а Бакунин и Герцен, наоборот, из самого
гегелевского учения извлекли радикальные выводы. В дальнейшем лишь Бакунин
сохранит, да еще и усилит революционную основу мировоззрения, Белинский и Герцен
потом станут куда более осторожными, особенно Белинский: он уже пять лет спустя после
своих кроваво-революционных деклараций, в 1846—1847-х гг. будет издеваться над уто-
пическим социализмом и весьма скептически оценивать революционные возможности
народа; он готов будет уповать на освобождение крестьян «сверху».
Как быстро менялись взгляды! Ведь еще за пять лет до революционных деклараций
начала сороковых годов, т. е. в середине тридцатых, члены кружка Станкевича были глу-
боко религиозными людьми. Сам Станкевич в 1835 г. подчеркивал значимость для него
христианской веры, а в философии он искал опоры, разумного обоснования этой веры,
потому и заинтересовался Гегелем; Станкевич был обеску-
191
ражен когда вычитал, что «Гегель отвергает бессмертие». Также и Бакунин, страстно
увлекшись изучением Гегеля в 1837—1838-х гг., утверждал превосходство религии
над философией, проникновение религии в философию, ему были тогда близки совсем
не левые, а, наоборот, правые гегельянцы, консервативные и религиозные.
Герцен же даже в 1838 г. желал единения веры и философии. Из его письма к А. Л.
Витбергу от 24 ноября 1838 г.: «Нынешняя немецкая философия (Гегель) очень
утешительна, это слитие мысли и откровения, воззрения идеализма и воззрения
теологического» (Герцен, XXI, 394). Еще более интересно письмо Герцена к Н. И.
Астракову от 14 февраля 1839 г.: «...читал много. Между прочим, очерки из Гегеля.
Много великого, однако не всю душу захватывает. В Шеллинге больше поэзии.
Впрочем, Шеллинга я читал самого, а Гегеля в отрывках (...). Главное, что меня
восхитило, это его пантеизм... Это его триипо-стасный Бог (...). Гегель дал какую-то
фактическую, несомненную непреложность миру идеальному (...), но он мне не

нравится в приложениях» (XXII, 12). Не успели овладеть методом, как уже появились
нотки неприятия!
А Белинский в 1840 г., всего за несколько месяцев до своего радикального переворота,
начал отходить от гегелевского Абсолюта, от фатальности совсем не в сторону
революционных идей, а к Евангелию, к мысли о «бессмертии индивидуального духа»
(письмо к Боткину от 1 марта 1840 г).
Значительно более постоянными в отношении к Гегелю были старшие славянофилы.
Для них не было проблем относительно взаимоотношения веры и философии — ко-
нечно, вера выше науки, она над наукой и отделена от нее. Но все-таки между
Хомяковым и Киреевским была существенная разница в отношении к Гегелю.
Киреевский, конечно, Шеллинга ставил выше Гегеля, но, то ли благодаря своей
«западнической» молодости, то ли по свойственной ему осторожности и боязни
крайностей, он отдавал должное и Гегелю. Станкевич в письме к Н. Г. и
192
Е. П. Фроловым от 21 мая 1840 г. интересно характеризует отношение старших
славянофилов к Гегелю: «Киреевский «читает «Логику» и «Философию религии» и
говорит Грановскому, что эти занятия, от которых он давно был отвлечен, доставляют
ему много удовольствия. Хомяков твердит про Preuszenthum etc. <пруссачество и т. д.
>; Киреевский сказал ему, что «это только в примечаниях». Это его много
рекомендует. Кроме того, он сознается, что Гегель — величайший философ».
«Пруссачество» — это известная идея Гегеля о Пруссии как высшей форме госу-
дарственного устройства.
Хомяков неуклонно оспаривал Гегеля, и не только из-за «пруссачества», а и по поводу
самых коренных философских основ. Хомяков совершенно не принимал гегелевской
логики, рационалистической и абстрактной. Герцен в дневнике (1842) резюмировал
мнение Хомякова: «Живой факт может только в абстракции быть знаем мыслью,
построен ею, но как конкрет он выпадает из нее. Итак, логическим путем одним нельзя
знать истину. Она воплощается в самой жизни — отсюда религиозный путь» (Герцен,
II, 252). С другой стороны, религиозного мыслителя, для которого основа бытия
заключена в Боге, не могут удовлетворить достаточно туманные объяснения Гегеля
относительно абсолютного духа. И Хомякову понятно, что из такой шаткой
безосновности вполне логично можно вывести и атеизм, и материализм, и
революционность: левогегельянцы, дескать, вполне законные последователи учителя.
Рядом с Хомяковым стоит такой убежденный антигегельянец, как Ап. Григорьев. Он,
как и Бакунин с Белинским, подчеркивал «фатализм» гегелевских построений, но если
Белинский в «примирительный период» воспринимал это со знаком плюс, то
Григорьев — резко отрицательно, ратуя за свободу выбора. Потом «мифологичный»
Григорьев не принимал гегелевскую идею бесконечного прогресса и бесконечного
процесса — в этом он, несколько на иных принципах, чем Хомяков, усмат-
193
ривал безосновность германского философа, отсутствие у него прочного фундамента,
вечных начал. С другой стороны, любя противопоставление живой жизни и
искусственных конструкций, Григорьев приписывал последние именно Гегелю,
Критик очень любил в своих статьях ссылаться на гегелевский лозунг в «Философии
права»: «Hie Rhodes, hicsalta!» («Здесь Родос, здесь и прыгай!»). Этот лозунг, почему-
то в латинском, а не в греческом звучании, взят Гегелем из басни Эзопа «Хвастун».
Участник спортивных соревнований на острове Родос, Хвастун уверял, что он там
совершил какой-то неимоверной длины прыжок. А один из слушателей тогда и
предложил ему: пусть тебе здесь будет Родос, прыгни и докажи свое превосходство.
Любопытно, что Гегель приводит эту цитату, говоря о необходимости не

фантазировать о желаемом или должном, а изучать то, что дает действительность.
Григорьев же гнет совсем в другую область: он истолковывает гегелевский текст как
призыв искусственно, насильственно задержать движущийся поток жизни.
Младшие славянофилы (К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин), обучавшиеся в Московском
университете тридцатых годов, частично заразились гегельянством, в отличие от
старших. Тем более что молодые годы, еще до славянофильства, Аксаков провел в
кружке Станкевича. Некоторое воздействие гегелевского метода можно обнаружить в
магистерской диссертации Самарина «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как
проповедники» (1844), но особенно заметен «гегелизм» в магистерской диссертации
Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846),
построенной на гегелевском диалектическом методе, на законе отрицания отрицания.
Этот закон объявляется в диссертации как общеприродное явление, поэтому на нем и
основана работа. Абстрактное общее, абстрактное человечество в реальности не
существует, национальности как «особное», специфическое начало, появляются как
отрицание общего. А отрицание особного — это единичное явление, синтезирующее
194
два первых; в единичном воскресает общее, но в конкретном воплощении. В
политическом мире России наиболее яркая индивидуальность — Петр I, он разрушал
национальные основы, он доводил до крайностей отрицание, но вбирал в себя и общее
начало. А в области литературы у нас первая индивидуальность — Ломоносов и т. д.
Позднее и Аксаков, и Самарин далеко отошли от ге-гелизма, но их попытки связать и
примирить религиозную веру, которая, конечно, была основой основ их мировоззрения
уже с юных лет, с грандиозно логическим зданием гегелевской системы, — весьма
знаменательны для сороковых годов.
Интересно, что и С. М. Соловьев, совсем не славянофил и не западник, но глубоко
верующий человек, пытался использовать философию Гегеля для утверждения религии;
правда, признавался он в воспоминаниях, отвлеченности были чужды занимающемуся
конкретными фактами истории; впрочем, глубинно элементы гегелевского метода потом
отразились в исторических трудах Соловьева.
Власти николаевской эпохи подозрительно относились к увлечениям германской
философией; любая «не своя» идеология воспринималась как опасная: то ли про-
тестантская, то ли атеистическая, то ли еще какая-то совратительная со светлой дороги,
осеняемой «православием, самодержавием и народностью». Сыпались еще и доносы,
тайные и явные. Даже религиозному Шеллингу доставалось, а уж сомнительному Гегелю
тем более.
Консервативные мыслители в России, как и на Западе, воспринимали Гегеля как атеиста
или, по крайней мере, как возвышающего свою философию над религией — и писали и
говорили об этом открыто, подталкивая власти к репрессивным мерам. Антигегелевские
«доносы» печатались в журнале «Маяк». А С. П. Шевырев опубликовал в «Журнале
министерства народного просвещения» извлечения из своих заграничных писем к
министру графу С. С. Уварову. В одном из них он с видимым удовольстви-
195
ем излагает суждение Шеллинга о Гегеле: «Бог у Гегеля так скован узами логической
необходимости, что теряет даже свое всемогущество: он не может сделать ничего
необыкновенного, ничего сверхъестественного. Вот почему к гегеле-ву Богу нельзя
принести молитвы: это лишнее, потому что Бог его, скованный логической
необходимостью, был бы не в силах ее исполнить» (ЖМНП, 1840, № 1. Отд. IV, с. 4).
Н. В. Станкевич, очевидно, с чужих слов (Грановского?), т. к. жил в это время в Риме,
поэтому утрированно, охарактеризовал этот факт в уже упоминавшемся письме к
Фроловым от 21 мая 1840 г.: «Шевырев поместил в журнале министерства статью, в
которой говорит, что в гегелевской философии нет Бога; какая отвратительная тварь! я
жалею, что здесь нет его, чтоб высказать ему всю истину! Сам говорил мне, что не знает

Гегеля, и смеет говорить так».
А в Москве в 1843 г. запретили одну из статей Герцена, посвященных публичным лекциям
Грановского. Автор по этому поводу был несколько раз у графа С. Г. Строганова. Герцен
явно подозревал, что противники Грановского, особенно — Шевырев (которого он
неосновательно называет славянофилом), «наговаривают» графу на опасное «за-
падничество» Грановского, на его гегельянство и т. п. Интересная дневниковая запись
Герцена от 7 января 1844 г.: «Был на днях у гр. Строганова; интриганты из профессоров
сбивают его, видимо; он любит и желает просвещения, он любит Европу и все
благородное, но боится резко и решительно объявить себя против диких славянофилов, а
они, пользуясь его шаткостью, пугают, лгут, чернят и получают место в его убеждениях.
«Я, говорил он, всеми мерами буду противудействовать гегелизму и немецкой фи-
лософии. Она противуречит нашему богословию; на что нам раздвоенность, два разные
догмата — догмат откровения и догмат науки? Я даже не приму того направления,
которое афиширует примирение науки с религией: религия в основе». (...) В заключение
граф сказал, что если он не успеет другим образом, то готов или оставить свое
196
управление, или закрыть несколько кафедр: «Вы, вероятно, с другими назовете тогда
меня варваром, вандалом». Я опустил глаза и промолчал» (Герцен, II, 324—325).
Кафедры философии правительство закрыло (после 1848 г.) без участия графа: его за
небурбонский и нелакейский облик удалили еще в 1847 г. — Строганов никак не мог
ужиться с министром Уваровым (впрочем, и того удалили с поста в 1849 г.).
Всеобщий успех гегелевской философии вызывал явную тревогу и в церковных
кругах: философская система оказывалась более популярной и весомой, чем
божественная картина мира. В дневнике Герцена есть запись от 18 января 1844 г. — о
намерениях московского митрополита активизировать противостояние ложному
умствованию, которое должно было исходить от профессуры Московской Духовной
академии: «Филарет поручил Голубин-скому опровергнуть Гегеля, Голубинский
отвечал, что ему не совладать с берлинским великаном и что он не может его
безусловно отвергнуть. Филарет требовал, чтоб он по крайней мере против тех сторон
восстал, с которыми не согласен. Но Голубинский опять отозвался тем, что он так
последователен, что можно или все отвергать, или все принимать» (там же, 327).
Может показаться, что видный профессор Голубинский считал себя недостаточно
подготовленным для философской полемики; на самом деле он был весьма знающим
специалистом, но ему явно не хотелось выступать в качестве примитивного
разоблачителя, тем более что он, возможно, одобрял какие-то гегелевские принципы.
Между тем слухи о желании митрополита Филарета, наверное, разошлись по академии
(если они уж и светских кругов достигли: иначе откуда бы узнал Герцен?!), а, может
быть, проф. Голубинский сам разговаривал со студентами на эти темы; как бы там ни
было, Н. П. Гиляров-Платонов, тогдашний студент академии, написал в 1846 г.
обширнейшую полукурсовую работу (мы бы сказали «годовую»: курс
197
продолжался два года) о германской философии, позднее опубликованную в
переработанном для журнальных статей виде. Первая часть напечатана в «Русской
беседе» самим автором под названием «Рационалистическое движение философии новых
времен. Очерк» (1859, кн. 3), вторую подготовили к печати уже наследники: «Онтология
Гегеля» («Вопросы философии и психологии», 1891, кн. 8, 10, 11).
Гиляров как бы «выручил» «академических» православных философов, рассмотрев, как
он говорит, с точки зрения «здравого смысла» развитие немецкой философии от Канта до
Гегеля и убедительно показав, что у Гегеля истины христианства «растворены» в
методологии науки так, что оказываются ненужными, лишними для построений
грандиозной пирамиды, на вершине которой располагается «абсолютный дух». Конечно,

можно бы сам абсолютный дух определить как божественное начало, однако Гиляров,
используя шеллингову критику Гегеля и идя параллельно со славянофилами, подробно
разъясняет, что логическая, стройная замкнутость гегелевской системы делает ее
безосновной (нет реальности ни в объекте, ни в субъекте; знание само по себе становится
центром, вытесняя бытие; весь мир превращается лишь в процесс самосознания и т. д.);
вместо основы, вместо «начал» (принципов) имеют место лишь процессы, а так как в этой
процес-суальности лишь живут и умирают понятия, то вся жизнь превращается в
бесконечную цепь рождений и умираний, без всякого прочного фундамента (эту мысль,
как говорилось, будет подробно развивать Ал. Григорьев). Гегель надеялся создать
непротиворечивую грандиозную систему, объясняющую весь мир, Гиляров согласен с ее
грандиозностью, но демонстрирует ее выхолощенную схематичность, замкнутость на
самую себя, отрешенность от реального мира.
Гиляров, разумеется, сам схематизирует гегелевскую систему, доводит ее до абстрактных
крайностей (впрочем, германский философ давал повод для таких манипуляций
198
с его методологическими построениями), а конкретные социально-политические выводы,
которые критик делает из всего этого, тем более «унижают» ценность системы. Из из-
вестной формулы «что действительно, то разумно» Гиляров легко выводит исторический
и этический фатализм, а раз утверждается фатализм, значит, уничтожается выбор, свобода
выбора, из чего следует безнравственность системы... Нетрудно было Гилярову показать
также, что именно из гегелевской системы выводится левый радикализм (принцип
отрицания) и атеизм вкупе с материализмом.
После Гилярова уже легче было полемизировать с Гегелем; последующие после его
публикации 1859 г. статьи в церковной периодике повторяли идеи критика; например, в
«Православном собеседнике» за 1861 г. (т. 1, март) появилась анонимная статья «Взгляд
на философию Гегеля», принадлежавшая профессору философии Казанской Духовной
академии Н. П. Соколову; в ней нет добрых слов по отношению к германскому философу:
«... система Гегеля отвергает бытие Божие» и т. п.
Однако воздействие Гегеля было столь всеобъемлюще, что не только некоторые
славянофилы, но и непосредственно церковные мыслители оказывались гегельянцами.
Особенно показательна в этом отношении личность С. С. Гогоцкого. Профессор Киевской
Духовной академии с 1841 г., он настолько прославился своими философскими лекциями
и печатными работами, что вскоре был приглашен на кафедру философии Киевского
университета. А после закрытия кафедр философии он преподавал педагогику, но
умудрялся включать в курс педагогики обширные разделы по истории философии.
Наиболее интенсивная научная и преподавательская деятельность Гогоцкого протекала
после смерти Николая I, в новых либеральных условиях александровского царствования:
он выпустил, впервые в России, четырехтомный «Философский лексикон» (1857—1873),
написал основополагающий свой труд «Введение в историю философии» (1871) и т. д.
199
Гогоцкий усвоил гегелевский историзм, принимал гегелевскую гармоничность и
разумность мира, несколько переиначивал, переакцентировывал «абсолютный дух»,
усматривая в нем живое, божественное начало. Далеко не все он принимал в Гегеле,
его критика похожа на славянофильскую. Вообще же он неуклонно хотел примирить
Гегеля с религией.
Были и другие, хотя и единичные, православные мыслители, которые — явно идя
против господствующих в церковных верхах представлений — пытались примирить
веру и философию. Молодой преподаватель Петербургской Духовной академии Ф. Ф.
Сидонский опубликовал в 1833 г. «Введение в науку философии». Автор робок,
сопровождает свои тезисы массой спасительных оговорок, он критикует германских
философов, но все же без всяких околичностей провозглашает необходимость фило-
софии для религии: «...там, где ищут отчетливого убеждения в вере, только наука (...)
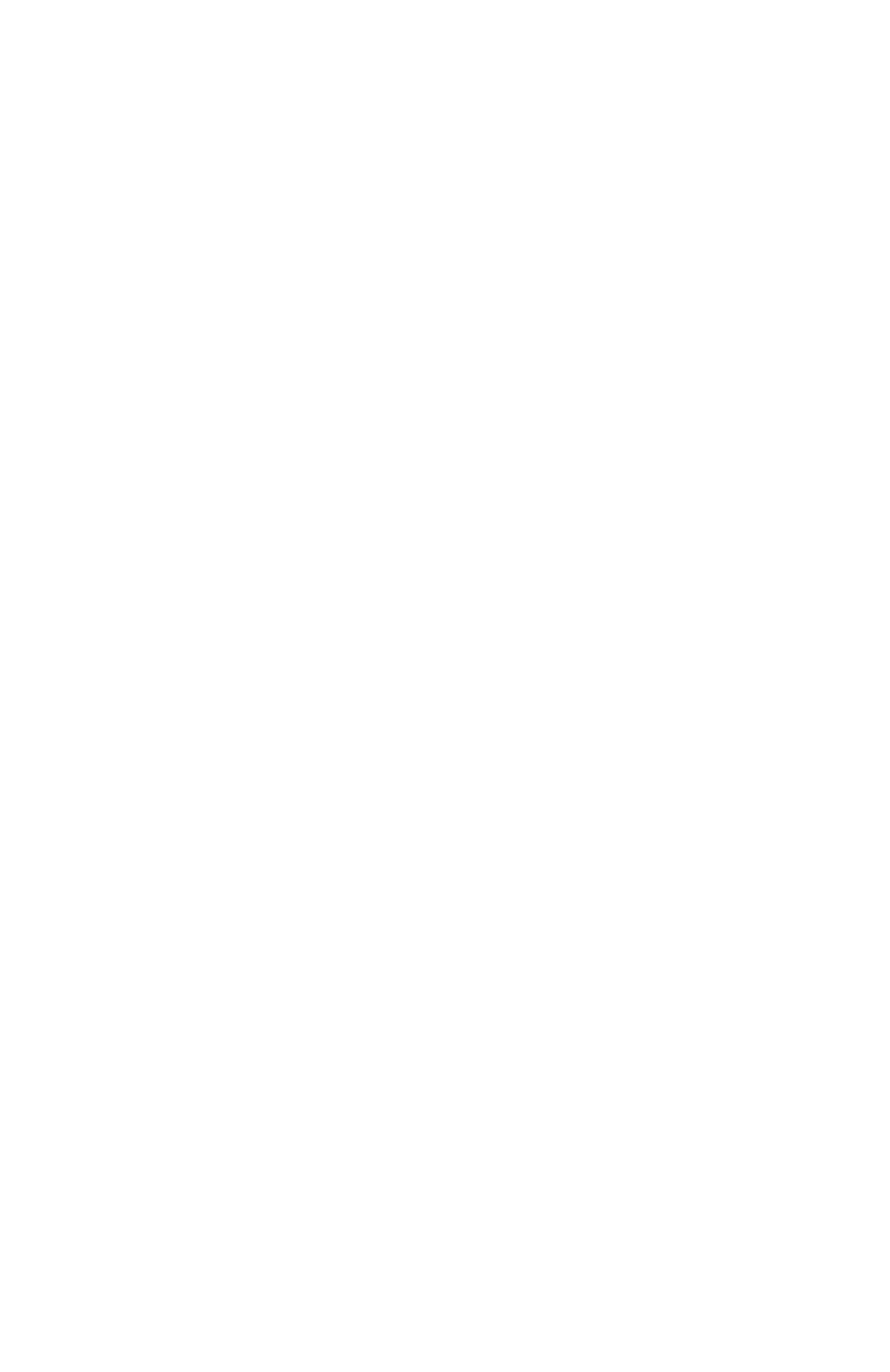
может подавать надежную помощь. Только через посредство философии убеждения
веры могут прививаться к душе во всей чистоте; только собственная работа
мышлением — отличительный характер философии, как увидим ниже, обращает нам в
сок и кровь истины религиозные».
Сидонский резонно опасался духовной цензуры, да и в самом деле его книгу зарезали
бы, поэтому представил рукопись в светскую цензуру. Либеральный А. В. Ники-тенко
одобрил ее к печати, так что книга появилась как бы через голову церковных властей.
Но они отомстили автору: вскоре Сидонского уволили из академии!
В целом же православная философия XIX века была антигегелевской и
антирационалистичной. Может быть, в этом антирационализме есть какие-то
глубинные свойства русского национального характера. Еще в XVTII века Г. Ско-
ворода призывал:
Брось, пожалуй, думать мне, Сколько жителей в луне!
200
Брось коперникански сферы! Глянь в сердечные пещеры!
В душе твоей глагол,
Вот будешь с ним весел!
И этот пафос души и сердца проходит сквозь весь православный XIX век. На этом
пафосе построена вся философия и эстетика Хомякова, вся христология архимандрита
Феодора (Бухарева); Ап. Григорьев будет горячо противопоставлять «мысль
сердечную» искусственной «мысли головной».
Наиболее основательно воплотил эту линию в философские труды известный учитель
Вл. Соловьева П. Д. Юрке-вич. Он, как и Гогоцкий, был профессором Киевской Ду-
ховной академии (с 1851 г. — преподаватель, с 1861 г. — ординарный профессор), а с
1861 г. был приглашен в Московский университет. Прославили его статьи, опублико-
ванные в «Трудах Киевской Духовной академии» (1860): «Сердце и его значение в
духовной жизни человека» и «Из науки о человеческом духе». Последняя статья была
направлена против «Антропологического принципа в философии» Н. Г.
Чернышевского, манифеста механистического материализма, поэтому в советские
годы Юркевич трактовался как примитивный идеалист-ретроград. На самом деле
Юркевич как философ значительно глубже и основательнее Чернышевского.
Главные идеи Юркевича: знание наше — деятельность души, только пройдя через
сердце, оно может быть усвоено; потому так важно конкретное, а не абстрактное
знание; человеческая индивидуальность выражается в сердце, а не в мысли, общей
многим; нет чистой объективности, невозможно отвлечь объект от субъекта.
Последнее суждение, характерное для многих философов-идеалистов, особенно
раздражало всегда материалистов (в XX веке — марксистов), пытавшихся в борьбе с
личностным началом, с «субъективизмом», доказывать независимость объективного
мира от субъекта. Между тем достаточно простого примера с цветовым разнообра-
201
зием мира, чтобы опровергнуть этот механистический принцип отделения субъекта от
объекта: ведь все краски мира становятся именно такими благодаря физиологическим
особенностям нашего глаза (экспериментально доказано, что у многих животных глаз
воспринимает внешний мир лишь в черно-белом варианте); объективно, вне нас, вне
человека существуют лишь физические волны разных частот, испускаемые предметами;
но убедить материалиста, что сзади меня или в соседней комнате нет никакого цвета и
света, а есть лишь никем не воспринимаемые физические волны, совершенно невозможно,
материалист на стену полезет от такого «субъективизма»...
* * *
Вульгарные, механистические материалисты, как властители дум (хотя и очень
недолговечные) пришли на смену классикам германской философии. Главные фигуры
этого ряда были тоже немцы. Если не считать старшего среди них, Л. Фейербаха, который

был скорее антрополог и религиевед и не доходил до крайностей вульгарного
материализма, представителями последнего были естественники Л. Бюхнер, К. Фохт, Я.
Молешотт. Они оказали большое влияние на русских радикальных шестидесятников,
особенно на Д. И. Писарева и В. А. Зайцева. Тургеневский Базаров считал настольной
книгой труд Бюхнера «Вещество и сила» (иногда по-русски называли «Сила и материя»).
Шестидесятники, вослед немецким учителям, стирали границы между физиологией и
психикой человека, не уставали повторять идею Фохта: мозг выделяет мысль подобно
печени, выделяющей желчь.
Парадоксально, что гегелевская традиция, даже в ее самом «левом» варианте, которая так
сильно воздействовала на радикалов сороковых годов, оказалась очень ослабленной
применительно к шестидесятникам. Частично общефилософский гегелевский метод
использовали сотруд-
202
ники «Современника», Н. Г. Чернышевский и его ученик М. А. Антонович (прежде
всего, историзм анализа, исследование движения, развития общественной мысли,
элементы диалектики), хотя на них значительно большее влияние оказал Фейербах.
Основная философская работа Чернышевского «Антропологический принцип в
философии» (1860) — одна из самых важных фейербахианских работ в России.
В свете материалистических воззрений радикальные шестидесятники были склонны
даже чрезмерно резко нападать на классических немецких философов, в том числе и
на Гегеля: это очень заметно в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения
искусства к действительности» (1855), где оспаривались многие положения геге-
левской эстетики, особенно толкование категории трагического. Для Гегеля
трагическое всегда связано с закономерностью, философ подчеркивает как бы
античную фатальность трагического исхода. Чернышевский как радикальный
демократ, всерьез готовящийся к революционным кровавым битвам, никак не хотел
включать в свою оптимистическую систему закономерность несчастий и даже гибели.
Он любил некрасовское стихотворение «Поэт и гражданин», но сам в те годы ни за что
не написал бы: «Иди и гибни безупречно» — настолько трагический, «гибельный»
пафос был ему чужд. Поэтому и теоретическое определение у Чернышевского носит
явно антигегелевский смысл: «Трагическое есть ужасное в человеческой жизни (...) в
самой действительности оно бывает большею частию вовсе не неизбежно, а чисто
случайно» (Чернышевский, II, 30).
Очевидно, с трагичностью не мирились и просветительские представления о
непрерывности, неколебимости исторического прогресса. На таком просветительском
понимании истории, полном решительного неприятия закономерности трагедии,
построена большая полемическая статья Чернышевского «О причинах падения Рима»
(1861), оспаривающая идеи Герцена о распаде западноевропейского
203
мира. Чернышевский, взяв из истории Запада очень существенный эпизод — захват и
разрушение Римской империи северными варварами, категорически утверждает
случайность победы диких орд над цивилизованным Римом: «Никакой внутренней
необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс
безостановочен (...). Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер, — какая
тут разумность, какие тут внутренние причины смерти?» (Чернышевский, VII, 657).
Еще более заметны антигегелевские тенденции в статьях публицистов «Русского
слова» Писарева и Зайцева. Последние настолько ненавидели «абстрактность» и
«фатализм» гегелевского учения, что готовы были даже приветствовать, не очень
разбираясь в сути, философов-идеалистов и консерваторов, но противников Гегеля.
Таковым на некоторое время стал для Зайцева Артур Шопенгауэр, вообще весьма
модный в 1860-х гг. философ, модный не столько в прогрессивных, сколько в

консервативных кругах, — главным образом, из-за этического пессимизма и
интуитивизма.
Нужно отказаться от стандартного представления, что самое существенное у
Шопенгауэра — идеалистический пессимизм, хотя именно этой стороной своих
воззрений он оказал влияние на Тургенева и Фета, а частично и на Л. Толстого (Л.
Толстой очень ценил Канта и Шопенгауэра и очень не любил Гегеля, видя в его трудах
безосновность и пустой набор фраз). Шопенгауэр в целом противоречивый и
многоликий философ, и радикальные публицисты «Русского слова» взяли у него на
вооружение не пессимизм, а лютую ненависть к Гегелю и декларации о
необходимости переходить к опытным знаниям. Вначале, весьма сдержанно, труды
Шопенгауэра (прежде всего, «Мир как воля и представление») похвалил — именно за
антигегельянство, за критику абстрактной метафизики в пользу опыта — Г. Е.
Благосветлов в обзоре «Библиографический листок» («Русское слово», 1864, № 5), а
затем увлекающийся Зайцев провозгласил Шопенгауэра чуть ли
204
не самым выдающимся перспективным философом современности. Бели поколение
Герцена и Белинского, подобно радикальным немецким гегельянцам, смогло сделать из
учения Гегеля революционные выводы, то Зайцев ко всей классической немецкой
философии отнесся весьма пренебрежительно, и не только к немецкой, а шире: ко всем
«так называемым великим философам-идеалистам от Декарта до Гегеля», ибо с их
именами «соединяется понятие о праздных и бесплодных мудрствованиях, лишенных вся-
кого практического значения» (Зайцев 1934, 269). Но особенно много негативных
суждений публициста выпало на долю именно немецких классиков; досталось Фихте и
Шеллингу, но больше всего — Гегелю, чьи труды типа «Феноменология духа»
квалифицируются или как «бессвязная ерунда», или как защита реакции (там же, 302).
Прочитав книгу французского философа Л. А. Фуше де Карейля «Гегель и Шопенгауэр.
Очерки современной немецкой философии от Канта до наших дней» (Париж, 1862),
Зайцев, во-первых, очень обрадовался жестким, грубым нападкам Шопенгауэра на Гегеля,
а во-вторых, из-за проведенных связей между французскими физиологами-мате-
риалистами XVIII века (Кабанис, Биша) и Шопенгауэром соединил творчество последнего
с современностью, с вульгарным материализмом середины XIX века; таким образом,
смешав в одну кучу материализм и сенсуализм XVIII века, субъективный идеализм
Шопенгауэра, позитивизм и вульгарный материализм середины XIX века, Зайцев пре-
вознес Шопенгауэра, посвятив ему почти безоговорочно дифирамбическую статью
«Последний философ-идеалист» («Русское слово», 1864, № 12). В этой же статье Зайцев,
совершенно не уяснив понятий внутреннего и внешнего возбуждений в знаменитой работе
И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», пытался предлагать советы-поправки
физиологу.
Антонович, более широко и глубоко ориентировавшийся в философских вопросах, грубо,
но справедливо обрушился в статье «Промахи» («Современник», 1865, № 2)
205
на ошибки Зайцева (главным образом, за незнание системы Шопенгауэра и за
неверное понимание работы Сеченова). Зайцев, следует отдать ему должное, в
специальной заметке «Несколько слов г. Антоновичу» признал упреки оппонента
справедливыми, не согласившись только с тоном его статьи (там же, 303—306). В
свою очередь, Антоновича за ошибки в истолковании Гегеля справедливо одергивал
Н. Н. Страхов (статьи во «Времени»), еще более философски образованный.
Вульгарно-материалистические и позитивистские представления вторгались и в
социально-политическую систему Зайцева. Очень значительна в этом аспекте его
статья «Естествознание и юстиция» («Русское слово», 1863, № 7), с весьма странным
для знающих Зайцева по другим работам эпиграфом: «Человек свободен, как птица в
