Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


было фашистского расизма по крови: крещеный еврей сразу же приобретал все права,
которых он был лишен в иудействе.
Однако в многонациональной и многоплеменной стране существовало много
вероисповеданий. Одних мусульман к концу XIX века было 11 миллионов, иудеев — 4
миллиона. Мусульмане не очень беспокоили правительство и церковь: славяне в России,
как правило, не переходили в исламскую веру, а с этническими регионами мусульман
приходилось мириться, хотя, конечно, всячески старались бороться, вплоть до
насильственных мер, за их крещение.
Больше всего ограничений было для евреев, которые воспринимались даже большими
врагами христианского мира, чем мусульмане. Известна идея Иоанна Грозного, когда его
спросили, что делать с евреями, взятыми в плен при штурме Полоцка: «Согласных
креститься — крестить! А несогласных утопить в р. Полоте». Елизавета Петровна на
предложение дать некоторые льготы евреям-торговцам, чтобы собрать больше пошлин,
ответила: «от врагов Христовых интересной прибыли не желаю»; императрица издала
указ (1742) о полном выселении евреев из России. Однако присоединение польских
губерний при Екатерине II включило в империю большие массы еврейского населения,
которые уже невозможно было безболезненно выгнать. Тогда стали создавать законы об
ограничениях, которые просуществовали до XX века. Особенно существенной было
установление черты оседлости (указ 1791 г.): евреям запрещалось жить за пределами 15
назначенных губерний (Бессарабия, Крым, Литва, Белоруссия, Правобережная, по Днепру,
Украина, Полтавская и Черниговская губернии в Левобережье, а также юго-восточная
часть Украины, т. е. современные Запорожская область и Донбасс) и Царства Польского.
Да и в черте оседлости были ограничения: нельзя было проживать в
148
Киеве, Ялте (в ней — с 1893 г.), польских городах (в Польше это было отменено в 1862
г.). Исключение делалось для лиц с высшим образованием (с семьей и слугами),
купцов 1-ой гильдии (тоже) и некоторых специалистов-ремесленников (но в
некоторых местах, например, в Риге, в ремесленные цехи принимались только
христиане). Даже, оказывается, креститься нельзя было евреям за пределами черты
оседлости: таковы были законы, принятые при Николае I. В 1855 г. по торговым делам
в Москву приехал сын одесского купца 3-й гильдии Фроим Хирич, и он пожелал
перейти в христианство; с согласия митрополита Филарета акция совершилась; и
вдруг митрополит получает от генерала-губернатора отношение о незаконности
крещения и о необходимости срочно выслать Хирича из Москвы; Филарет написал в
Синод сердитое письмо, возмущаясь такими законами.
Нельзя было также селиться иудеям в деревне, приобретать там и арендовать
недвижимость; в полосе 50 верст вдоль всей западной границы тоже были
ограничения евреям на жительство (боялись контрабанды и шпионов). Го-
сударственная служба для иудеев в начале XIX века была вообще закрыта, с 1835 г.
разрешили поступать имеющим высшее медицинское образование (но только со
свидетельством министра народного просвещения и с разрешения царя!!!). Потом
права были расширены; при Александре II доступ на государственную службу был
открыт всем иудеям, имеющим высшее образование, а для медиков — и без диплома.
Но реально эти законы не всегда выполнялись. Очень приветствовалась эмиграция
евреев.
О католиках. В столицах и русской провинции в XVIII веке было мало католиков
(главным образом — французов). Однако присоединение после трех разделов Польши
(1772—1795) польских и литовских земель сразу увеличило количество католиков: к
концу XIX века их проживало в России приблизительно 10 миллионов. Официально —
как христиане — католики пользовались всеми правами, уж тут, казалось бы, не было
ограничений на

149
пространство проживания или на возможность служить. Но любопытно, что
правительство, не говоря уже о православной церкви, всегда относилось к католикам с
явным или скрытым недоброжелательством, даже при либеральном в смысле
отношения к конфессиям Александре I и его либеральном министре кн. Голицыне.
Министра, да и императора, очень раздражала активнейшая пропагандистская
деятельность иезуитского ордена, который всячески старался проникнуть и укрепиться
в России. Иезуиты организовывали учебные заведения: в Полоцке был открыт
иезуитский коллегиум, в 1812 г. превращенный в академию, во всех крупных городах
открывались пансионы и училища, куда отдавала детей почти вся наша знать.
Любопытно, что знаменитый Ришельевский лицей в Одессе был создан на базе
иезуитского пансиона, да и лицей вначале носил чуть ли не открыто иезуитский ха-
рактер. В 1814 г. кн. Голицын с ужасом узнал, что его племянник собирается перейти в
католичество! Министр попросил Филарета, будущего Московского митрополита, а
тогда ректора Петербургской духовной академии, заняться увещеванием нестойкого
17-летнего юноши. Конечно, Филарет уговорил. В результате, может быть, по
прямому указанию Голицына, Филарет в 1815 г. выпустил (анонимно почему-то)
антикатолическую и антииезуитскую книгу «Разговоры между испытующим и
уверенным о православии восточной греко-российской церкви», где Уверенный —
разумеется, сам автор, а Испытующий — соблазненный иезуитами юноша (в 1833 г.
книга вышла вторым изданием, опять же анонимно).
В 1815 же году вышел царский указ об изгнании иезуитов из Петербурга и Москвы и о
запрете въезда в обе столицы. А в 1820 — вообще об изгнании иезуитов из России, с
конфискацией всего их имущества и с закрытием всех их учебных заведений. В
России никогда нельзя было открыто пропагандировать воззрения, расшатывавшие
официальные взгляды и учреждения.
150
В общем же католики существовали потом относительно спокойно. Правда, переход
православных в католичество мог быть лишь тайно осуществленным; как правило,
обращенные эмигрировали — или же явно склонные к переходу в католичество вначале
эмигрировали, а потом меняли конфессию. Такова, например, судьба талантливого
ученого и поэта Владимира Сергеевича Пече-рина (1807—1885), профессора Московского
университета, эмигрировавшего в 1836 г. на запад, принявшего там католичество и
ставшего монахом. А Чаадаев, даже не перешедший, а лишь заикнувшийся в своих
«Философических письмах» о преимуществах католической культуры перед
православной, был официально объявлен сумасшедшим. Если же не считать опасности
агитации и переходов, а также настороженного отношения к полякам по политическим
мотивам, то самих по себе католиков притесняли мало. Из-за поляков, впрочем, негласно
вводили процентную норму для католиков, служащих в государственных учреждениях.
Значительно труднее была жизнь принадлежащих к конфессиям почти православным.
Исторический опыт показывает, что в деспотических обществах больше всего раздоров,
яростных неприятий происходит между сходными, близкими явлениями. В истории
религиозной жизни России это наглядно демонстрируется судьбой старообрядцев и
униатов, пожалуй, больше всего теснимых официальной церковью, значительно больше,
чем католики.
Старообрядцы появились в XVII веке. Многие православные люди тогда не приняли
новшеств патриарха Никона, настоявшего на исправлении по греческому образцу
богослужебных книг и церковных обрядов, на замене двуперстного крестного знамения
трехперстным. Началась жестокая идеологическая борьба, которая была трагически
неравной: пользуясь поддержкой светской власти, Никон стал и физически расправляться
со старообрядцами, начались ссылки, тюремные заточения, сожжение книг и икон, а

потом, уже при преемниках Нико-
151
на, и сожжение людей (в 1681 г. по царскому указу был сожжен знаменитый протопоп
Аввакум). В обстановке непрерывных гонений, в уверенности, что на земле воцарился
Антихрист, в ожидании скорого конца света старообрядцы большими группами и сами
уходили из жизни (к концу XVII века самосожглись до 20 тысяч человек!), с
потрясающей художественной силой этот путь изображен в опере Мусоргского
«Хованщина».
Натерпелись старообрядцы и в последующих столетиях. При Анне Иоанновне в
начале 1730-х гг. они должны были ходить с нашивками из желтого сукна на верхнем
платье — прямо почти как евреи при гитлеризме. Правда, специальные указы Петра III
и затем Екатерины II несколько ослабили гнет; первые либеральные годы
царствования Александра I также обнадеживали старообрядцев, но затем пресс снова
стал давить, и чиновничий, и церковный. Старообрядцы не имели гражданских прав,
крайне затруднены были процедуры и оформление документов о крещениях, браках,
похоронах. Особенно усилились гонения при Николае I. Уничтожались
старообрядческие молельни, закрывались храмы и часовни, сжигались уникальные
книги и рукописи. При старообрядческих кладбищах в Москве существовали
Воспитательные дома: для сирот, для подкидышей и просто для детей, отдававшихся
верующими родителями для обучения, — и вот мальчики-сироты из этих домов по за-
кону 1834 г. объявлялись кантонистами и «призывались» в армию, а сами
Воспитательные дома передавались в ведение Императорского воспитательного дома.
Богадельни для стариков изымались из ведома старообрядческих общин и
передавались Императорскому Человеколюбивому обществу. Не могли примириться с
частным, да еще со старообрядческим воспитанием!
По закону 1854 г. старообрядцам запретили записываться в купцы и иметь купеческие
капиталы; а ведь купеческая и заводская деятельность старательных старообрядцев к
середине XIX века создала несколько десятков
152
семей миллионеров, светил торгово-промышленного мира; имена Морозовых,
Рябушинских, Гучковых, Кузнецовых до сих пор у нас на слуху. Личное и общинное
богатство старообрядцев, миллионные капиталы и миллионные ценности недвижимого
имущества выручали их из многих бед: с помощью постоянных взяток они могли ослаб-
лять постоянные же притеснения чиновников, светских и церковных.
Опять же некоторые либеральные послабления начались при Александре II:
старообрядцам дали гражданские права, разрешили занимать общественные должности
(но помощником должен был быть обязательно обычный православный — прямо как в
советских партийных органах национальных республик: если первый секретарь — нац-
мен, то второй обязательно русский!); открыли запечатанные храмы и часовни. Но по-
прежнему запрещалось публичная пропаганда веры (реально это запрещение не со-
блюдалось: в пасхальные дни у соборов московского Кремля А. С. Хомяков до хрипоты
спорил со старообрядцами: значит, они специально собирались в людных местах и
устраивали диспуты...).
У старообрядцев возникали и внутренние трудности: уже в XVII веке они разделились на
две большие «партии»: беспоповцев, отрицавших таинства и священство из-за утраты
древнего благочестия, и поповцев, признававших необходимость и таинства, и
священства, но так как «настоящих», т. е. дониконовских священников вскоре не осталось,
то поповцы принимали «беглых» клириков официальной церкви, что затрудняло всю их
церковную жизнь, особенно при учете резкой враждебности светских и официальных
церковных властей к этим «беглым» (любопытно, что «беглые», несмотря на притеснения,
не иссякали; очевидно, их прельщало более обеспеченное существование у богатых

старообрядцев). По закону 1822 г. к «беглым» священникам не применялись
репрессивные меры, если только они не совершили уголовных преступлений; но ведь под
«уголовщину» при желании можно было подвес-
153
ти все, что угодно; например, в некоторых местах сам факт оставления священником
своего прежнего места трактовался как уголовное преступление... А закон 1827 г. вообще
запретил старообрядцам принимать новых «беглых» клириков. Это поставило их в
немыслимо трудное положение. На Рогожском кладбище (московский центр поповцев)
осталось три священника и два дьякона, а прихожан в одной Москве было 68 тысяч, да
еще десятки тысяч приезжали со всех концов России: или не было своих священников,
или хотелось совершить значительные акты в столице. Поэтому были дни, когда в церквах
Рогожского кладбища совершалось 20 свадеб и 50 похоронных обрядов.
Два лагеря старообрядцев продолжали в XVIII— XIX веках дробиться на еще более
мелкие враждующие группы. Из беспоповцев выделились: поморский толк, федосеевцы,
филипповцы, Аристове согласие, бегуны, нетов-щина, рябиновцы, дырники, Часовенное
согласие, само-крещенцы... У поповцев тоже оказалось немало отделившихся, но все же
основная масса относится к Белокриниц-кому согласию: в Белокриницком монастыре
(тогда — Австрия, ныне — Буковина) в 1846 г. был избран первый старообрядческий
архиерей. Старообрядцы отыскали в Константинополе бывшего боснийского митрополита
Амвросия, находившегося под духовным судом и, видимо, потому и согласившегося
перейти в «раскол». Амвросий стал уже посвящать в епископы и буковинских, и русских
старообрядческих монахов. Николай I и его окружение возмутились по поводу таких
действий под боком страны, австрийское правительство под воздействием гневных
протестов в 1847 г. удалило Амвросия из Буковины, но дело уже было сделано, епископы
могли теперь «размножаться», и старообрядцы Белокриницкого согласия и в России
получили своих иерархов. В 1873 г. они отделились от Белой Криницы, во главе стал
духовный совет в Москве. Эта группа верующих оказалась самой значительной, крепкой,
наиболее культурной среди старооб-
154
рядцев, — она, с центром на Рогожском кладбище, сохранилась до наших дней. В 1905 г.
старообрядцы получили равные с католиками и протестантами права.
Пожалуй, еще более трагической, чем у старообрядцев, была судьба так называемых
униатов. Их не знала допетровская Русь, да и почти весь русский XVIII век в общем
обошелся без них, как и без массового католичества. Лишь после трех разделов Польши к
России присоединились земли, где народ исповедовал католическую веру. Не надо
забывать, что до 1790-х годов граница между Россией и Польшей проходила от Риги по
Западной Двине и по Днепру до Киева (лишь полоска в несколько верст на правобережье
Днепра вокруг Киева относилась к России), поэтому почти вся Белоруссия и значительная
часть Украины принадлежали Польше. А в польских и литовских землях господствовало
католичество. Среди поляков и литовцев, как правило, — католическая церковь римского
обряда, среди украинцев и белорусов, как правило, — католическая церковь
византийского обряда. Суть дела в том, что господствовавшая в Польше римско-
католическая церковь добилась на Брестском соборе 1596 г. унии, присоединения к ней
большинства православных украинцев и белорусов, которые и стали называться греко-
католиками или униатами. Они подчинялись Риму, папе, признавали основные догматы
католической церкви, но сохраняли православные обряды.
С присоединением западных украинских и белорусских земель к России наша церковь
начала борьбу за возврат униатов в лоно православия. Но если на западной Киевщине, в
Подолии (район Винницы, Хмельницкого-Проскурова, Каменец-Подольского), на Волыни
(район Владимира-Волынского и Новограда-Волынского, Луцка, Ровно, Житомира), т. е. в
областях, тесно связанных с Киевом, с восточной Украиной, с Россией, переход был
относительно добровольным (до конца ХУШ века, т. е. за несколько лет, вернулось в

православие чуть ли не два миллиона униатов!), то жители Белоруссии и более запад-
155
ных районов Украины уже настолько срослись с униатской традицией, настолько не
хотели «новых» обрядов и бородатых священников-москалей, что возникли трудности.
Переходили в православие лишь насильно, многие потом пытались вернуться к униатам,
но если, как уже говорилось, переход из каких-то конфессий в православие всячески
официально поощрялся, то обратное движение называлось «совращением» и подлежало
уголовному наказанию.
Так как к католикам римским отношение властей было относительно лояльное, то
некоторые униаты пытались перейти в «настоящее» католичество, но по закону 1803 г.
такой переход был им запрещен.
А далее, особенно после Польского восстания 1831 г., стало совсем плохо: массово
закрывались униатские монастыри, некоторые из них преобразовывались в православные,
а в 1839 г. в Полоцке подписан акт о соединении униатской церкви Западных Украины и
Белоруссии с русской православной церковью. После же восстания 1863 г. и униатов
Царства Польского включили в православие — акция 1875 г. И начались неповиновения:
массовые уклонения от крещения детей по новому обряду, от обрядов бракосочетания и
похорон. Последовали штрафы, аресты, высылки в Предуралье и Сибирь. Ничто не помо-
гало. Униаты от этих репрессий лишь озлоблялись и готовы были скорее пользоваться
услугами католических ксендзов, чем православных священников.
Приведем краткий колоритный очерк ситуации из отчета обер-прокурора Синода К. П.
Победоносцева за 1897 г.: «Состояние упорствующих бывших греко-униа-тов до
крайности печально. У исповеди они не бывают, детей не крестят, браков не венчают,
умерших погребают самовольно. Забывши все обязанности, налагаемые на христиан
религией, они совершенно очерствели душой. От незаконных, некрещеных родителей
родились дети, тоже остающиеся некрещеными. К православию упорствующие относятся
с озлоблением, с духовенством избегают встреч и бесед, к умершим православных
священников не
156
допускают; на убеждения крестить детей многие отвечают: «Скорее утопим, чем окрестим
в вашей Церкви». Среди них не прекращается пропаганда католических ксендзов, тайное
совершение ими треб и исповеди» (цитирую по газетной публикации: «Русская мысль»,
Париж, № 4072, 6—12 апр. 1995 г., приложение).
Мучения униатов в XX веке, еще более жуткие, чем ранее, выходят за рамки нашей книги.
Лютеране, распространившиеся в Северной Европе еще в XVI веке, были достаточно
обильно представлены в больших русских городах благодаря наличию там немецких
граждан (да еще добавим сюда немецких колонистов в Заволжье и у Черного моря). В
Петербурге лютеранство еще усиливалось шведами и финнами. Не забудем также, что
большинство русских императриц по происхождению — лютеранки, хотя они, соединяясь
с русскими царями, точнее — с наследниками, и принимали православие. Теоретически
лютеране были вне репрессий за свое вероисповедание: они, в отличие от старообрядцев,
имели все гражданские права, их церкви и пасторы как будто бы не подвергались
гонениям и т. д. Но это лишь теоретически. Во-первых, согласно 67-ой статье X тома (ч. 1)
гражданских законов Российской империи, при смешанных браках (т. е. когда один из
супругов — православный) молодые супруги давали подписку, что крещение и
воспитание будущих детей будет совершаться в православной вере (Александр II в 1865 г.
отменил этот пункт, но Александр III 20 лет спустя восстановил). Во-вторых, как и в
случае со всеми неправославными конфессиями, всячески приветствовался переход
иноверца в православие и всячески, вплоть до уголовного наказания, препят-ствовался
обратный переход. А в России XVIII—XIX веков, не считая даже немецких колонистов в
южных губерниях, было очень много народов, исторически приобщенных к лютеранству:
латыши и эстонцы в Прибалтике, финские народности в Петербургской губернии. Они не
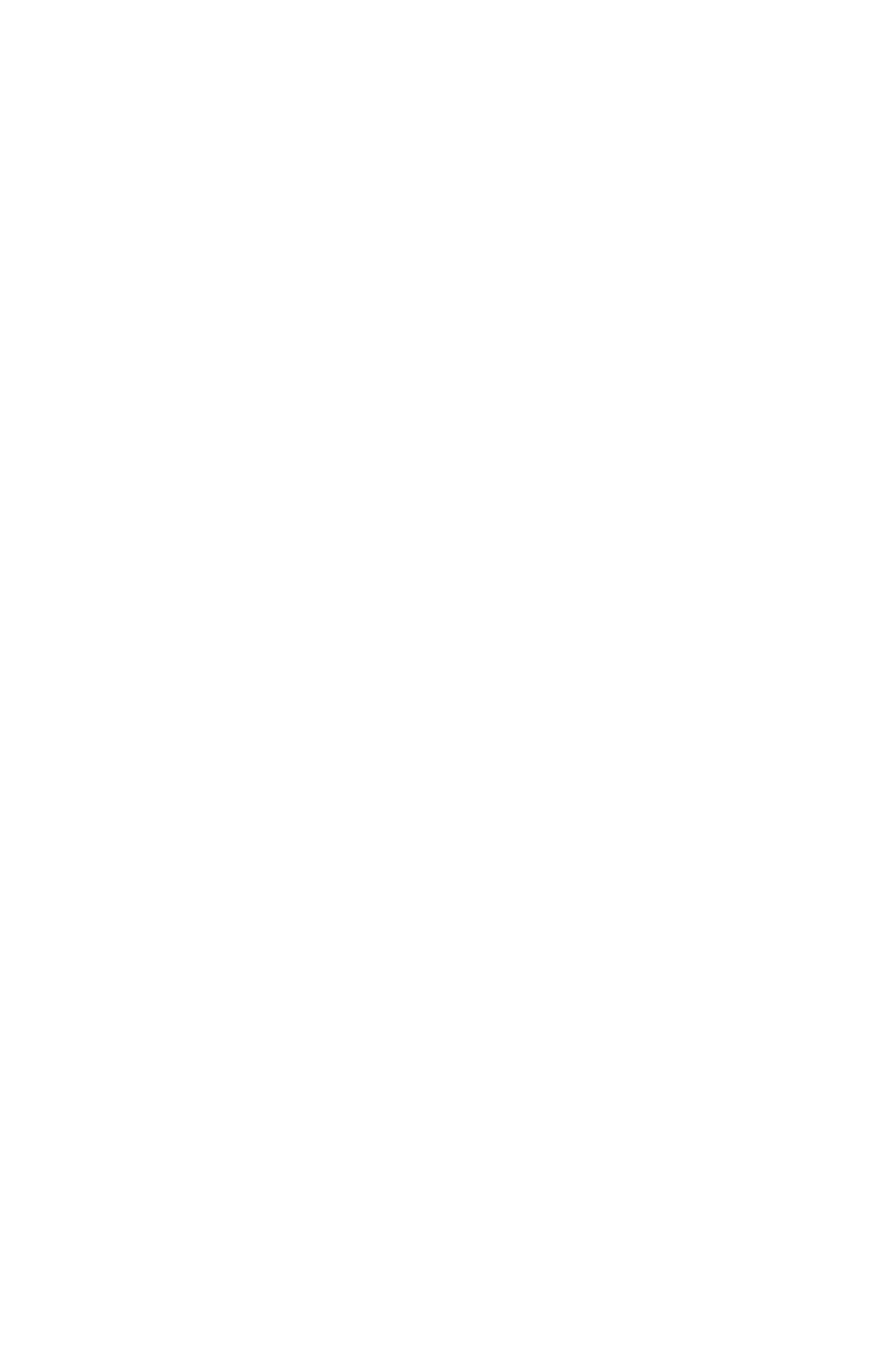
были отгорожены китайской (Берлинской?) стеной от
157
православных соседей, и тут возникали напряженные ситуации и даже уголовные дела.
В 1840-х гг., при Николае I, перешло в православие сто тысяч латышских и эстонских
крестьян. Очевидно, сыграла роль экономическая агитация: мерещились материальные
льготы, помощь правительства и т. п. Но когда новообращенные обманулись, увидели, что
никаких поблажек им не предвидится, начался массовый возврат. Он, конечно, не мог
быть оформлен официально: как в рыбьей ловушке или как в полупроводнике, движение
могло быть лишь в одну сторону — к православию. Но неофициально псевдо-
православные обращались за всеми нуждами и требами к пастору, а не к священнику и не
посещали православных храмов.
И вот тут начались притеснения пасторов. Согласно Уложению о наказаниях (статья 193),
священнослужитель других (кроме православных) христианских конфессий заведомо, т. е.
сознательно, допускающий православных к исповеди, причастию, крещению детей, на
первый раз удаляется от службы от 6 до 12 месяцев, а в случае повторного
«преступления» — лишается духовного сана и отдается под надзор полиции. А если еще
пастор «совращает» в свою веру, т. е. оформляет переход в свою конфессию, то он
лишается всех прав, лишается сана; часто дело заканчивалось ссылкой в Сибирь.
Только указ Николая II от 17 апреля 1905 г. о веротерпимости дал некоторую передышку.
На этом фоне дикие, изуверские секты хлыстов и скопцов, казалось бы, должны были
подвергаться еще более сильным притеснениям, но реальная жизнь России часто
показывала парадоксальные несоответствия теоретическим предположениям.
Хлысты появились в центральной России в середине XVII века, в смутное время раскола
(родоначальником считается хлыстовский «Саваоф» — Даниил Филиппов). Ученые
предполагают, что в названии смешались понятия «Христы» и «хлысты», так как, с одной
стороны, в секте
158
было много самозванных Христов (в каждой общине, называемой «кораблем», был, как
правило, свой «Христос»), а с другой, для нее характерно физическое самобичевание
прутьями или жгутами. Эта процедура восходит к языческим временам, но усилена
мистическими представлениями о страданиях Христа при распятии. Эта же мистика, сме-
шивающая идеальное с материальным, создала путанную христианскую идеологию, где
главным оказывалось прямое общение со Святым Духом (Дух вселялся в души избранных
Христов и Богородиц), где Евангелие трактовалось чисто духовно, т. е. метафизически,
все его эпизоды — это символы (например, смерть Лазаря это грехи, Марфа это плоть, а
Мария — душа и т. д.). Молитвенные собрания («радения») хлыстов превращались в
зашаманенные, экстатические беснования. Руководители секты проповедовали крайний
аскетизм, иногда — с отказом от семейной жизни, но в некоторых группах зато радения
превращались в развратное сумасшествие, в неистовые, беспорядочные половые связи. В
некоторых ответвлениях секты наносились на теле раны, совершались причащения
реальной человеческой кровью и т. д.
В XVIII веке начались судебные процессы над хлыстами. В Москве в 1733 г. судили 78
человек, из них трое руководителей были затем казнены, остальные сосланы в отдаленные
монастыри. Но это не остановило распространение хлыстовского движения, главным
образом в центральных губерниях, в Поволжье и на Кавказе, особенно — в начале XIX
века, из-за относительной веротерпимости в эпоху Александра I. В хлыстовскую «ересь»
вступали не только неграмотные крестьяне, но и помещики, священники и дьяконы, были
и именитые князья. Да и до Петербурга ересь докатилась, в начале XIX века там
насчитывалось до шести хлыстовских «кораблей». Были затронуты и весьма высокие
общественные слои. Любопытен в этом отношении кружок Е. Ф. Татариновой
(урожденной Буксгев-ден, 1783—1856). Вдова полковника, она появилась в столице в
1815 г., вскоре перешла из лютеранства в правосла-
159

вне и якобы именно в момент перехода почувствовала в себе дар пророчества. Именно
экстатические радения и, в духе древних пифий, полубессвязные заклинания-пророчества
восприняла Татаринова от хорошо ей знакомых хлыстовских обществ, отвергнув
остальные стороны учения и деяний хлыстов. К Татариновой потянулись многие видные
петербургские лица: помимо родственников (мать, брат, деверь) — генералы, князья,
крупные чиновники, известный художник В. Л. Боровиковский; посещали собрания
гофмейстер Р. А. Кошелев и министр просвещения и духовных дел кн. А. Н. Голицын!
Императрица Елизавета Алексеевна благоволила к Татариновой (и предоставила ей
квартиру в Михайловском замке!), Александр I давал ей аудиенцию... Правда, в 1822 г., в
связи с запрещением тайных обществ, она поселилась за городом, но и там продолжала
радения. Лишь в 1837г., уже при Николае!, ее арестовали и насильно отправили в
Кашинский Сретенский монастырь, где она пробыла 10 лет. Боролась за освобождение, но
так как не хотела признать своих «заблуждений», то ее не выпускали. Наконец, в 1847 г.
не выдержала, «призналась», и ее выпустили, но разрешили находится только в Кашине.
Лишь незадолго до смерти она получила возможность жить в Москве.
Считается, что секта скопцов выделилась из хлыстов. Основатель новой секты Кондратий
Селиванов стал в 1760-х гг. клеймить половую распущенность хлыстов и проповедовать
аскетизм, который достигался «огненным крещением», кастрацией. Тут же нашлись
последователи, секта разрасталась. Идеологической основой учения скопцов стало
Евангелие от Матфея. Христос в беседе с учениками настаивал на чрезвычайности
разводов, они должны осуществляться лишь в самых крайних случаях (прелюбодеяние), а
в принципе семья должна быть нерушимой. Ученики задали коварный вопрос: не лучше
ли вообще тогда не жениться? Согласно Матфею, Христос так им ответил: «не все
вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, ко-
160
торые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей,
и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто
может вместить, да вместит» (Матф., XIX, 10—12).
Некоторые ученые богословы пытались трактовать это место как аллегорию, а не
буквальный совет оскопляться; третий случай объяснялся как обет безбрачия у
девственников. В. В. Розанов, однако, считал, что термины и три варианта не
оставляют никакого сомнения, что речь идет о реальном анатомическом состоянии
или акте, а не о метафоре, но сам он пытается снизить жутковатость сообщения
филологическими рассуждениями: дескать, греческий предлог dia может означать не
только цель («для»), но и причину, т. е. конец предпоследней фразы может быть
переведен не «для Царства Небесного», а «по причине Царства Небесного», т. е. «по
воле Божией», т. е. речь идет о избирательной судьбе и т. д. Конечно, такие
объяснения очень натянуты, да они и не снимают главного: даже если изъять третий
случай, Христос все же весьма сочувственно относится к оскоплению (любопытно, что
скопцы считали Христа «своим»: указание в Евангелии на иудейское обрезание
Христа они трактовали как кастрацию; невольные каламбуры часто сопутствовали
учениям сектантов: например, христианское понятие «Искупитель» скопцы
отождествляли с «Оскопителем»).
Христианскому сознанию понятен пафос полного воздержания, монашество является
наиболее полным, наиболее крайним воплощением этого пафоса, неважно, идет ли
речь о буквальном монастыре или о светском существовании (ср., например,
толстовскую пропаганду полного воздержания в «Крейцеровой сонате»; А. С.
Хомяков после смерти жены хитро придумал понятие «духовного монашества», т. е.
как бы разрешал физическую близость, но не допускал сердечных, любовных
отношений). Однако скопцы показали, что монашество — это еще не край, не предел:
можно анатомически довести человека до невозможности половой жизни. Ужасной

процедуре мужской кастрации, с
161
помощью раскаленного железа или режущих инструментов (или даже «колющих»:
употреблялся и топор), сопутствовала еще более ужасная женская операция: выреза-
лись наружные половые органы, сосцы и даже целиком груди (в принципе операция
нелепая: ведь матка не затрагивалась, и изуродованная женщина вполне могла рожать
— такие случаи и бывали). Следует еще учесть, что если мужская кастрация
производилась у взрослого, а не у ребенка, то мужчина мог сохранять способность к
половому акту. На этот случай была изобретена «вторая степень» оскопления —
отрезание мужского члена.
Важно подчеркнуть, что, за редкими исключениями, все эти страшные уродования
тела совершались добровольно. Такова была сила религиозного фанатизма: скопцы
веровали в скорое наступление на земле Царствия Небесного — и готовились к вечной
жизни, надеясь, с опорой на Евангелие, на свои преимущества по сравнению с
обычными людьми. А пока надо было устранять все плотские утехи, надо было
яростно бороться с соблазнами, с «лепотой», с красотой женской (Достоевский считал,
что красота спасет мир, скопцы же видели в лепоте угрозу миру, гибель мира).
Казалось бы, негативный аспект учения и жизни скопцов: отсечение членов,
отталкивание от плотских радостей и красоты — должен был бы создавать мрачные,
минорные тона мировоззрения и поведения. Нет, наоборот, именно ожидание скорого
приобщения к вечному, божественному миру, и очищение себя от скверны
обуславливали пафос счастья, ликования, мажора. Это в свое время справедливо
подчеркивал В. В. Розанов, цитируя, как он говорил, «вакхическую песнь» скопцов,
петую на радении:
Уж как царь Давид по садику гулял, Я люблю, я люблю!
Он по садику гулял, в свои гусли играл, Я люблю, я люблю!., и т. д.
162
И здесь тоже, как и у хлыстов, не обошлось без внимания верхних слоев общества,
настолько учение оказалось заманчивым. Добровольно оскоплялись помещики, офицеры,
представители духовенства... В целом по России скопцов было много тысяч. Колоритна
судьба камергера последнего польского двора (у короля Станислава Августа
Понятовского) Иосифа (Алексея в России) Елянского (Еленского). В 1790-х гг. он жил в
Петербурге, сочинял полубезумные утопические проекты, манифесты (где клеймил
разврат при дворе Екатерины II и требовал передать престол Павлу). Почему-то наказание
ему было очень мягким — ссылка на Соловки (может быть потому, что он сам пожелал
перейти в православие и поселиться в монастыре?). Освободили его уже в начале XIX
века, при Александре I. Он снова вернулся в Петербург, оскопился, помогал скопцам,
помогал Селиванову, но перестарался: он еще представил императору проект
грандиозного преобразования России, где будут властвовать скопцы. Это уже было
слишком, в 1804 г. Елянский был сослан в суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь,
где он и скончался в 1813 г.
Но либерализм Александровского царствования не посягал на самое существование
скопцов, а лишь ограничивался предостережениями — чтобы не было оскопления других.
Конечно, скопцы игнорировали подобные указания. Показательна история жизни самого
основателя — Селиванова. Он ведь, как и многие другие сектанты, был не только
самозваным «Христом», но еще и объявил себя самозванцем-царем — якобы оставшимся
в живых Петром III, а не убитым по приказу Екатерины II. При царствовании
императрицы ему, естественно, приходилось худо: он ведь как бы выступал соперником
Пугачева, только что армии у него не было... Селиванова наказывали кнутом, ссылали в
Сибирь, сажали в крепость — ничто не помогало, он по-прежнему объявлял себя царем.
Кажется, в 1795 г. он освободился, жил в Москве.

Павел I вызывал Селиванова к себе и, по легенде, прямо спрашивал, отец ли он его,
императора, на что Се-
163
диванов якобы ответил: «Греху я не отец» и предложил Павлу оскопиться — тогда он
признает его своим сыном. Павел отказался и отправил самозванца то ли в крепость,
то ли в Обуховскую больницу, в отделение сумасшедших. А при Александре I
Селиванова освободили, перевели в богадельню, откуда его взял к себе в дом камергер
Блянский... Потом, после ссылки Елянского, он жил в доме богатого скопца
Солодовникова, где совершались многолюдные (до 300 человек обоего пола!) радения.
Потрясающе, что в 1805 г. Александр I, отправляясь в заграничный поход (начинались
наполеоновские войны!), посетил Селиванова, который пытался отсоветовать царю
идти на войну: время еще, дескать, не пришло.
Кажется, по-настоящему правители всполошились лишь в 1819 г., когда незадачливый
петербургский генерал-губернатор граф М. А. Милорадович (его ведь смертельно
ранит на Сенатской площади декабрист П. Г. Каховский) узнал, что его два
племянника, полковник и подпоручик, перешли из круга Татариновой в собрание
Селиванова, а младший даже намерен оскопиться; тревожило Милорадовича и
распространение скопчества в армии и на флоте. Впрочем, и теперь использовались,
главным образом, увещания, в крайнем случае — скопцы отдавались в военную
службу; получалось бросание щуки в воду: наказанные развивали активнейшую
агитацию и оскопляли вокруг соблазнившихся солдат и даже офицеров. По
отношению к Селиванову применили значительно более мягкую меру: его в 1820 г.
сослали, как в свое время и Елянского, в суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь,
где он и скончался в 1832 г., а до этого продолжал руководить сектой в
общероссийском масштабе.
Даже при Николае I не сразу были приняты крутые меры, суровый царский указ
вышел лишь в 1850 г.: оскопленным предстояла каторга от 8 до 12 лет, оскопите-лям
— 15—20 лет. Но ничто не помогало, скопцы дожили до наших дней, до конца XX
века, правда, как и в других
164
сектах, возникло несколько групп и движений, находящихся друг по отношению к
другу в достаточно враждебных отношениях.
Если другие христианские секты пришли к нам с Запада или распространились потом
за границы отечества, то хлысты и скопцы — исключительно русское явление;
обильный в России народный утопизм здесь проявил себя удивительно интенсивно и
чудовищно.
Другие секты христианского толка были более благопристойные. Впрочем, и им
доставалось. В середине XVIII века на Украине, а потом и в Тамбовской губернии,
бывшей почему-то рассадником сектантства, распространилась секта духоборов
(иногда их называют духоборцами). Предполагают, что у истоков стоял некий квакер,
живший в Харьковской губернии. В самом деле, у духоборов и квакеров много общего
в идеях и быте, и недаром до настоящего времени квакеры с большим вниманием и
симпатией относятся к русским духоборам. Реально известный вождь и идеолог
духоборов во второй половине XVIII века — Силуан Колесников.
Название секты происходит от их учения, довольно причудливо соединившего
традиционные евангельские положения с некоторыми новшествами. Верующий
вбирает в себя Святой Дух. В природе Бог существует, так сказать, чувственно,
плотски, а духовно находится в душе человека. Душа существовала еще до сотворения
мира; после смерти праведника она вселяется в тело такого же праведника или в тело
младенца, а душа неправедного — в тело животного; все грешники будут истреблены
при кончине мира. Иисус Христос — обычный человек, и его душа тоже вселялась

потом в праведников. Духоборы отрицали хождение в церковь, отрицали иконы и
службы, крещение и свадьбы, т. е. все требы и обряды; отрицались и «материальные»
посты, пост признавался лишь мысленный, как воздержание от злых дел и слов. Бого-
служение, которое заключается в пении псалмов и молитв, проходит в обычных
комнатах или в поле, священ-
165
ников нет; брак совершается лишь по взаимному согласию и без всяких внешних
обрядов.
Управляет общиной сходка стариков. Духоборы не пьют, не курят, очень
трудолюбивые, и когда их оставляли в покое, то они очень быстро достигали
общинной и личной гармонии и материального благосостояния. Но их, увы, не
забывали. Главный повод к раздражению властей — следование евангельскому завету
«не убий» и отказ от присяги и ношения оружия, хотя все остальное — и послушание
законам, и исправная уплата налогов — должны бы вызывать снисходительное
отношение. Однако еще примешивалось и раздражение официальной церкви. Поэтому
хотя под деяния духоборов было трудно подвести уголовные законы, но все же их
неоднократно выселяли и переселяли. В начале XIX века было массовое выселение из
центральных губерний на юг, в Мелитопольский уезд. А когда духоборы там
привольно обжились, их при Николае I (указ 1837 г.) переселили на Кавказ, в Грузию.
Духоборы обитают там до сих пор, но в конце XIX века произошло их массовое
переселение в Канаду и в Соединенные Штаты Америки, с помощью толстовцев и
квакеров.
От духоборов отделились молокане. Название иногда объясняют связью с рекой
Молочной Мелитопольского уезда, но это маловероятно, т. к. на Молочную, в
Таврическую губернию, духоборы попали лишь в XIX веке, а создание секты молокан
относится к XVIII веку, ко второй его половине. Более правдоподобно рассуждение о
«духовном млеке», приемлемом от Бога, но все же наиболее вероятно простое и
бытовое объяснение: пристрастие молокан к молочным продуктам и принципиальное
употребление молока во все посты. Основателем секты считается крестьянин
Тамбовской губернии Семен Уклеин, который был духобором, но потом создал свое
учение, оно в основном сходно с духоборским: то же отрицание обрядов и таинств
православной церкви, икон, службы и т. п., то же непризнание присяги и оружия.
Отличия заключались в более полном почитании Библии (духоборы признавали Свя-
166
щенное Писание выборочно и с коррективами) и в некоторых подробностях новых
обрядов (бракосочетание совершалось родителями жениха и невесты). Уже в XIX веке
молокане разделились на несколько групп, весьма отличающихся друг от друга.
Страна наша была обильна и другими сектами: адвентисты Седьмого Дня, меннониты,
баптисты и некоторые другие. Все они представляли (да и представляют) собой
варианты протестантизма.
Вся эта история неправославных религий и близких к православию сект показывает
явное неблагополучие с господствующей церковью. Приток в православие был мини-
мален, часто насильственный, а отток, явно не поощряемый, а обычно еще и
наказываемый, был достаточно велик. И если люди шли на каторгу, шли на
чудовищное уродование своего тела ради веры и духовно-душевного удовлетворения,
значит, этот путь был вызван не личным заблуждением или безумием, а некими
общими объективными причинами. Главная из них — официальность, казенность
православной церкви, сращенность с государственной властью и подчинение этой
власти. Уже в XIX веке все слышнее раздавались голоса о неблагополу чии в
церковной области, о необходимости решительных перемен, и все эти и голоса, и
