Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)
Подождите немного. Документ загружается.


время у себя, а когда вернул, то тот лист с автографом Платона был вырезан.
Филарет и позднее останавливал, ограничивал, запрещал, увольнял... Ниже еще будет у
нас идти речь о его недоброй роли в судьбе выдающихся московских богословов. Но при
этом много работал, писал книги, ревностно руководил епархией, много способствовал
материальному благополучию духовной академии и семинарий, часто исполнял функции
старцев, помогая нравственно, да иногда и денежно, многочисленным просителям.
А были ли среди иерархов не только умные, но и оригинальные, не подчинявшиеся
стандартным канонам личности? Единично были. Назову, например, Иоанна, в конце
жизни епископа Смоленского (в миру Владимира Сергеевича Соколова; 1818—1869).
Человек во многом загадочный, мало исследованный; воспоминания, где речь идет о нем,
как правило, содержат намек на страстный характер, болезненное недовольство
окружением, трагическое мироощущение. Из деяний его известно руководство, в
бытность Иоанна ректором Казанской духовной академии (с 1857), журналом
«Православный собеседник» (1855— 1917); Иоанн был хорошим проповедником,
включавшим в свои беседы злободневный мирской материал, и хорошим публицистом, он
сделал журнал живым, популярным, читаемым не только в церковной среде. Именно
Иоанн уговорил профессора своей академии А. П. Щапова произнести ставшую известной
актовую речь об освобождении кресть-
128
ян в 1861 г. А затем Щапов, тоже весьма не стандартный богослов, выступил с гневной
антиправительственной речью на панихиде по убиенным жителям села Бездна Ка-
занской губернии (взбунтовавшиеся крестьяне были расстреляны карательной ротой
солдат), и Щапов был лишен профессорской кафедры и выслан из Казани...
В иерархической пирамиде было трудно существовать владыкам, но еще труднее
приходилось ученым богословам, творческим личностям, пытавшимся в обстановке
консервативных идеологических правил, жесткого бюрократического,
формализованного фона оживить в теории и на практике мертвую букву
традиционализма. Остановлюсь на трех наиболее ярких фигурах.
Никита Петрович Гиляров-Платонов
3
(1824—1887), сын коломенского священника,
блестяще, первым магистром, окончил Московскую духовную академию (1848) и был
оставлен при ней на кафедре учений о вероисповеданиях. Разносторонне
образованный ученый (у него есть серьезная — еще студенческая! — работа о Гегеле и
современной философии, труды по лингвистике, по политэкономии), он, естественно,
больше всего занимался вероисповеданиями (старообрядцы, иудейство).
Во время Крымской войны распространились слухи, что задунайские староверы —
предатели, помогают турецким войскам, Николай I требовал суровых мер; Гиля-ров, в
противовес, составил обширную записку о раскольниках, основательно, с
историческим экскурсом, написал
3
Вторая часть фамилии «Платонов» у выпускников Московской духовной академии означает, что
это стипендиат митрополита Платона. Митрополит в 1789 г. положил в Опекунский Совет 4000
рублей ассигнациями, чтобы на проценты (200 руб. в год) содержать пять студентов, которые
должны были отвечать следующим условиям: только бедные; наилучшие нравом и учением;
дающие подписку, что не выйдут из духовного сословия. Стипендиаты получали отдельную
келью, улучшенные питание и одежду. Постепенно ценность рубля падала, к середине XIX века
удавалось содержать всего одного студента. В 1860 г. из Академии был выпущен последний
стипендиат — А. М. Иванцов-Платонов, о котором пойдет речь ниже.
129
целое исследование, смысл которого — в необходимости не суровых, а гуманных мер.
Это произведение очень не понравилось митрополиту Филарету, и Гиляров был изгнан
из Академии.
Он, нарушив заповедь митрополита Платона, вышел из духовного сословия.
Сблизился со славянофилами, печатался в их журнале «Русская беседа». Служил

цензором в Петербургском комитете, за слишком либеральное отношение к статьям в
защиту крестьян был и оттуда уволен. В 1863 г. митрополит Филарет, совесть
которого, видимо, не была спокойна, помог Гиляррву получить должность
управляющего Синодальной типографией, откуда тот ушел спустя пять лет и потому,
что не уживался с церковными чиновниками, и по позитивной причине: с 1867 г.
Гиляров стал издавать в Москве газету «Современные известия», соединяющую
церковные и светские темы и события. Издавал он ее 20 лет, но в бурных поре-
форменных условиях умная, спокойная, умеренно консервативная газета не была
нужна ни левым, ни правым, тираж был мизерный, цензура придиралась варварски.
Гиляров ухлопал на газету все свои сбережения, дело доходило даже до описи
имущества. Он познал настоящую бедность, но не сдавался, даже пытался еще
издавать, в добавление к газете, еженедельный журнал «Радуга». Когда умер М. Н.
Катков, Гиляров был один из претендующих на издание газеты «Московские
ведомости», поехал хлопотать в Петербург и, разумеется, получил отказ. По-
трясенный, он вернулся в гостиницу и в тот же день скончался — сердце не
выдержало.
Некоторую известность за пределами газетных публикаций Гиляров-Платонов
приобрел лишь в конце жизни (в 1886 г. издал замечательные воспоминания о детстве
и отрочестве — «Из пережитого»), а еще больше — посмертно; в 1899—1900 гг. К. П.
Победоносцев издал двухтомник его трудов, в 1905—1906 гг. вышел еще другой его
двухтомник, специально религиозный — «Вопросы веры и церкви».
- 810
130
Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835— 1894), сын священника из Курской
губернии, тоже окончил Московскую духовную академию, уже студентом начав
печататься в славянофильской «Русской беседе» (интересная статья «О положительном и
отрицательном отношении к жизни в русской литературе», 1859). Магистерская
диссертация выпускника Академии («О православии») не понравилась митрополиту
Филарету, поэтому путь в родную alma mater ему был закрыт, но его с удовольствием
приняла Петербургская духовная академия, где он трудился в качестве бакалавра, а потом
профессора на кафедре церковной истории.
Но Иванцова тянуло в славянофильскую Москву, он в 1863 г. переехал в древнюю
столицу, принял священство, преподавал Закон Божий в Александровском военном
училище (выпустил несколько брошюр — нравственные наставления будущим офицерам,
объяснения христианских норм, враждебность им дуэлей и т. п.). Много лет печатался в
церковном журнале «Православное обозрение», а с 1869 г. стал его соредактором. Ратовал
за сближение «между духовенством и обществом», за связь христианства с современной
наукой, боролся с мракобесом Аскоченским, спорил с националистическим уклоном
поздних славянофилов.
В 1872 г. известный историк С. М. Соловьев, тогда ректор Московского университета,
пригласил Иванцова возглавить кафедру церковной истории (докторская диссертация
Иванцова — «Ереси и расколы первых трех веков христианства»). Слава Богу, в целом
научная деятельность Иванцова-Платонова не была задавлена, он смог утвердиться в
светском университете, в этом отношении его судьба сложилась более удачно, чем у Гиля-
рова-Платонова, но отлучение от Московской духовной академии, наверное, надолго, если
не до самой кончины, ранило его душу.
Еще более драматична жизнь Александра Матвеевича Бужарева, в монашестве
архимандрита Феодора
131
(1822-—1871). Сын сельского дьякона, он блестяще учился в Тверской семинарии и
Московской духовной академии, которую окончил в 1846 г. уже монахом. Был ос-
тавлен при Академии, защитил магистерскую диссертацию, возведен в сан
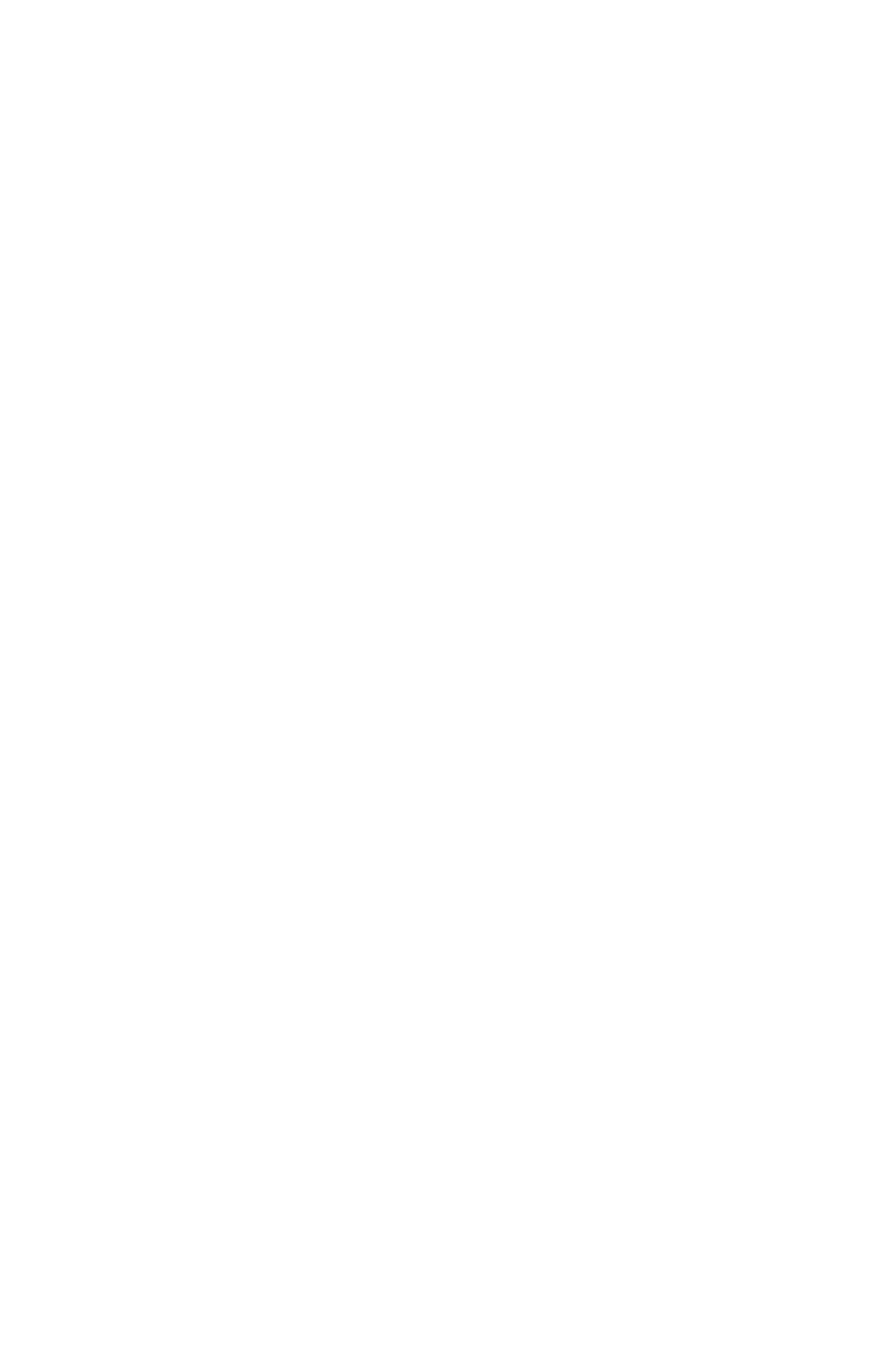
архимандрита, стал одним из самых молодых профессоров Академии и одним из
самых любимых и уважаемых студентами. Делать бы ему спокойную карьеру, ученую
или административную, но слишком живая была душа у молодого архимандрита. Он
задался великой целью засыпать глубокий ров между церковью и мирской жизнью,
способствовать внедрению настоящих, а не лицемерных христианских принципов в
жизнь мирян, чтобы вся духовная и материальная их жизнь была пронизана учением
Христа. А для этого он и сам «внедрялся» в мир, проповедовал, учил, писал
публицистические статьи. Он познакомился с Гоголем, приводил его к студентам
своей Академии, написал большой труд «Три письма к Гоголю», который хотел
опубликовать. И тут началось одергивание неуемного отца Феодора.
Митрополит Филарет, вначале очень доброжелательно отнесшийся к талантливому и
перспективному преподавателю Академии, не только запретил печатание «Писем...»,
но и был крайне недоволен вообще дружбой архимандрита со светским писателем, да
и был недоволен его богословскими трудами. Не возникал ли у Филарета сложный
комплекс притяжения и отталкивания? Ведь главные мысли Феодора, красной нитью
проходящие сквозь все его произведения, — это духовная и душевная жизнь каждого
индивидуума во Христе и стремление всю мирскую жизнь сделать христианской,
сблизить церковь с миром. Первая половина, идея «внутреннего Бога», Филарету
могла напомнить его юные тирады в проповедях, вторая же была ему всегда чужда.
Возможно, этим объясняются и суровые акции Филарета, и его отдельные добрые
порывы к о. Феодору, вплоть до материальной помощи несчастному. Позднее
митрополит запретил опубликование многолетнего труда о. Феодора об
Апокалипсисе, а чуть раньше удалил
132
его из Москвы, содействуя переводу о. Феодора в Казанскую духовную академию, где
опальный архимандрит, по контрасту с любящими его студентами, вызвал неудовольствие
местного начальства — и снова был через несколько лет переведен, на этот раз —
духовным цензором в Петербург. И здесь цензорский либерализм и полемика с рели-
гиозными монстрами типа Аскоченского окружили его весьма недоброжелательным
отношением консервативных церковных кругов, начиная с митрополита Петербургского
Исидора. На этот раз о. Феодора уже по-настоящему сослали — в Никитский монастырь г.
Переславля. Между тем опальный ученый усердно работал, с трудом публиковал книги и
статьи на богословские, литературные, общественные темы. Его травил и оскорблял
Аскоченский, к нему придиралась цензура. Последней каплей, переполнившей чашу
терпения этого доброго, безответного человека, стало запрещение книги об Апокалипсисе.
О. Фео-дор решил, что монаху, даже ученому, невозможно осуществлять заветную
жизненную программу — рблизить мир с церковью, и он подал прошение о снятии сана,
не только монашеского, но и вообще духовного. Кажется, это был уникальный случай (мы
знаем лишь еще один: см. ниже о судьбе о. Валериана Орлова) — известный богослов и
преподаватель, архимандрит подает просьбу об «увольнении»! Это все равно, что в
советское время профессор университета подал бы заявление о выходе из партии.
Церковные бюрократические инстанции больше года мучили опального архимандрита:
документы курсировали между Синодом и Владимирской консисторией (Перес-лавский
монастырь относился к Владимирской епархии), несколько раз иерархи пытались
«увещевать» строптивца — но в конце концов разрешили снять сан, варварски наказав
при этом Бухарева: его лишили ученой степени и запретили жить в тех епархиях, где он
был монахом: в Московской, Петербургской, Казанской и Владимирской. А ведь это
событие происходило в 1863 г., в самой гуще либеральных реформ!
133
Бухареву улыбнулось личное счастье: его духовная воспитанница Анна Сергеевна
Родышевская, институтка, дочь помещика, уездного предводителя дворянства, во-

преки решительному сопротивлению родственников, вышла замуж за ставшего
именоваться мещанином, «сыном дьякона» и разделила с ним все горести
полуголодного существования, ибо, несмотря на активнейшее творчество, издание за
свой счет книг и брошюр, Бухарев, подвергаемый насмешкам и травле с двух сторон
(церковные ретрограды и радикальные публицисты), не имел успеха как автор, его
труды не раскупались. Доконала Бухарева чахотка, он скончался, прожив после
монашества всего 8 лет. Вдова, а потом Розанов, Бердяев и особенно Флоренский
много сделали для восстановления памяти этого замечательного человека.
Бухарев был настолько внутренне светлым и крепким, что никакие беды не сломили
его нравственно. Но далеко не все были такими твердыми. Судьба Василия
Александровича Орлова, в монашестве Валериана (начало 1830-х гг. — 1879),
наверное, характерна для таких неустойчивых лиц. В 1855 г. он блестяще окончил
первым магистром Петербургскую духовную академию, незадолго до окончания стал
монахом. Существует легенда, что инспектор Иоанн (будущий епископ Смоленский,
мы о нем уже говорили), узнав о буйной студенческой попойке, в которой участвовал
Орлов, предложил ему на выбор: быть исключенным из Академии — или же принять
постриг; Орлов выбрал последнее. Был оставлен при Академии, преподавал, затем был
приглашен профессором в Киевскую духовную академию, стал также инспектором, т.
е. вторым лицом после ректора, вызывал восхищение студентов своими
содержательными и яркими лекциями... Но талантливый молодой богослов, видимо,
не мог сдержать человеческих порывов, стал попивать, его отстранили от
преподавания, ему грозил монастырь — но он предпочел в 1859 г. снять сан. И дальше
началось падение. Орлов оказался в Полтаве, его приютил преподаватель семина-
134
рии, которому магистр помогал проверять письменные работы, потом он скитался по
другим домам, будто бы помог одному преподавателю написать диссертацию, жил у зна-
комых крестьян в качестве домашнего учителя детей, писал в петербургские газеты
очерки-корреспонденции о полтавской жизни. Но алкоголь выбивал его из колеи, он
опускался все ниже и ниже. Он уже за стопку водки делал за семинаристов домашние
задания, а потом и это отпало; работал грузчиком... В некрологе «Загубленная жизнь»
некоего Юсковского («Церковно-общественный вестник», 1880, № 6; 13 января) так
описываются последние дни бывшего профессора: «... он проводил где день, где ночь (...)
его можно было встречать в ободранном зипунишке, в куцых панталонах с дырами на
обоих коленах, в рваном сапоге на одной ноге и в опорке-калоше на другой. Головной
убор его составляла фуражка с ворохами торчащей пакли (...) Зимой в трескучие морозы
он кутался в подбитую ветром бурку, подаренную какие-то сердобольным семинаристом».
Он умер пьяным на улице, под забором.
* * *
Если привилегированным слоям духовенства жилось не сладко, то что же говорить о
простых смертных.
Главная беда низших слоев духовенства заключалась в еще большем их бесправии, в их
полной зависимости от бюрократического аппарата верхов. Взятки процветали и в
духовной среде. От какого-нибудь письмоводителя при архиерее или от мелкого
консисторского чиновника могла зависеть судьба сельского, да и городского священника
или дьякона: получение места, продвижение по службе, получение наград и знаков
отличия — за все нужно было платить. Даже сдача в епархиальном центре ежегодных
отчетов провинциальных приходов сопровождалась подношениями. Много было и
косвенных взяток. Например, при объездах архиереем своей епархии его обычно
сопровожда-
135
ла свита: ключарь, письмоводитель, протодьякон, иподьяконы, келейники и т. д. — и всю
эту ораву сельский и городской причт должен был поселять, поить и кормить столько

дней, сколько заблагорассудится иерарху.
Потом, конечно, унижала священников обязанность, нарушая святую тайну исповеди,
доносить по начальству о лицах, сомнительных в социально-политическом плане. Унижал
идеологический контроль над самими священниками. В 1821 г. вышло распоряжение
Синода: священнослужитель, желающий произносить проповедь, обязан показать ее
конспект епархиальному начальнику. Кажется, это распоряжение не было отменено и
позже, хотя вряд ли оно в полной мере выполнялось, особенно при либеральном духе
времени Александра П. В России издавалось во всех сферах очень-много законов, которые
никем потом не выполнялись. Но они висели дамокловым мечом над подчиненными и
создавали психологическое напряжение, неуютное ожидание возможной кары.
Униженное административное состояние духовенства усиливалось трудным
материальным положением: ведь благополучие церковного причта зависело от вкладов
прихожан, начиная от пожертвований и кончая платой за требы (крещение, свадьбы,
похороны, поминовение). И если в городах можно было надеяться на относительно
крупные вклады, то сельский причт, особенно в бедных районах страны, в крестьянском
окружении, жил на голодном пайке. Можно представить, как мучительно собирались
гроши для подношений. Неоднократно варьировались в воспоминаниях рассказы, как
отправляется учиться в семинарию (ясно, в губернский город) сын сельского дьячка: в
единственной рубашонке, босиком или в лаптях, с несколькими медяками в кармане.
Низшее и среднее образование дети церковных служителей, как правило, получали в
духовных училищах и духовных семинариях. Лишь семинарское образование давало
бесспорное право претендовать на место священника. К концу XIX века в России было 58
семинарий с 19 тыся-
136
нами учащихся и 183 училища с 32 тысячами. Девочки обучались в 49 епархиальных
женских училищах (13 тысяч учащихся). Семинарии были почти во всех губернских
городах страны, а в Московской губернии их было даже две: одна в самом городе, вторая,
Вифанская, — в Вифан-ском монастыре близ Троице-Сергиевой лавры.
В училищах в разное время было то двух-, то четырехлетнее обучение, в семинариях в
течение всего XIX века — шестилетнее. До реформ 1860-х гг. семинарский курс делился
на три двухлетних класса: словесный, философский, богословский. Окончившие два
класса могли уже быть дьяконами. В результате реформ в семинарии сделали, подобно
гимназиям, шесть однолетних курсов. Надо сказать, что семинарская учебная программа
была очень насыщенной: в нее входили все предметы гимназического курса (разумеется, с
некоторым сокращением программы естественных и точных наук), но, кроме того —
большой объем богословских предметов, философия, психология. После отмены
сословных границ в семинарию (и в духовную академию) мог поступить любой
гражданин.
Дети, приехавшие из деревни, жили в общежитиях (бытовало латинское наименование их
— бурса). Конечно, большинство из них содержалось бесплатно; в разное время в
некоторых семинариях с детей состоятельных родителей брали символическую сумму (в
Вифанской семинарии в 1840-х гг. брали по 20 рублей в год), но в основном учащихся
содержал Синод, который отпускал очень мало денег. Возможно, еще какую-то долю
отпускаемого прикарманивали стоявшие у кормушки служители. Стандартная еда была —
похлебка или щи, иногда с мясом, и каша с маслом (в пост — щи всегда без мяса и каша с
конопляным маслом), утром и вечером — просто по краюхе черного хлеба, запиваемого
водой или кипятком. Одежда — летом нанковый халат, зимой — тулуп, обувь — сапоги,
смазанные дегтем, и валенки зимой. А в некоторых семинариях принятые на казенный
счет вообще не получали одежды и обуви. Летом все ходили босиком или в лаптях.
137
Учащихся всюду мучили розги, употреблявшиеся при малейшей провинности, в том числе
и при плохой подготовке уроков. Мучила зубрежка. Но особенно мучила деспотическая

иерархия среди самих учеников. Во многих семинариях старшие и сильные издевались
над младшими и слабыми, эксплуатировали их. А семинарское начальство использовало
сильных, также как и доносчиков, чтобы держать массу учащихся в узде и в страхе.
Военно-дисциплинарный дух николаевского режима широко и глубоко распространился
по России, затронув и духовную сферу, духовные учебные учреждения.
Любопытно, что бесправие распространялось даже на фамилии учащихся. Не родители, не
крестные, не крестивший младенца священник определял его фамилию, а начальство
училища, семинарии, академии. Добрую половину учащихся переиначивали,
придумывали им новую фамилию. Наименования заимствовали из местностей, откуда
прибыл учащийся, из нравственной сферы (Добролюбов, Модестов, Надеждин,
Сперанский), из названия церквей, церковных праздников и т. д. Дед В. Г. Белинского был
Трофимов, из села Белынь, поэтому отец критика в семинарии получил фамилия
Белынский, которую уже сам критик переделал на «мягкий» вариант. Интересна история
известной семьи профессора И. М. Сладкопевцева: отец его был Герасимов, а два старших
брата в училище получили почему-то разные фамилии: Грандов и Фортунатов; в
семинарии их переименовали за хорошие голоса в Певницкого и •Сладкопевцева, а уже
все следующие братья становились Слад-копевцевыми. Отец Гилярова-Платонова был
Никитский, а сына в Коломенском училище переименовали в Гиля-рова за веселый нрав
(от латинского hilaro, веселить); вторую же фамилию он получил, как говорилось, будучи
стипендиатом митрополита Платона. Некоторые фамилии по происхождению
таинственные. Первоначальная фамилия Аскоченского была Оскошный, потом она
почему-то превратилась в Отскоченского (вот уж было бы соответствие характеру
безумца!), и лишь на третьем этапе «облагозву-
138
чена». Или еще пример. Как-то в домашнем архиве я нашел справку о крещении моего
отца (1884 г.): его крестил священник А. Гибралтарский — что бы это значило? Ясно,
что начальственные переименования создавали у детей ощущение полной рабской
зависимости: даже дедовское имя не можешь сохранить! — и потом ощущение
непрочности, зыбкости бытия: все переменчиво, нет ничего прочного и заветного.
Любопытно однако, что ратовавший за прочность устоев митрополит Филарет упрекал
И. А. Крылова, что он дает медведю, кошке, козлу, свинье христианские имена
(Мишка, Машка, Васька, Февронья), и предлагал баснописцу называть животных
мифологическими греческими именами.
Дикие нравы семинарского быта корежили и тела, и души учащихся. Н. Г.
Помяловский с потрясающей силой, пусть и утрированно, изобразил это в «Очерках
бурсы» (1863). Причем писатель по своим личным воспоминаниям нарисовал картины
жизни столичной семинарии — что же говорить о провинции! Конечно, были и
исключения (известны, например, очень теплые отзывы воспитанников Владимирской
семинарии о своей «бурсе», кроме того, мальчики, жившие у родителей или у
родственников, не испытывали всех тех материальных и моральных бед, которые
выпадали на долю насельников общежитий), но не они определяли облик семинарий.
Изуродованные души воспитанников потом отплачивали России тяжелейшими
последствиями. Много семинаристов шло в подпольные кружки, в «нигилисты», в
«революцию», часто соединяя радикальные идеи с цинизмом и беспощадностью.
Многие — в журналистику, опять же радикальную, нигилистическую, с издевками над
религией, над многовековой культурой, с наивной верой, что главная задача —
разрушить до основания старый мир... Любопытно, что распоясанные глумители ино-
гда возникали и в противоположном консервативном лагере. Бывший семинарист и
даже академик, т. е. кончивший духовную академию, Виктор Ипатьевич Аскоченский
(1813—
139
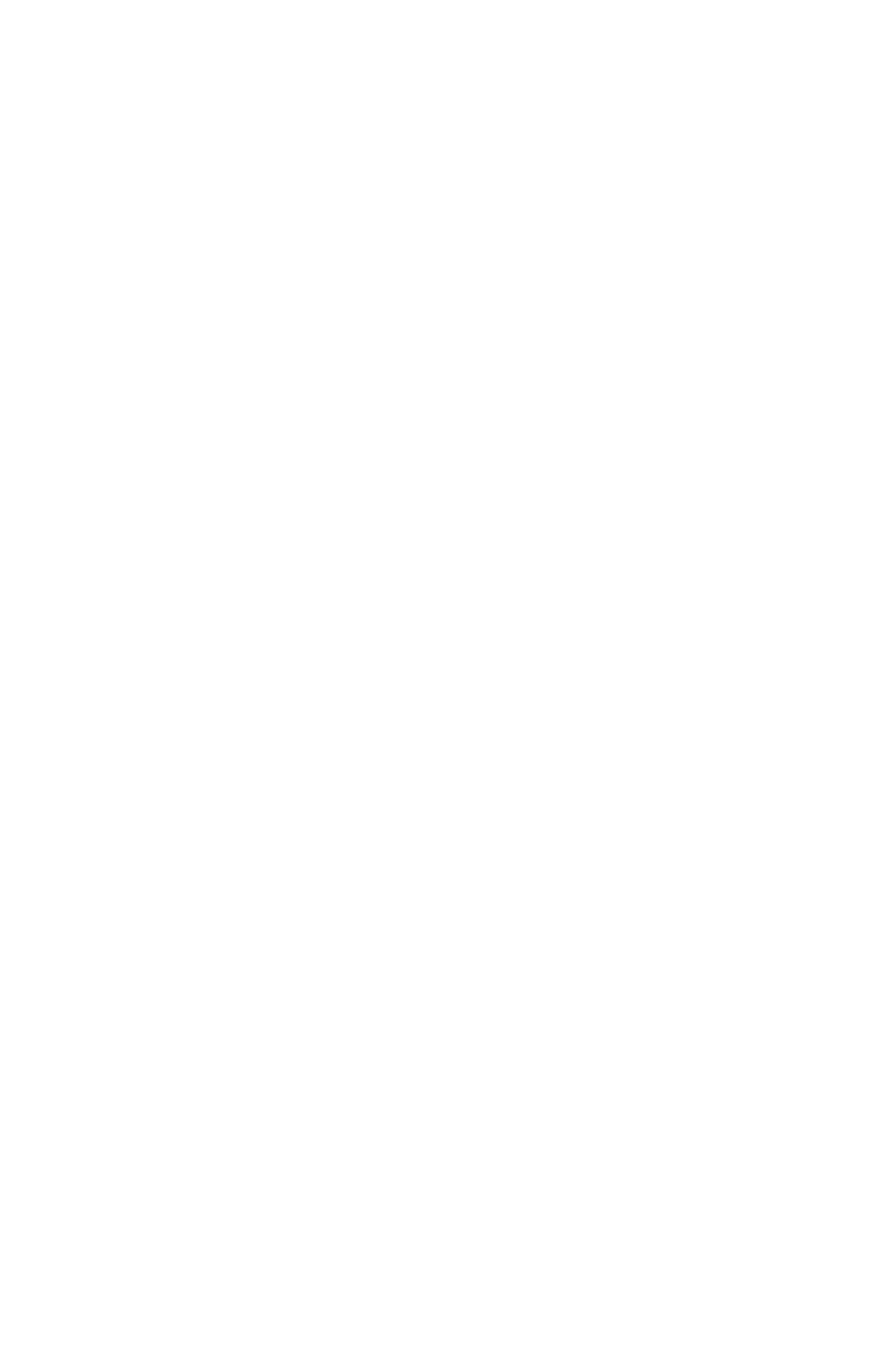
1879) из-за неуживчивого характера сменил много церковных и светских должностей, из-
за того же характера был очень несчастлив в семейной жизни (первая жена его умерла в
1844, вторая — в 1847 г. — какая-то странная ускоренность кончин), был жаден, коварен,
лицемерен... Наконец, он нашел себя в качестве ниспровергателя в художественных
произведениях (роман «Асмодей нашего времени», 1858), в публицистике, стал разносить
в пух и прах либеральное и демократическое движение, воспрянувшее при Александре П.
Он завел еженедельник «Домашняя беседа» (1858—1877; полужурнал-полугазета), где
начал хамским, развязным тоном клеймить, главным образом, радикальную молодежь, но
таким же стилем он писал инвективы против религиозных нестандартных мыслителей;
особенно доставалось от него отцу Феодору (Бухареву), о чем у нас уже была речь выше.
За живое стремление засыпать глубокий ров между церковью и светской культурой
архимандрит Феодор получил от Аскоченского следующую «награду»: «...человек,
ратующий за православие и протягивающий руку современной цивилизации, — трус,
ренегат и изменник». Характерно, что религиозный дикарь пользовался
благорасположением чиновников Синода, петербургского митрополита Исидора, вообще
церковных иерархов. Всемогущий митрополит Московский Филарет, с одной стороны,
просил петербуржцев сдерживать порывы Аскоченского, а, с другой, когда тот, дрожа от
страха, посетил преосвященного, владыка подарил ему иконку и 100 рублей... Аско-
ченский завершил свою карьеру сумасшедшим домом. Конечно, достаточно прочитать
почти любую статью хозяина «Домашней беседы», чтобы увидеть, что это не совсем
нормальный человек, но его долго терпели!
На бытовом уровне психологические травмы могли приводить священнослужителей к
злоупотреблению алкоголем, к циническому или равнодушному отношению к своим
обязанностям, а иногда и создавали совсем уже изломанные, вызывающе ненормальные
характеры. Академик И. П. Павлов интересно рассказывает в воспоминани-
140
ях о дяде Иване Дмитриевиче, сельском священнике, разжалованном за хулиганство в
пономари. Он во время отпевания покойника мог незаметно унести крышку от гроба и
где-то ее спрятать, чтобы потом вышел конфуз. И никакие эпитимии и разжалования
на него не действовали.
Из нравственно изломанных семинаристов, да еще и имеющих какие-то генетически
отвратительные черты гаера, шута и человеконенавистника, черты, имеющие не-
которое сходство с обликом Аскоченского, особенно выделяется Николай Васильевич
Успенский (1837—1889), двоюродный брат знаменитого и благородного Глеба Ива-
новича. После Тульской семинарии он пошел в петербургскую Медико-
хирургическую академию, где вскоре был с позором изгнан за чуть ли не нарочитую
порчу анатомических инструментов. Пытался учительствовать, но всюду ссорился с
начальством и коллегами — и или изгонялся, или сам убегал. Создал несколько
талантливых очерков и рассказов о простолюдинах, его рассказы восторженно
приветствовал Чернышевский: новое, правдивое, неприкрашенное слово о народе! Ни
Чернышевский, ни Некрасов, пригревшие молодого писателя, не заметили издевки и
глумления над народом: Успенскому было все равно, над кем потешаться, над
крестьянином или над Тургеневым с Л. Толстым. Вскоре уровень и идеология
писателя были осознаны демократическими редакциями, и он был всюду изгнан.
Успенский стал сильно пить, пошел по Руси бродяжничать и скоморошничать. Добыв
с помощью Тургенева лошадь, научил ее пить водку и закусывать колбасой и
демонстрировал ее по городам и весям. Показывал с прибаутками познавательные
парижские картинки. Таскал с собой дочку, загнанную, забитую девочку, заставлял
бедняжку плясать под гармошку. Отличился публикацией в подоночном московском
журнальчике «Развлечение» клеветнических «воспоминаний» о петербургских
писателях. Кончил жизнь тем, что ночью, под забором зарезался тупым перочинным

ножиком — судьба еще более страшная, чем у спившегося Валериана Орлова.
141
Конечно, были крепкие натуры, глубоко верующие люди, которые и сквозь семинарское
чистилище проходили не изуродованными. Тем более те, которых грязь семинарского
быта почти не затрагивала, — это в основном дети городских священнослужителей,
жившие и воспитывавшиеся в домашних условиях, многие из них и сами потом
становились городскими иереями и протоиереями. Их значительно меньше давила
иерархическая бюрократическая пирамида и значительно меньше заедал быт, чем
сельских священников. Иногда семья воспитывала сразу несколько талантливых детей.
Приведем лишь один характерный пример. Сын нижегородского протоиерея Валериан
Викторович Лаврский (1835—1918), семинарский друг Н. А. Добролюбова (тоже сына
нижегородского священника), оказавший на него значительное влияние, учился потом в
Казанской духовной академии, где стал верным и толковым учеником архимандрита
Феодора (Бухарева), а потом был заметным провинциальным священником и
семинарским профессором, прекрасным проповедником, издавшим объемистую книгу
своих проповедей; оставил также ценнейшие воспоминания об о. Феодоре. Сестра же
Лаврского Александра Викторовна стала женой знаменитого Г. Н. Потанина, была
неутомимой путешественницей, этнографом, оригинальной писательницей. А младший
брат Константин Викторович (1844—1917) — известный журналист, публицист, ли-
тературный критик, одно время — участник революционного движения.
Иногда человеческая прочность и талантливость передавалась в священнических семьях
на протяжении нескольких поколений. Возьмем к примеру того же Н. А. Добролюбова. У
его отца, как и у Лаврского, нижегородского протоиерея, было, кроме первенца Николая,
еще семеро детей, главным образом дочерей, и у некоторых сестер критика, выросли
очень талантливые дети и внуки. Н. А. Добролюбов мог бы гордиться таким
племянником, как выдающийся математик академик В. А. Стеклов, а также из-
142
вестными родственными и свойственными династиями Виноградовых (из них особенно
выделяется нижегородский педагог, краевед и книгоиздатель В. И. Виноградов),
Рюриковых, Рождественских (наиболее известен дирижер Г. Н. Рождественский).
Таким образом, несмотря на все трудности, в России исподволь возникла добротная каста
честных, нравственно-духовно крепких, образованных священнослужителей, которые и в
семье, и в приходе создавали такую же прочную и возвышенную ауру, воспитывающую
настоящих людей, пополнявших потом и духовную, и светскую среды. Конечно, были
такие личности и среди сельских священников. Отец Чернышевского, Гаврила Иванович,
сын сельского дьякона, вырос в глуши и стал затем городским интеллигентом в первом
поколении, но он оказался очень глубоким и гармоничным человеком; саратовский
губернатор, лишь досконально проверив его, как бы мы сказали, «нравственный и
образовательный уровень», пригласил его домашним учителем для детей. Но все же
городские условия были несравненно более благоприятные для появления и развития
духовных гнезд, священнических семей, где дети получали воспитание и образование
почти на уровне хороших дворянских домов. С раннего возраста детей учили читать. У
городских священников, как правило, были неплохие домашние библиотеки в несколько
десятков или даже сотен книг. Главное же, воспитательно действовала сама атмосфера
прочного семейного быта с традиционными нравственными правилами, со строгим
соблюдением постов и праздников.
В таких семьях вырастали религиозные, нравственные, надежные дети. Они могли
продолжать потом отцовскую линию, оставаясь в духовной сфере, а могли переходить и в
«мир», умножая светских деятелей культуры. Если дети желали продолжить отцовское
дело, то они после окончания духовной семинарии принимали священнический сан.
143
Семинаристы же, не желающие служить в церквах, а намеревавшиеся посвятить себя
научной, учебной деятельности или возвыситься до черного монашества, до владык,

мечтали о поступлении в духовные академии. Но это было непросто. Семинарское
начальство официально отправляло в академии лучших учеников, а остальные должны
были участвовать в больших конкурсах, далеко не все проходили строгий отбор (впрочем,
и официально посланные ученики должны были сдавать экзамены).
В дореволюционное время в России существовало четыре православных духовных
академии: Киевская, Московская, Петербургская, Казанская (конфессионально к ним
близка Армянская духовная академия в Эчмиадзине).
Самая древняя из них — Киевская. Она под названием Киево-Могилянской коллегии была
создана в 1632 г. на базе средних духовных школ по инициативе видного церковного
деятеля Петра Могилы. В 1701 г. она получила титул академии; многих выпускников этой
академии Петр I привлек в северные русские губернии, считая, что киевляне более живо
могут откликнуться на всеобщие реформы, по сравнению с консервативными северянами.
Вероятно, в самом деле, связь Киева с Западом, с поляками, с католической культурой
делала украинских «академиков» более восприимчивыми к западничеству Петра I.
В Москве из средних школ Заиконоспасского монастыря по инициативе тоже видного
церковного деятеля Симеона Полоцкого в 1687 г. была создана Эллино-грече-ская
академия, в XVIII веке до 1775 г. называвшаяся «славяно-латинской», затем — «славяно-
греко-латинской» академией. В 1814 г. она преобразовалась в Московскую духовную
академию, переведена из центра Москвы в Троице-Сергиеву лавру, где пребывает и
поныне.
В Петербурге при Александро-Невской лавре с петровской эпохи существовала
семинария, тоже потом названная «славяно-греко-латинской», а в 1788 г. — «главной»;
она была промежуточным между средним и высшим уровнем учебным заведением,
поэтому в 1797 г. была преобразована в академию.
144
Казанская академия тоже впервые была создана в 1797 г. преобразованием в нее
местной семинарии, но в 1818 — закрыта и лишь в 1842 г. открыта заново. Поэтому
фактически Казанская духовная академия оказалась самой молодой из русских
православных академий. Бе «восточное» положение, тем более — в центре татарского
мусульманского мира, способствовало превращению ее в идеологический форпост
православия в восточной части Российской империи. Поэтому студентов учили
специально миссионерским аспектам будущего служения, да и были открыты особые
отделения: антираскольничье, антимусульманское, антибуддийское. Соответственно
было хорошо поставлено преподавание языков: татарского, арабского, монгольского,
калмыцкого.
Во всех перечисленных академиях срок обучения был четырехлетний; он разделялся
на два двухлетних класса. В академиях преподавали выдающиеся богословы России.
Особенно славилась, в параллель к Московскому университету, Московская духовная
академия, где отличались такие знаменитые профессора, как первый наш
православный философ Федор Александрович Голу-бинский (1797—1854) и кумир
студентов, энциклопедически образованный, историк церкви, ректор академии
Александр Васильевич Горский (1812—1875).
Обстановка в академиях была совершенно не сопоставима с семинарской, здесь не
было диких нравов бурсы, розог и т. п. Самые большие нарушения добропорядочности
у будущих владык и профессоров заключались в тайных кутежах и в картежной игре.
Конечно, дисциплина была довольно суровая, приближавшаяся к военной: в комнатах
(их уже трудно назвать кельями!) жили по 8— 10 человек; в 6 утра (в иные
десятилетия — в 7) ужасно голосистым звонком будили студентов; после молитвы —
поход в столовую, завтрак (почти семинарский, только хлеб не черный, а белый, а
запивали его кипятком из самовара или куба; чай пили свой, у кого водились деньги);
с 8—12 — лекции, в 12 — обед (значительно лучше семи-

145
нарского: супы мясные или рыбные, котлеты, каши, кисели; в праздничные дни — пироги
с кашей и жаркое), до 2-х часов — отдых, с 2 до 4 опять занятия, в 4 «перекус» и чай, у
кого есть средства, с 5 до 8 — индивидуальные занятия в учебных комнатах, в 8 — легкий
ужин, с 9 до 10 вечера — опять занятия, в 10 вечерняя молитва. Если только инспекторы и
дежурные были нерадивые, то некоторые студенты просыпали утренний завтрак или даже
первую лекцию, проникали в спальню и днем, хотя это не поощрялось, полагалось даже
запирать спальни в дневное время. Если не было карманных денег, то молодым людям
было голодновато, но имевшие средства роскошествовали: всегда ходили булочники со
сдобной выпечкой, разносчики с молочной продукцией (некоторые студенты и в пост
тайно попивали молочко, а наиболее циничные умудрялись отлучаться в ресторан за
мясными блюдами).
Главный же пафос в академиях был учебно-научный. Требования на экзаменах строгие,
студенты в общем постоянно занимались, да и многих из них не надо было подталкивать
— они от природы, от Бога были любознательные, творческие, с удовольствием
впитывали знания и новинки научной работы.
В заключение этого раздела — несколько слов об учебных заведениях других конфессий.
Близкая к православию армянская (грегорианская) церковь имела несколько семинарий, а
в 1874 г. в Эчмиадзине открылась духовная академия.
У католиков была Варшавская академия, закрытая в 1867 г. (после польского восстания
1863 г.). Кроме нее при Виленском университете существовал на каком-то полулегальном
положении богословский факультет — но университет был за вольномыслие закрыт в
1832 г. По указу Николая I в 1833 г. на основе названного факультета и Главной
Виленской семинарии образована Римско-католическая духовная академия; в 1842 г. она
была переведена в Петербург: здесь легче было за ней присматривать! Таким образом, в
последней трети XIX веке в Рос-
146
сии у католиков была лишь Петербургская академия. Обучение в ней было 4-летнее.
Протестанты получали высшее образование на богословском факультете Дерптского-
Юрьевского университета.
У мусульман была по всей стране обширная сеть высших заведений: медресе'. Особенно
славились древние, основанные еще в XV веке среднеазиатские медресе: в Ташкенте,
Самарканде, Бухаре, Коканде. Курс обучения делился на три класса, но в классе учащиеся
могли находиться несколько лет — пока не выучат материалы программы. Преподавание
велось на арабском языке, как бы латинском языке Востока. Обучению в медресе
предшествовало пребывание в низших духовных школах — мэктэбе'.
* * *
Перейдем теперь к рассмотрению самих неправославных конфессий, к которым и у
правительства, и у господствующей церкви было весьма настороженное, да и просто
негативное отношение: в унитарном государстве нельзя было терпеть влияния и успеха
какого-либо вероисповедания, помимо православного. Законы постоянно подчеркивали
преимущества православных людей. Казалось бы, на царской службе могли быть равны
все лица христианских вероисповеданий, но Боже упаси заикнуться о переходе в
католичество или лютеранство! Законы неоднократно подтверждали строгое запрещение
выхода из православия. Даже инославным (т. е. христианам неправославных конфессий)
запрещался выход из христианства. А переход инославного человека в другое иносла-вие
возможно было лишь с разрешения министра внутренних дел. Переход же нехристианина
в инославную веру требовал согласия самого императора! Исключения делались лишь для
евреев, которые могли довольствоваться разрешением министра внутренних дел, и для
нехристиан Кавказа, которым требовалось разрешение главнокоман-
147
дующего Кавказским краем. Зато всячески поощрялся переход кого угодно в православие
— тут никаких разрешений не требовалось. Отметим, что в законах царской России не
